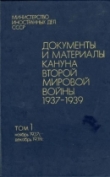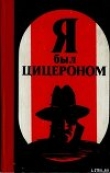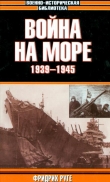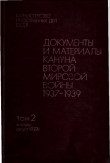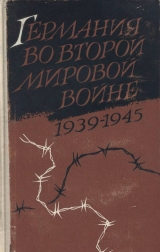
Текст книги "Германия во второй мировой войне 1939-1945"
Автор книги: Вольфганг Блейер
Соавторы: Герхард Ферстер,Карл Дрехслер
Жанры:
Военная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
военных результатах и в скорейшем поступлении потока
«военных трофеев», чтобы вызвать у немецкого народа
боевой дух и внушить ему уверенность в победе. Тем
силам немецкого народа, которые все же разгадали фа-
шистскую демагогию и восстали против этой войны, Гит-
лер угрожал смертью. «Кто думает о возможности сопро-
тивляться, тот погибнет»,– заявлял он.
Таким образом, демагогия и идеологическая обработка
были тесно связаны с расширением системы террора.
После 1 сентября 1939 г. гестапо арестовало тысячи
коммунистов, социал-демократов и других противников
Гитлера. Начальник генерального штаба сухопутных
войск Гальдер отмечал, что в соответствии с картотекой,
которую вела служба безопасности, подлежали аресту и
заключению в концентрационные лагеря как «первый
взнос» десять тысяч и как «второй взнос» двадцать тысяч
антифашистов. Волна террора, захлестнувшая Германию,
проводилась в соответствии с «Основами внутренней без-
опасности государства во время войны», которые Гейдрих
издал 3 сентября. Первый пункт этих основ гласил:
«Каждая попытка разлагать сплоченность и готовность
к борьбе немецкого народа должна быть беспощадно по-
давлена. Особенно срочно должны быть приняты меры к
задержанию каждого лица, которое сомневается в побе-
де немецкого народа или в вопросах справедливости вой-
ны». Там же указывалось, что руководитель государст-
венного полицейского управления несет персональную
ответственность за действенное подавление всякого анти-
фашистского движения в своем округе.
Для централизации ведомств, которым было поручено
подавление политических противников фашистского режи-
ма, 27 сентября Гиммлер предписал объединить главное
управление полиции безопасности, главное управление
безопасности рейхсфюрера СС, управление тайной госу-
дарственной полиции (гестапо) и управление государст-
венной криминальной полиции в одно главное управле-
ние имперской безопасности под руководством Гейдриха.
В высшей степени разветвленная и всеобъемлющая
система специальной и тайной полиции держала в страхе
не только народ, но и функционеров государственного,
военного и партийного аппарата. Создавался ореол везде-
сущности гестапо. Режим каторжной тюрьмы, в которую
превратилась Германия, характеризовался целой серией
террористических приказов и законов. Смертная казнь
распространялась на ряд преступлений, например пов-
реждение оборонительных средств или уклонение от сбо-
ра металла. Общение с военнопленными строго запре-
щалось, подслушивание не только вражеских, но и союз-
нических Германии иностранных радиостанций каралось
судом. Противозаконные аресты так называемых полити-
ческих противников фашистского режима усилились после
указа 24 октября 1939. г./ Указ определял: «Заключенные
в период военного времени из-под ареста не осво-
бождаются. Категорически должно быть отказано в осво-
бождении активным политическим деятелям». Противни-
ки нацизма были заключены в концлагеря, число кото-
рых после начала войны значительно возросло, а также
в каторжные тюрьмы и тюрьмы для военнопленных. На-
звания таких лагерей, как Дахау, Бухенвальд, Заксен-
хаузен, Флоссенбюрг, Равенсбрюк, Маутхаузен, а также
Нейенгамме, Штуттгоф и Аушвиц (Освепцим), стали«
олицетворением убийств и истязаний. После начала
войны положение заключенных в концлагерях еще более
ухудшилось, и зимой 1939/40 г. они находились на грани
смерти от истощения.
Для всех противников фашистского режима начало
войны означало притеснения, усиленные расистскими го-
нениями, нужду и опасность смерти. Массы немецкого
народа должны были жить по военным законам. Более
восьми миллионов мужчин до конца мая 1941 г. были
призваны в вермахт, чтобы проливать кровь на полях
сражений за интересы германского монополистического
капитала. Рабочие, крестьяне, женщины, дети и старики,
оставшиеся на родине, попадали под действие многочис-
ленных законов, которые отменяли личные свободы, и без
того в высшей степени урезанные в гитлеровской Гер-
мании перед войной.
Многие меры, принятые фашистским руководством в
последние дни августа 1939 г. и в течение первых меся-
цев войны, были спланированы в деталях в предшест-
вующие годы. Так называемый имперский совет обороны,
образованный 4 апреля 1933 г. и преобразованный 30 ав-
густа 1939 г. в совет министров по обороне империи под
председательством Геринга, издал большое количество
законов, в которое входил прежде всего закон о военном
производстве, предусматривавший на случай войны под-
чинить одной общей системе государственно-монополисти-
ческого регулирования всю экономическую жизнь. Даль-
ше имелись постановления о внешней торговле и валют-
ном фонде, рационировании товаров народного потребле-
ния, введении ордеров и карточек на средства первой
необходимости и т. д. Поэтому не удивительно, что в
две недели, с 27 августа по 7 сентября 1939 г., были
изданы предписания и постановления, которые заполнили
около 200 страниц сборника государственных законов.
Этот поток законов дает ясное представление, как
фашистское государство выполняло свои функции регули-
рования в государственно-монополистической системе.
Западногерманские историки вместо тщательного ис-
следования действий государственно-монополистических
и военных органов усиленно пытаются доказать, что Гит-
лер с 1938 г. один определял политику фашистской
Германии в важнейших вопросах. Этим отрицается клас-
совый характер фашистской диктатуры как орудия
германского империализма и милитаризма. Все попытки
свести фашизм к гитлеризму западногерманские историки
предпринимают затем, чтобы оправдать немецкую моно-
полистическую буржуазию – главного виновника пре-
ступлений 1933—1945 гг., свести ее вину к минимуму,
не вспоминать две последние войны и тем самым защи-
тить империалистический общественный строй, ставший
анахронизмом.
В противоположность этому должно быть четко уста-
новлено, что Гитлер был выдвинут как орудие, фигура
и творение немецкой монополистической буржуазии, как
ее уполномоченный, защитник, депутат и представитель
ее партии. В лице Гитлера истинные правители Герма-
нии – монополисты благодаря тому, что они поставили
его во главе своего государственного механизма, имели
всю полноту власти. Государство фашистского фюрера с
1933 по 1945 г. исполняло ту политическую форму гос-
подства, которая больше всего соответствовала растущей
концентрации производства и капитала, а также выте-
кающей отсюда концентрации власти в руках немногих
заправил концернов. Это государство было откровенным
выражением неприкрытой диктатуры самых реакционных
монополистических группировок.
В качестве аргумента, «подтверждающего мнимую ис-
ключительность» и «классовую индифферентность»
фашистского фюрера, буржуазные историки иногда
ссылаются на монополистические и милитаристские груп-
пировки, которые иногда были в оппозиции Гитлеру.
Эти круги, которые группировались вокруг бывшего на-
чальника генерального штаба Людвига Бека и обер-бур-
гомистра Лейпцига Карла Герделера, вокруг Ульриха
фон Хасселя, Иоганна Попица, Яльмара Шахта и других,
в действительности не защищали альтернативу фашист-
ской военной политики. Они выражали скорее мнение
тех империалистических кругов Германии, которые ис-
кали далеко идущего сговора с западными державами и
приветствовали антисоветские планы перед 1939 годом и
во время «странной» войны. Эта позиция стала ясной из
одного документа, который фон Хассель передал в Швей-
царию в феврале 1940 г. Д. Лонсдалю Бриану, бывшему
в близких отношениях с британским министром иност-
ранных дел Галифаксом. В документе говорилось, что
война должна быть быстро окончена, «так как сущест-
вует большая опасность, что Европа совершенно разру-
шится и прежде всего быстро станет большевизиро-
ваться».
Эти круги также выступали за экспансию германского
империализма, однако они опасались, что фашистское
руководство преждевременно, «без достаточно полного
вооружения», нанесет удар и впутается в затяжную вой-
ну на два фронта. Когда вопреки их ожиданию первые
месяцы войны прошли для гитлеровской Германии бла-
гоприятно, они не скрывали своего удовлетворения завое-
ваниями фашистского вермахта. Так, в одном из их доку-
ментов говорится, что «объединение Австрии и Судетской
земли с рейхом проведено окончательно и не должно еще
раз стоять на обсуждении».
На востоке государственная граница должна быть
установлена по рубежам 1914 г.
Эта позиция руководящих представителей господству-
ющих классов Германии наглядно показывает стремление
всех направлений и группировок монополистов к экспан-
сии и агрессии. В Герделере, Беке и лицах, приближен-
ных к ним, из которых позднее многие были в числе
заговорщиков 20 июля 1944 г., заправилы монополий
видели своего рода резерв, который должен был высту-
пить на авансцену, как только клика Гитлера окажется
больше непригодной. Ибо основная концепция этой груп-
пы отличалась лишь в некоторых деталях политической
и военной тактики от официальных целей нацистов и
тоже была насквозь империалистической. Она предусмат-
ривала проведение антидемократического и антикоммуни-
стического внутриполитического курса, учреждение воен-
ной диктатуры и даже восстановление в Германии монар-
хии. Характерно, что даже британский историк Хью
Редвалд Тревор-Ропер при сравнении военных целей
Гитлера и этой группировки констатировал: «Взгляды
Хасселя и его друзей едва ли показывали какие-нибудь
отклонения».
Склонность к дискуссиям о буржуазно-демократиче-
ской альтернативе для фашистской авантюристической
политики обнаруживалась и в кругах дворян и офицеров,
а также католических и социал-демократических против-
ников Гитлера, которые группировались летом 1940 г.
вокруг графа Гельмута фон Мольтке. По наименованию
поместья Мольтке в Крейзау в Силезии эта группа полу-
чила название Крейзауский кружок.
Для большинства группировок монополистической
буржуазии были характерны враждебность и недоверие
к трудовому народу. Они видели в покушениях и путчах
единственный путь захвата власти в свои руки и всяче-
ски препятствовали созданию народной власти. Влияния
на политику и руководство войной, а также на жизнь
народа в первые годы войны они не имели.
Положение немецкого народа определялось прогрес-
сирующей милитаризацией всей жизни и жестокими
экономическими мероприятиями. К законам, изданным пра-
вительством перед началом войны, которые прямо каса-
лись жизненного уровня всего народа, относится «Поста-
новление о временном обеспечении жизненно важных
потребностей немецкого народа» от 27 августа 1939 г.
В соответствии с этим постановлением с понедельника,
28 августа, в Германии мясо, жир, хлеб, сыр, цельное
молоко, сахар, мармелад и другие продукты питания,
эрзац-кофе, мыло и богатые жиром моющие средства,
текстиль, обувь, кожаные изделия и уголь можно было
получать только по карточкам или ордерам.
Следует сказать, что у фашистского руководства была
неуверенность не только в положительном отношении
трудящихся к продолжительной, полной лишения войне,
но также в возможностях германской экономики выдер-
жать такого рода войну.
Правда, гитлеровская Германия, развязывая войну,
могла опираться на значительный экономический потен-
циал. По производству станков она даже достигла второго
места в мире после США. Благодаря форсированным
военным приготовлениям с 1933 г. она приобрела преи-
мущество в вооружении по сравнению со всеми другими
великими державами. Однако вывод, сделанный из этого
начальником военно-экономического отдела штаба вер-
ховного командования вермахта генералом Томасом, за-
явившим, что в Германии создана самая мощная военная
индустрия в мире, был ошибочным.
Следовательно, слабости немецкой военной экономики,
которые должны были катастрофически возрасти в дли-
тельной войне, вообще не принимались во внимание.
5 ноября 1937 г. Гитлер фактически признался в провале
так называемой экономической независимости, заявив, что
в процессе выполнения четырехлетнего плана не может
быть «фактических перемен в продовольственном снаб-
жении. Поэтому экономическая независимость теряет силу
как в области продовольственного снабжения, так и в
целом».
В одной из своих речей он добавил: «Единственный
выход, который кажется нам, пожалуй, сказочным, лежит
в приобретении достаточно большого жизненного прост-
ранства. Для решения германского вопроса может быть
только путь насилия».
В пачале войны не произошло изменений в ситуации,
изложенной в этой оценке. 22 августа 1939 г. перед выс-
шим командным составом Гитлер недвусмысленно заявил:
«Наше экономическое положение является настолько
тяжелым, что мы еще можем продержаться лишь не-
сколько лет... Нам ничего не остается другого, мы должны
действовать».
Анализ состояния предвоенной германской экономики
показывает, что гитлеровская Германия не была эконо-
мически обеспечена для ведения длительной войны. Так,
количество зерна, собранного осенью 1939 г., соответ-
ствовало только половине годового урожая. Зависимость
от иностранного ввоза составляла по продуктам питания
почти 20%, по жирам – 40—50%. Вследствие этого план
снабжения во время войны предусматривал уменьшение
потребления населением мяса на 68% и жиров на 57%
от мирового уровня.
Немецкая индустрия по-прежнему в высокой степени
зависела от импорта. Так, за счет импорта покрывалось
99% потребности бокситов, 95% никеля, 90% олова,
80% каустика, 70% меди, 66% минеральных масел,
50% свинца, 45% железа и 26% цинка. Даже благодаря
громадным усилиям в производстве синтетических мине-
ральных масел, главным образом на предприятиях «ИГ
Фарбен», можно было удовлетворить в 1939 г. только
18% потребности.
Какое значение имели для вооружения, например,
железо и сталь, становится понятным из протокола засе-
дания от 17 января 1939 г. у начальника военно-экономи-
ческого отдела штаба верховного командования генерала
Томаса. На этом заседании Томас говорил о «кризисе
с боеприпасами», а представитель начальника управления
вооружения армии генерал Штуд предсказывал сниже-
ние: производства боеприпасов для пехоты с 600 млн.
выстрелов ежемесячно до 200 млн., т. е. на две трети,
бомб – на 37%, торпед и мин – на 50%.
Эти факты еще раз наглядно показывают, что эконо-
мические резервы Германии в длительной войпо должны
были исчерпаться. Фашистское руководство пыталось
избежать этого быстрыми завоеваниями в ряде последо-
вательных «молниеносных» кампаний. Этой концепцией
руководствовались не только генералы – ее осуществле-
ния также требовали и одобряли экстремистские группи-
ровки монополистического капитала. Так, выступая 28 ап-
реля 1939 г. перед генеральным советом четырехлетнего
плана, член правления «ИГ Фарбениндустри» и гене-
ральный уполномоченный по химии Карл Краух говорил:
«Сегодня германское политическое и экономическое поло-
жение напоминает, как и в 1914 г., осажденную крепость
и требует уничтожающего удара в самом начале военных
действий». Эта концепция предписывала избегать войны
на нескольких фронтах, внешнеполитически изолировать
противников и молниеносно разбить их одного за другим
неожиданными массированными боевыми действиями.
Она допускала нарушение международного права, при-
менение преступных методов войны и террора в подверг-
шихся агрессии странах, чтобы полностью подчинить их
себе.
Такое вероломное ведение войны за пределами Гер-
мании, по мнению фашистских заправил, должно было
помочь им избежать общего напряжения всех сил внутри
страны. Несмотря на то что нацистская пропаганда много
говорила о тотальной войне, фашистское командование
не отважилось сразу же после начала агрессии использо-
вать все ее формы и средства, так как оно точно не
знало, какую реакцию это вызовет у народа и армии.
Опасаясь проявления недовольства рабочих, нового но-
ября 1918 года, гитлеровское правительство в первые
годы войны воздерживалось от проведения многих чрез-
вычайных экономических мероприятий, которые призна-
вались даже как необходимые.
С помощью концепции «молниеносной» войны, внут-
реннего и внешнего террора германский империализм и
милитаризм мог добиться значительных первоначальных
результатов. Однако империалистам не удалось ликвиди-
ровать несоответствие между их целями и политико-мо-
ральными, экономическим и военными возможностями.
Отсюда, а также из того факта, что германский империа-
лизм выступал как ударная сила реакционых и отжива-
ющих общественных сил с самыми разбойничьими, чело-
веконенавистническими и свирепыми целями войны, вы-
текало, что народы мира во главе с Советским Союзом,
как представителем исторически прогрессивных, новых
общественных сил, олицетворяющих победу социализма над
империализмом, должны были объединиться против импе-
риализма, который должен был потерпеть закономерное
поражение.
Фашистская Германия в первые годы войны была в
состоянии сформировать мощную агрессивную армию,
чтобы преследовать далеко идущие цели войны, потребо-
вавшие у человечества страшных жертв, но никогда она
не могла выиграть борьбу против исторического про-
гресса, против жизненных интересов всех народов, и в
том числе немецкого.
Классово сознательные трудящиеся и демократические
силы немецкого народа но были сбиты с правильного
пути их борьбы против антинационального, антинарод-
ного фашистского режима ни первоначальными победами,
ни лживой пропагандой и попытками подкупа, ни тер-
рором. Они были в Германии темных времен теми, кто
спасал честь немецкой нации.
4. Немецкое антифашистское движение Сопротивления
в первые месяцы второй мировой войны
Успех фашистского вермахта в Польше и продолже-
ние политики «странной» войны еще больше, чем прежде,
затрудняли борьбу немецких антифашистов. Шовинисти-
ческий и националистический угар фашистской пропаган-
ды все больше усиливался. Поток «военных трофеев» в
виде продуктов питания и предметов роскоши, которые
в Германии перед войной были редкими, позволил многим
забыть возраставший террор и жесткие хозяйственные
мероприятия в начале войны. Эти относительные мате-
риальные облегчения немецкий народ оплачивал повы-
шением производительности труда, снижением реального
заработка, взносами зимней помощи и другими принуди-
тельными посылками, а прежде всего человеческими жиз-
нями, которые приносились на полях сражений в жертву
интересам монополистического капитала. Наконец, война
развращала и деморализовала значительную часть наро-
да тем, что представители немецкой нации участвовали
в тяжких преступлениях против других пародов. Это
соучастие, увеличивающееся в ходе войны, сказывалось
как сдерживающий фактор при мобилизации КПГ широ-
ких кругов немецкого народа на борьбу против фашист-
ской диктатуры. Страх быть привлеченным к ответствен-
ности за свое активное или пассивное участие в
преступлениях мешал многим немцам стать на сторону
антифашистов, и они часто за «5 минут до 12» приковы-
вались к тележке германского империализма и милита-
ризма. Фашистская пропаганда способствовала этому де-
морализующему фактору, в то же время правящие круги
усиливали всеми средствами террор против всех антифа-
шистов.
В этих условиях немецкое движение Сопротивления
оказалось перед огромными трудностями. Закрытие на-
глухо государственных границ затруднило руководство
нейтральных органов КПГ партийными организациями.
Они должны были поддерживать связь по радио и
через уполномоченных ЦК, перешедших на нелегаль-
ное положение. Аресты, усилепный террор и призыв в
вермахт опустошали ряды организаторов Сопротивле-
ния в Германии. С сентября 1939 г. по июль 1941 г., по
данным гестапо, только в Берлине было арестовано
433 коммуниста и социал-демократа. Наконец, сказался
также тот факт, что не все антифашисты в Германии
признавали ориентацию ЦК КПГ на германо-советский
договор о ненападении и на оценку характера войны.
В нелегальных условиях не было возможности в ходе
дискуссии решать основные политические вопросы, и по-
тому у многих борцов Сопротивления обнаружилась неко-
торая неуверенность. Однако в большинстве своем члены
партии поддерживали выступления ЦК КПГ.
Полная ясность в политике Советского Союза и боль-
шое, непоколебимое доверие к ВКП(б) были в первые
месяцы войны для немецких антифашистов важнейшим
фундаментом их политической позиции и их активной
антифашистской борьбы. Каскады клеветы обрушила
западная пропаганда на германо-советский договор о
ненападении и советскую политику по отношепию к
Польше и Финляндии. Правильное понимание роли, кото-
рую Советский Союз как социалистическое государство
должен был играть в борьбе немецких рабочих против
империализма и милитаризма за свободную немецкую
республику, определяло в конечном счете позицию КПГ.
Она указывала при этом, что договор был заключен в
тяжелом положении, при сложной ситуации и мир можно
защитить только в том случае, если и немецкий народ
возьмет в свои руки судьбу немецкой нации. Так как это
не удалось сделать перед войной, то все силы должны
быть сконцентрированы па том, чтобы кончить войну
с помощью открытого выступления народа. Первое де-
тальное изложепие задач немецких коммунистов содер-
жало письмо партийного руководства от 21 октября
1939 г. ко всем руководителям и активистам КПГ. Не-
легальные коммунистические партийные организации бы-
ли ориентированы на то, чтобы действовать в совместной
борьбе с социал-демократами и членами профсоюза, хри-
стианскими и беспартийными, национал-социалистски-
ми рабочими и трудящимися крестьянами. Для эффек-
тивного решения поставленных задач ЦК КПГ требовал
создать повсюду крепкие партийные организации, на-
правлять лучших, политически грамотных членов партии
в руководящие органы и стремиться к образованию опе-
ративного руководства КП в Германии.
Партийное руководство решительно выступило про-
тив оппортунистов, которые утверждали, что в борьбе с
фашистским террором невозможно создать прочные пар-
тийные организации. Оно констатировало, что большие
задачи, которые стоят перед партией в условиях войны,
можно выполнить только через усиление нелегальных
партийных организаций.
Вербовка новых членов партии, систематическая разъ-
яснительная работа в массах, выпуск размпоженных на
ротаторе нелегальных листовок и газет, в которых пар-
тийные организации должны самостоятельно реагировать
на события и немедленно опровергать главные аргументы
фашистов,– это были непосредственные практические
задачи.
Для осуществления ориентации, данной в письме от
21 октября 1939 г., ЦК изменил структуру руководства
нелегальными партийными группами. После интерниро-
вания заграничного руководства ЦК КПГ, действовав-
шего перед войной во Франции, в Стокгольме под руко-
водством Карла Мевиса был создае новый Заграничный
центр КПГ, который после соответствующей подготовки
должен был стать оперативным руководством в Германии.
Одновременно возник партийный орган для руководства
уполномоченными ЦК по Германии. Такие уполномо-
ченные были в Берлине, Бремене, Гамбурге, Йене, Киле,
Кенигсберге, Мюнхене, Штуттгарте и других городах.
С риском для жизни приезжали в Германию уполномо-
ченные Артур Эммерлих, Вилли Галль, Рудольф Халл-
майер и Шарлотта Крон, чтобы передать решения ЦК
и установить связь между организациями Сопротивления,
борющимися нелегально в различных районах и городах
страны. С самого начала войны партийное руководство
давало правильные политические ориентации антифа-
шистскому движению Сопротивления.
В пригороде Берлина Адлерсгофе действовала под-
польная коммунистическая организация под руководст-
вом уполномоченного ЦК КПГ Вилли Галля. Он уже
приезжал нелегально в Берлин весной и летом 1939 г.
15 августа, после совещания с представителем ЦК в
Копенгагене, Галль снова возвратился в Берлин, где
активизировал работу на предприятиях. Он устанавли-
вал контакты с социал-демократами, борющимися неле-
гально. Подпольные коммунистические партийные орга-
низации в этой части Берлина объединяли около
150 борцов. Их руководителем был Отто Нельте, бли-
жайший помощник Галля. Эта организация восстановила
связи с группами Сопротивления на предприятиях
«Адрема машиненбау ГмбХ», АЕГ и «Амби машиненбау
ГмбХ» в Берлине «Иоганнисталь», «Дейче холлерит
машинен ГмбХ», «Шеринг АГ», «Берлииер машиненбау
АГ», ВФГ, «Шток», «Шварцкопф», «Карлсруэр индустри-
верке», «Дюренер металлверке АГ», авиационный завод
«Хеншель АГ» в Шенефельде под Берлином, а также на
многих мелких предприятиях.
Эти организации Сопротивления издавали политиче-
ские информационные бюллетени и прокламации. В них
освещались следующие темы: «Роль партии», «Как про-
водить дискуссию», «Из практики для практики», «К не-
которым вопросам повседневной борьбы», «Куда мы
идем?», «Почему Гитлер выиграл войну против Польши?»,
«Внешняя политика Советского Союза», «Враг находится
в собственной стране», «Борьба без мира», «Поход Крас-
ной Армии в Польшу». Членам этой организации Сопро-
тивления Курту Зейбиту и Руди Эрлиху удалось даже
издавать печатные материалы. В конце октября 1939 г.
в первый раз вышла «Берлинер фольксцейтунг» в 200 эк-
земплярах. В статье под заголовком «Наш народ хочет
мира» было сказано: «Наш народ хочет прочного мира.
Он не желает приносить жертвы и проливать кровь за
финансовый капитал. Действуя сообща, мы станем силой.
Каждый факт сопротивления на предприятии, каждый
саботаж налогового взноса буржуазии, каждое промедле-
ние сдачи крестьянами продуктов питания, каждое сопро-
тивление солдат и женщин является шагом на пути к
миру... Социал-демократ, коммунист, протестант или ка-
толик – у всех нас одна цель: мир! Долой виновника
войны Гитлера! Объединяйтесь все!» В различных номе-
рах «Берлинер фольксцейтунг» говорилось об империа-
листическом характере войны и о внешних и внутренних
проблемах. Публиковались письма солдат об усталости
от войны и о преступлениях, совершаемых немецко-фа-
шистскими войсками, рассказы о недовольстве рабочих
из-за неудовлетворительного снабжения и несправедли-
вости при распределении по категориям семейного пособия
для призывников.
Нелегальная организация КПГ, кроме того, устано-
вила прочные связи с другими берлинскими партийными
организациями. Она знакомила их членов с решениями
партийного руководства и проводила большую полити-
ческую разъяснительную работу среди населения. Ей
удалось охватить значительную часть децентрализован-
ных берлинских партийных групп. В апреле 1940 г.,
гестапо все же выследило организацию. 94 члена, в том
числе Вилли Галль и Отто Нельте, были арестованы,
25 июля 1941 г. фашисты казнили их. Усилиям к
созданию единого руководства в Берлине был нанесен
удар.
Организация Сопротивления молодых коммунистов
Берлина, которая в ночь на 9 сентября 1939 г. на раз-
вязывание войны фашистами ответила листовкой «Я зову
молодежь мира», 6 октября после речи Гитлера высту-
пила с новым ответом. Гитлер в этой речи, кроме всего
прочего, как известно, требовал «рейху достойных и со-
ответствующих колониальных владений». Поэтому в ли-
стовке, напечатанной Гейнцем Капелле и распространен-
ной им и его товарищами, говорилось: «Едва отзвучала
канонада в Польше, как лживый фюрер своей последней
речью снова поставил немецких юношей и весь немецкий
народ перед страхом новой войны. Либо колонии – либо
война! Итак, это то, что третий рейх может дать своим
юношам! Мир может быть только тогда, когда объеди-
нится весь немецкий народ и прогонит «фюрера катаст-
рофы». В середине октября Гейнца Капелле, Эриха Циг-
лера и других членов этой организации арестовали. Они
стойко вынесли пытки и не выдали ни имени уполномо-
ченного ЦК Шарлотты Кроне, которая направляла эту
организацию, ни имен других своих боевых соратников.
Многочисленные примеры свидетельствуют о муже-
стве и стойкости немецких антифашистов. Коммунист
Герберт Богдан, член организации Сопротивления в
Берлине, собирал у антифашистов одежду, продовольст-
вие и медикаменты, чтобы снабжать ими польских воен-
нопленных в Михендорфе. Пастор Карл Фишер и его
друзья в Нойбранденбурге за несколько месяцев снаб-
дили одеждой и обувью около 1100 польских военноплен-
ных. Позднее он передал польской организации Сопро-
тивления радиоаппаратуру и большое количество
револьверов. Социал-демократ Альфред Альтус в Дрез-
дене установил связь с польской группой Сопротивле-
ния и передал ей собственный радиоприемник.
Докеры в Гамбурге саботировали. При перестройке
торговых судов на военные они заготавливали материалы
так, что детали не подходили одна к другой. В Киле член
организации Сопротивления тайно разложил на койки
матросов отходящего корабля листовку «Письмо солда-
там». Она содержала сообщения московской и лондонской
радиостанций.
КПГ, находясь на нелегальном положении, после на-
чала войны прилагала много усилий, чтобы организовать
антифашистскую борьбу сообща с социал-демократами.
Эти усилия, однако, наталкивались на отказ со стороны
руководящих органов социал-демократии в эмиграции.
Правда, уже в начале войны у социал-демократов больше
не имелось единого партийного правления. Их эмиграци-
онное правление в Париже носило этот титул, но пред-
ставляло немногочисленные, преимущественно самостоя-
тельные, оппозиционные группы, такие, как заграничное
бюро «Ной бегиннен», Международный социалистиче-
ский союз борьбы (ИСК), группа революционеров-соци-
алистов и т. д. Влияние эмигрантских групп на нелегаль-
ную борьбу социал-демократов в Германии было незначи-
тельным. Преувеличенное мнение, существовавшее во
многих этих группах о том, что победоносная война
империалистических западных держав была бы кратчай-
шим путем к свержению фашистского режима, способст-
вовало тому, что многие социал-демократы чуждались
активного участия в движении Сопротивления. Рядовые
социал-демократы, которые включались в мужественное
антифашистское движение, часто присоединялись к орга-
низациям Сопротивления, которыми руководила КПГ.
За Обращением Парижского социал-демократического
эмигрантского правления о начале войны не последовало
никаких дел. Члены этого правления и другие руководя-
щие правые социал-демократические активисты, наобо-
рот, продолжали свою основную антикоммунистическую
и антисоветскую линию. Рудольф Гильфердинг еще до
начала войны говорил, что социал-демократы должны
идти вместе с империалистическими правительствами за-
падных держав «в бескомпромиссной борьбе против
большевизма и против тех левых социалистов, которые
составляют с коммунистами единый фронт». После на-
чала войны этой линии полностью придерживались Курт