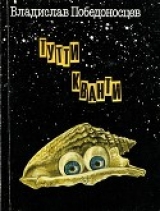
Текст книги "Тутти Кванти"
Автор книги: Владислав Победоносцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Владислав Георгиевич Победоносцев
Тройка… семерка…


Сперва выпала тройка. За ней семерка. И сразу же туз…
– Вот так-то, – негромко, но нажимисто сказал Бельчук. – Знай наших…
Он вельможно кинул колоду на ореховый, инкрустированный бронзой журнальный столик, и тонкие пластмассовые карты легко скользнули по неброской красноватой глади. С карточных рубашек Бельчуку зазывно улыбались узколицые гейши в расшитых цветами кимоно. Он не удержался, ответно хмыкнул и в который уж раз мыслью сгусарил: «И-и-эх! Оживить бы вас, лукавое племя, – я бы еще задал вам чертей!»
Это куцее «еще», доверху нагруженное бравадным оптимизмом, предательски доносило, что небеспорочная бельчуковская юность давным-давно скрылась в непроглядных уже житейских далях. Через три дня, как раз в субботу, Юрию Валерьяновичу клевал в темя полтинничек. Это он сам сочинил такую игриво-тоскливую словесную формулу, коей с месяц, почитай, оповещал местное общество о своем пятидесятилетии.
С умилительными проклятиями высвободившись из трясинных объятий низкого громоздкого кресла, Бельчук вплотную подошел к предмету своего обожания – гигантскому, во всю кабинетную стену, окну, сотворенному из цельного, без стыков и швов, стекла. Немевшим от восхищения гостям он непеременчиво говаривал: «Сие ни достать, ни доставить, ни вставить нельзя! Можно лишь зреть у покорного раба вашего». Стекло было толстое, и Бельчук в приподнятости чувств сперва боднул его широким лбом, а после, отступивши на шаг, лбом же и оперся, давя – уже не без риска – на монолитную эту прозрачность шестью своими пудами. Случись сейчас кто-нибудь рядом, он ответил бы на предостережение самодельной иронической сентенцией: «Рискующему головой тоже нужен тренинг», намекая на небезопасность своих повседневных занятий. Впрочем, тут же обе бельчуковские руки раскинулись в стороны и растопыренными пальцами упруго оперлись о стекло, страховочно перераспределяя нагрузки и одновременно как бы обнимая искрящийся под утренним зимним солнцем обширный сад в пышных белых одеждах. Юрию Валерьяновичу и впрямь хотелось именно этого – физически обнять свои владения, подержать их в сильных руках, точно взвешивая труды, коими они прирастали. Шутка ли нынче-то овладеть гектаром лесных угодий! Половину бора смахнули, и обернулись корабельные сосны трехэтажным дворцом-красавцем. Весь низ, за исключением вестибюля, куда спускалась крытая синтетическим ковром парадная лестница, пожаловали маскарадному залу, как нарек его хозяин («Здесь либо надевают маски, либо, напротив, сбрасывают их»); три стены зала отделали пластиком кровавого цвета («Для жути!»), а четвертая – северный торец, – сложенная ради рыцарского камина из булыжника, была окрашена черной краской. На Новый год и в дни рождения Юрия Валерьяновича и его всегда настороженной супруги Зои Аркадьевны, которую он представлял не иначе как своим ангелом-телохранителем («Спасать надо тело – душа сама спасется!»), в зале зажигали лишь толстые восковые свечи («От щедрот местного владыки отца Феофилакта – у него в миру тоже интерес имеется»), и маленькие пламена, колышемые истовыми исполнителями шейка или чарльстона, несчетно множились в перекрестных зеркальных отражениях. И виделось тогда гостям, взгоряченным движением и домашними наливками – от земляничной до клюквенной («Все эти «Камю» и прочую алкогольную импортягу гонят химические концерны!»), что стены теряют свою незыблемость, оживают и начинают кроваво струиться («Храм на крови! Вами безвинно скушанных! Ниц, гиены, ниц!»). А между тем приближался час некоего ритуального действа – бельчуковской выдумки. В середине зала красовался шаровидный аквариум ведер на сто, в котором обретались немыслимых расцветок и форм декоративные рыбы – одни, поменьше, зачумленно и хаотично носились, непостижимо лавируя в дебрях диковинных водорослей, в нагромождениях причудливых раковин и кораллов, другие, покрупнее, были царственно недвижимы, даже длиннющими свисающими шлейфами хвостов не шевелили. И вот в это аристократическое общество вместе с двенадцатым ударом высоких напольных часов хозяин запускает пару уголовников самого низкого происхождения – голодных речных щук, выловленных рыбаками специально к случаю. Начинается резня: шальная мелочь заглатывается мимоходом, основная же охота идет за царственным крупняком («Гибель слабому! Да восславится сильный!»); острые зубы нещадно кромсают потенциальных призеров выставок, отхватывают им головы и бока; а бандиты уже гонятся за более привлекательными целыми особями… Странно, что не слышатся стоны растерзанных жертв, только еще больше выпучиваются рыбьи глаза предсмертным ужасом. В аквариуме – настоящий шторм, окровавленная вода, подсвеченная скрытыми в раковинах донными лампами, клокочет и выплескивается через открытую маковку шара на узорчатый дубовый паркет; однажды из нее торпедой высигнула промазавшая мимо добычи щука, шлепнулась на пол, подпрыгнула и в разбойничьем экстазе впилась в икру важной даме… Удивительно ли, что подобный конгломерат ощущений, полученный от зыбкого света свечей, сочащихся кровью стен, буйствующих в собственной крови наливок и пугающей своей природной естественностью подводной резни, кое для кого оказывается чрезмерно острым – иные приходят в себя лишь на вольном воздухе. Впрочем, представление уже закончено, остервенелых хищниц загарпунили и поволокли жарить на вертелах в камине; гвалт взбудораженных гостей обрывает трубный глас охотничьего рога: сейчас для всех дам и желающих кавалеров подадут индийский чай с восточными сладостями, а настоящих рыцарей, крепких телом и нервами, приглашают прошествовать в охотничий домик, выросший в бору много позже основных апартаментов, но зато со скоростью подберезовика.
Снаружи это обыкновенная, хоть и очень большая, рубленая изба, только над порогом ветвятся могучие лосиные рога. В сенях сыто подремывает сборная собачья свора – две крупных сибирских лайки, черный терьер ризеншнауцер и ротвеллер. Просторная горница, способная разместить за потемневшим уже струганым столом мужскую половину маскарадного зала («Дамы отдыхают от кавалеров!»), встречала сюрпризом: на входящего с лютым рыком стремительно прыгал бурый медведь, стоящий на задних лапах. А поскольку и тут правил сумрак, сразу невозможно было сообразить, что это чучело и раскачивается оно вперед-назад вмонтированной внутрь пружиной, рык же – примитивная магнитная запись. Как-то из нестройного гурта кавалеров первым вступил в горницу новый, но шибко влиятельный в здешних краях рыцарь. Был он плотен и не робок, однако ж, не будучи готов к нападению, прянул назад, голову руками укрыв и успев мощно двинуть ногою в медвежье брюхо. И тут замершую в дверях компанию окатила золотистая духовитая жидкость: медведь-то хоть и прыгал на пришельца, но на плечах держал коромысло с ведрами; в одном плескалась медовуха – для тех, кто еще в седле, в другом – рассол – для выпавших из него. Влиятельный рыцарь, постигая ситуацию и унимая озноб, посулил: «Ну, Бельчук, кончишь ты на виселице!» Однако простил хозяина – за фантазию. А за науку еще и поблагодарил: «Теперь всякой неожиданности укорот сделаю».
В глубине избы, у пышущей жаром русской печки, стоял еще один медведь, вернее, медвежонок, радушно протягивающий гостям ушат с домашним «хреновым» квасом: бери расписной ковш, угощайся. А нет жажды – будь ласков к столу. Вон какой окорочище копченый – одно мясо, сала-то нет. Не жалей зубов!.. А как кочаны усолились! Рви янтарный лист разлапистый да жуй с усердьем – полезен капустный сок городскому травмированному желудку. А малосольные огурчики среди зимы?! Слыхом не слыхивал? Еще бы! А тут пожалте – вот они, в пупырышках и с хрустом!.. Теперь в миски деревянные глянь: грузди вообще-то против белых не устоят, но в соленье-то – за пояс! Рыжики, хитрованцы, до поры затаились – с печеной картошкой себя окажут. Зато чернушки-подзаборницы под глаз лезут – язык береги!.. Но блеклые краски были бы у стола, кабы не те вон красавцы – что может быть слаще соленого красного помидора! Ух, мордатые, не лоснились бы от засола щеки – ну прямо с куста! А на этом вот, с двойным подбородком, вдобавок еще и листик зеленый – краешек лета…
Ходко да славно уминается продукт под гостелюбивый клич: «Припасов не жалеть!» Да и то, чего жалеть, когда шепни только – прислуга школеная, напрокат из города взятая, мигом подкрепление из погреба достанет.
Закусок отведал – налегай на дичь. На здоровенных блюдах исходят манящим знатока, чуть приметным горчащим духом тетерки да фазаны. Приправляй мясо вареньями, рябиновым ли, брусничным, а хочешь, той же ягодой, но моченой…
Посередке стола – ночной гвоздь. Молодая медвежатина! Браконьерского, конечно, происхождения, из заказника, но оттого еще вкуснее. Доставь себе удовольствие – востри нож сам, вон точило…
Богат стол, слюнки текут у припоздавшего, а доброхот, дожевывая сочащийся кус, уже скликает подмогу – проворить на печных углях шашлык из лосенка; мало им, вишь ли…
Конечно, переправлять в утробу этакую роскошь просто так – полудовольствия. И в домике пьют. Но по ассортименту – нищенски, потому как у хозяина выстраданное убеждение: здоровый напиток во всем мире только один – «кладбищенка». Берут спирт, наливают полстакана (новичкам – четверть), поджигают, он занимается прозрачным голубым пламенем – это и есть «кладбищенка». Свежие могилы по ночам похоже светятся, трепетно и пугающе. А дальше, чтоб страх убить, – залпом! И красномордый в зубы: в нем жидкости много – пожар в потрохах тушит. Можно, конечно, и квасу плеснуть, но это больше для слабаков. Их, кстати, «разведенка» дожидается – так Бельчук выражает презрение к обычной водке.
Как водится, стены домика увешаны охотничьими трофеями. Прямо к сосновым бревнам прибиты в нарочитом «философическом соседстве» (усмешлив Бельчук при излюбленном этом речении) шкуры хищников и их жертв: медведя и лося, волка и сайгака, куницы и белки, харзы и кабарги; на внутренней стене, отделяющей трапезную от оружейной, красуется «лисье ожерелье» – семь черно-бурых шкур сшиты в одну, семь голов грустно глядят вниз на семь пышных хвостов; в глубине избы, с приколоченного под потолком массивного сука, яростно скалится рысь, вся подобравшаяся для прыжка, чтобы вонзить клыки в жирную шею велиречивому тамаде; с противоположного конца сонно таращится на пирующих голова горного козла мархура с метровыми рогами-штопорами и косматой патриаршей бородищей; под ногу гостю смиренно стелятся шкуры северных оленей, они не в цене; но главная охотничья реликвия – шкура громадного амурского тигра с простреленной во лбу головой – тешит душу хозяина не здесь – в его кабинете на третьем этаже…
Нет, не палил Бельчук в тигра, и на медведя не ходил, и у кабаньих троп в засаде не сидел, и рыси на воле не видел. Он вообще со зверюгами не связывался («Хищники не должны нападать друг на друга!»), другое дело – сайгаки, лоси, косули… А все эти шатуны да секачи – презенты, знаки внимания, расположения, признательности, благодарности…
В домике открыто не чинились и не чванились. Отчасти это объяснялось тем, что приглашенные всегда были соизмеримого калибра, отчасти – близостью к естеству, к природе: натуральная пища, звери, огонь в печи. Здесь невольно держались проще, грубее, даже маток был уместен – не осквернял рыцарских уст. Светские же манеры и учтивая речь оставались там, в маскарадном зале…
Когда приходили оттуда, возбужденные, с очнувшимися от подводной варфоломеевской резни инстинктами, ретиво принимались за лесные и огородные дары, но, задав работу ножам и челюстям, воскрешая подробности кровавого аквариумного пиршества, постепенно переключались на земные заботы, кое для кого кое в чем сходные с только что виденным – на кого-то точили зуб, за кем-то незримо гнались, кому-то перекрывали кислород, а кто-то сам точил, гнался и перекрывал…
В охотничьем домике расслаблялся нерядовой гость, всякий чем-нибудь ведал – гаражом ли, стройуправлением, птицефабрикой, торгом, лесхозом, коммунхозом, колхозом или, к примеру, лечебницей, вузом, рестораном, комиссионкой, рынком… Некоторые ведали всеми этими ведателями. Само собой, и вопросы за длинным демократическим столом решались нерядовые. Наиболее же деликатные, преимущественно кадровые, обсуждались попозже, когда напористые тенора и басы уже воспевали пламенный мотор в противовес сентиментальному сердцу и удало хвастались: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Обсуждались в кругу поуже и за плотно притворенной дверью оружейной…
Покойно и прохладно было в малой горнице – ни печи, ни камина. И подчеркнуто прибрано. Расхристанная горячечная мысль тут несколько подтягивалась, студилась, строжала, обретая целевую остроту. Да и выйдет ли иначе, когда глаз, инстинктивно круглясь, почтительно ощупывает винчестер и монтекристо, берданку и тулки разных поколений, костяной нож эскимоса и копье воина-масая, индейское лассо и китайский лук… Построжав и заострившись, мысль, после обсуждения уже общая, сама теперь предписывает своему коллективному родителю, что предпринять касательно фигурировавших кандидатур: кого пересадить на местечко потеплее, а кого поприжать и на старом, кого подсадить повыше, а кого стащить за штаны пониже, кому позволить только надувать паруса, а кому дать ухватиться и за руль, кого оживить озоном, а кому временно пережать шланг, кого выдвинуть в круги за пределы округи, а кого задвинуть в пределы бесперспективного круга, кого пригласить на ужин, а кем и поужинать… В обороте была тьма глаголов: заласкать, инсультировать, вживить, выкормить, прижечь, дать понять, убрать, заставить взять, пощекотать, сгорбить, позолотить… Извилинные старания эти, лихие в словесах, но хлопотные, порой рискованные в осуществлении, прилагались исключительно ради блага гуртующихся в малой горнице – чтобы не усекались их желания, чтобы сладко елось и пилось, пуховито спалось…
Кстати, спать-то еще рановато, едва за полночь перевалило, а вот часа два во рту куска не было – оголодали.
Потраченные силенки восстанавливали весело, энергично, как после тяжелой, но хорошо сделанной работы. Не мешкая запаливали «кладбищенку» и под «кхы-х», да «ух», да под взаимную подначку безбоязненно входили с ней в клинч. К первым петухам «голубой мокрушник» («Еще одна кличка «кладбищенки», допускается к употреблению в конкурсном порядке») отключал две трети рыцарей; к третьим на лавке не усиживал никто, разве что опираясь бледным челом об уцелевший янтарный кочан… В основном же располагались в непосредственной близости к месту схватки – подле стола, на длинношерстных шкурах северных оленей…
Пробуждение было ломотным, стонным, увечным. И приходилось обычно на полдень. Вяло собирали кавалеры расползающееся сознание в жменю и натужно рожали удовлетворительный ответ на сакраментальное «Где я?». После чего без сопротивления тонули в дилемме: немедля и без оглядки тикать домой, желательно огородами, или погасить проблески сознания и кануть в небытие, желательно без этой рвущей голову и тело боли. Но нежданно грохотало обвалом: «Па-а-адъем!.. По полкам!» И неуместные, казалось бы, здесь казарменные модуляции Бельчука оказывались на удивление действенны, тем паче что завсегдатаи, превозмогая ломоту, поясняли: не армейские полки ждут павших в ночной баталии, а банные, и пути туда – два шага…
Бельчук долго маялся, где поставить баньку, и так прикидывал, и этак, но все-то виделась она ему бельмом, пока вдруг не высветилась сумасшедшина: а коли пристроить ее ко дворцу, впритык, зато в виде древнего русского терема? И учинить там не одну лишь привычную всем баню, но и модную ныне сауну – на любого привереду!
В то же лето прилепили бичи-умельцы к южному боку дома знатный терем, за зиму украшенный еще и резьбою. Никто б и не дотумкал, что в нем баня… Прямо из парилки, через теплый тамбур, здоровяки вылетали в сугроб, хлипняг же трусовато сучил тромбофлебитками вокруг десятиметровой черно-мраморной купели. «А ну, кто со мной взапуски вон до того берега? – любил кричать Бельчук, красный от снежных растираний, врываясь с мороза в стыдливый рыцарский гурт. – Слабо вам супротив меня!» И плюхал шесть пудов в холодную воду.
Во втором этаже наладил хозяин электрическую сауну; сам он в ней проку не разумел («С чего побесились-то, россияне? Наша-то поздоровше! Порты и те перед иноземщиной скидаете!»), но – нате вам, зенки завидущие!
Из охотничьего домика волоклись разбитым наполеоновским охвостьем, не поднимая очей; в тереме разэтаживались по интересу и медленно, мученически источали с потом «кладбищенку», мертвое зелье. Было кавалерам и вспомоществование: на отмочку подносили кислый квас, капустный сок, пивко, легкую сладковатую брагу, а забубенным и «разведенку» – в малой дозе оттягивала исправно. Через тройку часов, промывшись многажды изнутри и снаружи, частично входили в здоровье, и важные животы принимались трубить, требуя работы.
А за этим дело не стопорилось, ждала уж она, работа, кавалеров – там же, в охотничьем, только теперь в сообществе с нагулявшимися по окрестностям дамами. И столование продолжалось, хоть и чуть умереннее, но все равно обильное, не в сравнение горластое, и с вольностями, и с анекдотами, и с заигрывающим повизгиванием. Приемы были рассчитаны на двое суток…
Сейчас, ребячливо пободав широким лбом неохватное стекло, Бельчук опустился на тигровую шкуру и, устроившись в позе гогеновской «Жены короля», с удовольствием извлекал из памяти все эти бесчисленные и такие привычные, им же срежиссированные сцены. И улыбался в предвкушении невиданного торжества, перед коим должны поблекнуть все прошлые забавы. К снеди, томящейся в погребе, послезавтра охотнички прибавят дичину, а с Дальнего Востока явится самолетом продукт нетрадиционный – лангусты, крабы, креветки, презентуемые по такому случаю верными людишками. Даже ненавистных «Камю» и шампанского заготовил Юрий Валерьянович. Так что с утробным интересом порядок…
По одному пункту терзался только Бельчук: какой бы разэтакий номер выкинуть на свой юбилей? Тщеславная душа сделала выбор: к финалу подводной резни ворвутся в маскарадный зал беглые уголовники («Отрепетируем с челядью!») в казенных телогрейках и при щетине, бабахнут из обреза в аквариум – для реальности («Ради такой потехи не жалко!»), потребуют выложить драгоценности («Поглядим, какого лазаря запоете, рыцари!»), какой-нибудь дамочке («Подберем покичливей!») подрежут финкой бретельку, а он, Бельчук, откроет огонь («Именно так!») из коллекционного нагана и уложит двоих («Кровью будут клюквенной истекать и зверски стонать!»).
Не успеет гость очухаться от нападения, а в охотничьем домике его подкараулит следующий сюрприз – живой медведь! («Местный егерь давно предлагал».) Если привязать его позади уже всем известного чучела с коромыслом, большая может выйти потеха: живого-то тоже за чучело примут, и вот тут жди чего угодно!..
Утвердив собственные выдумки, долженствовавшие подчеркнуть независимость юбиляра перед сильными сей округи, Бельчук переселился в кресло, подъехал в нем к окну и задумчиво воззрился на заснеженный свой сад, искрящийся в утреннем солнце, необычайно ярком для зимы и каком-то нарядном («Причепурилось в честь юбиляра!»). Собственно, ничего там нельзя было увидеть, кроме голых стволов фруктовых деревьев, но хозяин «видел» и земляничную плантацию, и малиновое каре вдоль всего забора, и вишневый садик («Ах, что за чудо-наливки дают все эти ягоды!»), и огуречно-помидорные парники, и солнечный пятачок с облепихой и женьшенем… От целебных этих растений мысль ассоциативно переключилась на детей. Сперва, конечно, на дочек-близняшек, смешливых и сметливых хабалок, которых он дорогой ценой, да и то через личный канал, впихнул в медвуз. («Предприимчивый человек должен прежде всего иметь бычье здоровье!») На счет дочерей он не только не заблуждался, но, напротив, поощрял их хватательные движения: милостей от жизни ждут дураки, но в дураках и остаются. И юные девы твердо усвоили оригинально преподанную им науку, даже не ведая о сарказме классика: «Бери, большой тут нет науки, бери, что только можно взять. На что ж привешены нам руки, как не на то, чтоб брать!» Обе специализировались на гинекологии…
И пожелалось Бельчуку чем-то порадовать своих стрекулисток по случаю окончания пятого курса. Но к тряпью его не подпускают, и слава богу, а шубы песцовые к этой зиме справили… Ладно, можно плюнуть на принцип – бабе не место за рулем – и подарить моторную яхту – единственную их романтическую мечту. И еще мебель бы сменить к приезду – во всем втором, женском, этаже… Но тогда что-то надо подкинуть и «соседям» по верхотуре – сыновьям, тоже близнецам («К чему ни приложусь – отдача от меня на двести процентов!») и тоже студентам («Сплошной разор от вашего племени!»), одолевающим третий курс юридического факультета («Чтобы закон стал дышлом, предприимчивому человеку надо уметь его поворачивать!»). А чем их удивишь? На шмотки им давным-давно тьфу, по-настоящему среагировали лишь на подарок к двадцатилетию – на практически новенькие «рено» и «плимут». («Вот так ради отпрысков и на отступничество от принципов идешь».) Жать на все пружины и добывать «мерседес»?.. Эх, то ли дело он сам, в лимузинах по городу не раскатывает – всегда на дорожном велосипеде. Оно и здоровее и скромнее («Не надо пробуждать в пролетариях вековую ненависть к буржуазии – опять схватятся за булыжник!»). А лучше, пожалуй, закончить второй терем, заложенный у северного торца, – больше пользы принесет он парням, чем эти дурацкие иномарки: задумал Юрий Валерьянович оборудовать в нем тяжелоатлетический зал – со штангами, набором блинов, гирями, тренажерами для растяжки и накачки силы. Парни-то у него не слабенькие, с задатками, но пока еще не бельчуковской стати. Прежде на каникулах не знали, куда себя приткнуть, теперь вот будут в породу входить.
Размышляя таким образом, Бельчук слегка лукавил: северный терем был нужен наперед прочих ему самому, поскольку во втором-то этаже виделась хозяину бильярдная («Свояка в середину, там теплее, чужака – в дальнюю, на периферию. А при плохом глазомере может выйти наоборот») и буквально грезилась «Пиковая дама», как он уже окрестил комнату для игры в карты. В них он и впрямь знал толк, безупречно считал варианты, всю игру держал в памяти, и обыграть его было непросто. («Выше интеллекта только интеллект, выше преферанса только преферанс. А между ними знак равенства!»)
Едва бельчуковская мысль набредала на карты, он должен был тотчас обратить на них и свои действия. Дотянувшись до орехового столика, Юрий Валерьянович взял гейшевую колоду, к коей питал слабость, чиркнул глазом по зазывным рубашкам, ответно улыбнулся узколицым тонкостанным лукавицам, снова не удержался, сгусарил: «И-и-эх!» – машинально листанул, потасовал и вытянул карту наугад.
Вышла тройка.
«Опять! Надо же… Прямо знак какой-то. Ведь был я когда-то именно троечкой. Всего лишь троечкой…»
В последние месяцы Бельчук испытывал, и по мере приближения юбилея все острее, физическую потребность побыть наедине с собой, остановиться, оглянуться, что называется, на прожитое, потолковать по душам с собственной душой, спервоначала выяснив, правда, цела ли вообще-то, и если окажется, что да, цела, жива и умеет толику совеститься, хотя, понятно, заскорузла, обесчувствелась порядочно и черным-черна от содеянного и виденного, – тогда, может быть, и помараковать с нею, а не подправить ли в чем свою линию, не осадить ли где назад и, главное, впрягаться ли в постромки того капитального и рискованного дела, в котором, примерившись, обсчитав затраты и взрыхлив уже частично почву, обнаружил перехватывающие дух выгоды, но которое, не исключено, могло привести к исходу весьма плачевному, если не роковому.
Собственно, ради уединенного раздумья он и отмахнулся от привычной прорвы дел, вырвался из городской квартиры и прикатил в свою усадьбу, как сам определил, на двое суток тишины. Ведь послезавтра надо будет колготиться с приемом охотничьей и морской провизии, а что того пуще – нагрянет орда нанятой прислуги под водительством Зои Аркадьевны и бой-девиц, поднимется тарарам, пойдут круговерть да бестолковщина, разгон и рохле и шустряку – не спрячешься, не присядешь. Так что хочешь оглянуться – либо сегодня, либо никогда, после-то юбилея уж не ко дню…
И потянулась память к младым годам. Бельчук перебирал лишь основные вехи, но так старательно, будто жизнь свою кому-то рассказывал. Или даже объяснял…
«Тройка, трешка… Был, был, чего там… Продавец лесосклада – кто ж как не трешник… Одначе корни мои там, и чего ж мяться, ежли потом из них такой стволина двинулся. Но не сразу. Пока торговую науку не постиг, до склада на автобусе зайцем ездил – копейку берег, лишней-то не было. Ну а после пошло освоение пружин ремесла, самостийное, в наставники-то никто не набивался, хотя ни зав, ни второй продавец штучек своих особенно не скрывали. Оказалось, можно и кругляк, и тес, хоть обрезной, хоть нет, принять одним сортом, продать другим. А какая бездонность в замерах кубатуры! А как славно, что не изживается дефицит! Попробуй-ка, товарищ клиент, достать оцинкованное железо, или сурик, или паршивый штакетник… А прохлопаешь ушами до лета – ни тебе цемента, ни столбов, ни труб, ни того же теса, независимо от обрезки. Да что там теса – обыкновенных гвоздей нет!.. А клиенту строиться надо – фундамент под дом заложен. Где он возьмет простые эти материалы? А ему и непростые – позарез. Брус, к примеру, или доска половая… И он, сиротина, идет ко мне, за куб драного горбыля готов следы мои целовать. А я его давно жду. С кукишем. Дескать, рад бы помочь, да сами видите – двор под метелку. Когда завезут? Дальше я бывал саркастичен: «Вот смотрю я на вас – вроде солидный человек… Извините, если не засекречены, – где служите? Ах, декан юридического факультета, профессор… Вот смотрю я на вас – вроде декан юридического факультета, профессор, можно сказать, а такие наивности… Давайте в лоб спросим Юрия Валерьяновича, то есть меня: может он протянуть вам хоть жалкую соломинку надежды? И Юрий Валерьянович в лоб ответит: навряд! Потому что в обозримости ожидается статус-кво… Но как мы есть существа мыслящие, будем думать…» С этого момента – клиент мой. Если бы у меня тогда имелась дача, декана можно было бы сторожем брать – преданней любой собаки сделался. Да он ли один! Хоть начцеха с мясокомбината, хоть аптекарь, хоть автомеханик, хоть администратор какой-нибудь – всякий клиент уши прижимал, в глаза заглядывал и у ног скулил: Валерьяныч, будь другом, достань, придержи, сообщи – в долгу не останусь, отблагодарю, будешь доволен… Я и был доволен: ставил в безысходку – давали хорошо. Но надувал не каждого и драл не с каждого. Тому декану в месяц все устроил и ничего не взял: юн был, а смекалист, уже в те поры знал, что дети мои в законники двинутся, хотя Зою Аркадьевну еще и не повстречал… Да я и без декана за полтора года наскреб на «москвичок» и на кооператив…»
Бельчук поднялся, сопя и отдуваясь, грузно поприседал, разминая суставы, прошелся по просторному кабинету к двери, еще погруженный в молодость, и внезапно, повинуясь неосознанному импульсу, резко обернулся – от ощущения какой-то перемены, происшедшей то ли в комнате, то ли… A-а, исчезло солнце! Он быстро подошел к окну и, пользуясь широким обзором, оглядел небо, дотоле хваставшее голубизной первозданной. Бельчук мог присягнуть, что именно таким оно и было минуту, ну пять минут назад, и солнце светило вовсю, яркое, нарядное («Причепурилось! – всплыло словечко в доказательство. – Да и левым глазом чувствовал я его все время! Жмурился даже!»). Теперь же не было ни солнца, ни голубизны. Была сплошная чернота. Как будто очень аккуратно, педантично выкрасили небо черной-пречерной краской. И не кистью, валиком прокатали – до того ровно легла краска, без полутонов, подтеков, переходов. Эта вот черная ровность, в которой не обнаруживалось и намека на родные и понятные тучи, больше всего изумила и даже слегка встревожила Бельчука. «Надо будет вечерком сводку погоды послушать, наверняка скажут о каком-нибудь редком атмосферном явлении, которого лет триста не наблюдали. И все объяснится, как пить дать, очень просто…»
Успокоенный этой мыслью, он машинально глянул на крупные светящиеся цифры настольных электронных часов – они показывали четверть двенадцатого – и снова взял любимую колоду («Мои четки!»), разделил на две части, с сухим треском вогнал одну в другую. И выдернул карту из середины.
Это была семерка.
«Ну, знаете… Такое уже не смешит. День маленьких чудес. В атмосфере Земли и на земле Бельчука… Хотя, коль скоро это день экскурса в прошлое… Да, был я и семеркой. Когда моего начальника цапнули за руку и вручили – всего-то делов! – «пятерик» (впоследствии с его адвокатом я сплел тугую связку – с таким не сгинешь навсегда), заведовать складом определили меня. Номинально больше чем на семерку должность не тянет. Другое дело – ее возможности. Но разворачивался я осторожно, с учетом ошибок предшественника, поначалу не то что не шустрил – в левые разговоры не вступал. Клиентура – а она уже была куда попузатее – занервничала, мне дали понять, что кое-кого такой стиль не устраивает. Еще бы! Вот пустячок: пришел трейлер бруса; не поставь я на штабель трафарет «продано», его расхватает рядовой гражданин, труженик борозды и станка; нерядовой же гражданин останется при пиковом интересе, что его, естественно, огорчает, и он дает мне об этом знать. Тогда-то я и сделал зарубку: честный складской работник, да и вообще торговый, бывает не угоден – и своим, и иным прочим. Ах, до чего ж сладок был вывод: не я сворачиваю на кривую стежку – меня недвусмысленно на нее толкают… Но прочь лукавство! Именно толчка-то я и жаждал, как жаждут его повсюду мои собратья. Так марафонец нетерпеливо ждет выстрела стартера, чтобы устремиться к желанным лаврам. Желанным!..
И я устремился. Правда, рули переложил плавно, имитируя неподатливость честняги. Зато развитое потом ускорение было равно ускорению свободно падающего тела – только мое тело взмывало вверх. В короткий срок всевозможные управляющие, директора, начальники чего-то и заведующие чем-то, деятели искусств и неискусств, ученые и неученые сделались не клиентами моими, нет, – задушевными приятелями. И я понял, что судьбина взнуздана и я могу ею управлять.
Дышалось легко, творилось вольготно. С большим подъемом проводя операции по смене машин (несмышленым был – увлекался), квартир (отличной на прекрасную, прекрасной на сказочную), дач (тут, увы, пока что дощатой на бревенчатую в два этажа), я лихорадочно и весьма циничными способами (работенка велась наитопорнейше) набивал кубышку… сберкнижками (даже торговался, если считал, что со мной жадничают. Фи!), ибо возникла радужная идея, требовавшая, однако, для своей реализации солидного оборотного капитала. Ну а пока шел процесс первичного накопления, параллельно с ним сколачивался капитал совсем иного рода, но отнюдь не менее важный. Слыть среди дружков-пузанков ловким доставалой и славным малым – мало. Для задуманного предприятия мне нужна была устойчивая репутация делового человека. Экономически грамотного, масштабного, надежного, с которым неосязаемые джентльменские контракты подписываются спокойно. Пришлось демонстрировать ушлой публике умение «замыкать окружности». Рисовал круги разных диаметров, посложнее, попроще, но, бог миловал, всегда замыкал. Нехитрым-то это занятие представляется только со стороны, а засучи рукава да примись за него – ту еще поленницу нарубишь. Выручи, поди-ка, химзавод, у которого мощности стопорятся – поставщик, как водится, с сырьем надул. Ввязываюсь. Ради идеи, о которой пока не распространяюсь («На кой черт тебе эта бредовая канитель?» – «Не могу видеть, как страдает государственный интерес!»). Звоню на грузовую пристань, уламываю отставного капитана отдать заводу, заимообразно, ту транзитную баржу с нужным как раз сырьем, о которой, будучи у меня вечор, он случайно обмолвился. Но личных отношений здесь недостаточно, дело-то не личное, поэтому, исходя опять-таки из полученной от него информации, сулю капитану гравий, который он никак не может достать, чтобы расширять пристань. Сдается. Соединясь с тридевятым царством – карьером, вытряхиваю из них гравий в обмен на колонну самосвалов: горит план по вывозке из-за нехватки машин. Отлавливаю «летучего голландца» – завгара, этого хама: «Дам пять бортов, если пробьешь нам три квартиры». В неделю выхлопатываю две за выездом («А мне две и нужно было, ха!»), но у моей квартирной помощницы – свекровь-язвенница, нужна путевка в санаторий. Ну, это чуть легче. Излагаю ситуацию директору химзавода, и через четверть часа звонок из завкома: «Есть горящая! Правда, в кардиологический. Умоляю, возьмите!» Ладно, сойдет, берем… Уф! Наконец-то круг замкнулся и всем без исключения хорошо. И у меня в том круге прочные связи. Как и в пятом, и в десятом, и… Сомневающихся больше нет – Бельчук может все. Устроить, достать, организовать…








