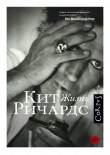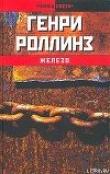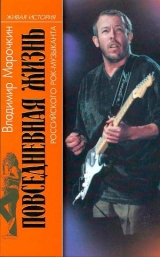
Текст книги "Повседневная жизнь российского рок-музыканта"
Автор книги: Владимир Марочкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
В тусовке был парень по кличке Милорд, с огромным хаером. Местные старушки его приняли за батюшку и запричитали: «За что ж вы батюшку-то арестовываете?»
Всех отвезли в отделение милиции в Сокольники. Борова и Костыля туда доставили последними, поскольку они раскоммутировали аппаратуру.
В отделении милиции даже не поняли толком, что случилось: допросили, заполнили протокол и отпустили.
На следующий день Боров и Костыль поехали забирать аппаратуру, так как боялись, что ее могли опечатать. И там, в сретенских переулках, чуть ли не погоня за ними случилась. Только они подогнали такси, только загрузились и отъехали, как подъехали менты. «Где они? – спрашивают. – Куда поехали?» Но Боров с Костылем уже скрылись из виду…
Глава 18
Информация. Трофейные пластинки, «рок на костях», рукописные журналы и дальше в будущее…
Рок-н-ролл – это всегда новость. Рок-н-ролл всегда находится в движении, он не в состоянии остановиться, замереть даже на минуту, потому что это движение прописано в самом его названии – «крутись-вертись». Если же он замрет, застынет, даже просто притормозит, прислонившись к красивой витрине, то это будет уже не рок-н-ролл, а «попса», как пренебрежительно рокеры называют все, что не крутится и не вертится.
Бывает, что музыка, не успев стать новостью, уже вписывается в установленный «формат», тогда это тоже – не рок-н-ролл, это – «попса». Рок-н-ролл жив только движением. Это же танец! Останови танцоров – и рок-н-ролл закончится. Что здесь непонятного?
Рок-н-ролл и начался с новости, с эксперимента, буквально со скандала, когда нью-йоркский диск-жокей Алан Фрид придумал новый вид музыки. А может, и не он придумал, а Чак Берри, переложивший фортепианный стиль буги-вуги для ритм-группы: партию правой руки – для гитары, левой – для контрабаса. А может, вовсе и не они были первыми, а Билл Хейли, спевший 12 апреля 1954 года на танцах в Медисон-сквер-гарден свой знаменитый «Рок вокруг часов». Интересно, что сам Хейли еще не знал, что это – рок-н-ролл: в программке концерта песня значилась как «быстрый фокстрот». О том, что это – настоящий рок-н-ролл, Хейли узнал от своих вдруг появившихся в несметном количестве фанов. Смотрите, как одновременно все может происходить: Алан Фрид, Чак Берри, Билл Хейли – они будто бы выхватили рок-н-ролл из воздуха, будто бы ветер задул и все понеслось.
Рок-н-ролл – это ветер перемен.
Более того, рок-н-ролл – это само время.
После того как зимой 1944/45 года войска Красной армии освободили Европу от фашистских оккупантов, в Москву, в Ленинград и другие большие города стали привозить так называемые «трофейные фильмы» и американские джазовые пластинки – это уже был настоящий рок-н-ролл, пусть даже формально он и назывался «джазом». Это был момент, а вернее – действие, с которого можно начать отсчет рок-н-ролла в России. Поэтому, разговаривая с музыкантами, я многим из них задавал вопрос о тех пластинках.
Маргарита Пушкина:«Мой отец штурмовал Берлин, но пластинок он оттуда не привез, а вот у моего дяди, который тоже брал Берлин, такие пластинки были. Там были все американские хиты тех лет».
Юрий Валов(«Скифы»): «В моей семье не было таких пластинок, но мы жили в коммунальной квартире, и какие-то американские пластинки там были. Толстые, те, старые «колумбийские»… Я знаю – опять же из разговоров, – что привозили проекторы и фильмы и что был период после войны, примерно такого же свойства, как тогда, когда в начале 80-х в Москве появились первые видеомагнитофоны и начался бум видеофильмов. Я не застал этот период здесь, но по рассказам знаю, что это было очень похоже. А рассказывали мне об этом, кстати, ребята, с которыми мы в начале 70-х играли в «Голубых Гитарах». Мы – это Дюжиков, Дегтярев и я. Там, в «Голубых Гитарах», нас называли «хиппарями», а все остальные были «стилягами». Они как раз и застали все эти трофейные пластинки, и брюки-дудочки, и ботинки на толстой микропорке, конец 40-х и 50-е годы – это было их время».
Вот так у нас завертелся рок-н-ролл. Хотя в начале вертелись в основном пьесы оркестра Глена Миллера.
Но самым главным событием, после которого рок реально проник в толщи нашего народа, был Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся в 1957 году в Москве. Тогда заявили о себе многие молодые музыканты, впоследствии ставшие звездами отечественного джаза, – Алексей Козлов, Георгий Гаранян, Алексей Зубов, Константин Бахолдин и другие.
Правда, Алексей Козлов в своей книге «Козел на саксе» утверждает, что все началось несколько раньше, и, конечно, он прав, потому что если бы ничего не было до фестиваля, то некому было бы выпрыгнуть и на самом фестивале. Просто до 1957 года эту музыку слушали еще в очень узком и далеком от народа кругу спортсменов, артистов, дипломатов, то есть в семьях людей, имевших возможность выезжать за границу. А после 1957 года и другие молодые ребята вкусили сладкого запретного пирога. Желая услышать джаз и другие музыкальные новинки, они стали ловить по своим радиоприемникам «Голос Америки» и «Свободу», и примерно к 1961 году уже считалось, что современный молодой человек обязательно должен знать, кто такие «Модерн Джаз Квартет», Диззи Гилеспи или Чарли Паркер. Конечно, уже тогда были люди, которые знали, кто такой Майлз Дэвис, но это были очень продвинутые люди. А имена Диззи Гиллеспи или Дэйва Брубека входили в обязательный минимум, и тебя просто в компанию не принимали, если ты их не знал.
И все же круг любителей джаза, а потом и рок-н-ролла, долгое время оставался элитарной тусовкой. Маргарита Пушкина рассказывала, что после раздольной музыкальной жизни в Венгрии ей безумно трудно было адаптироваться к советской школе и к советским условиям: «Я училась в 711-й школе на Кутузовском проспекте и как-то не замечала, чтобы там кто-то особенно слушал эту музыку. В основном слушали «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», на которых были записи разных танго да фокстротов».
И лишь тогда, когда появились так называемые пластинки «на ребрах», рок-музыка действительно приобрела размах – ведь на «ребрах» были уже и «The Beatles», и «Rolling Stones», и Чак Берри с Элвисом Пресли. «Ребята шуровали в основном в Военторге, – вспоминает Маргарита Пушкина, – втюхивали нам эти «ребра». А потом там же, на Калининском, открылся магазин «Мелодия». Вот там их можно было купить, и мы их покупали, причем часто нас надували: продавали совсем не то, а найти продавцов, чтобы морду набить, было почти невозможно. Потом это пошло как бы по спирали, и начали собираться кружки, ну, не то чтобы кружки, а компании по интересам. У меня с английского факультета был такой знакомый – Дискобол его звали – он занимался фарцой в тупике на станции метро «Киевская», и у него были все свежие пластинки, но это было уже позже. А до этого даже приезд «Червоных Гитар» был чудом! Любая группа из соцлагеря тогда воспринималась как сегодня «Rolling Stones» в Лужниках!»
«В Москве были совершенно замечательные места встреч – толкучки, – вспоминает известный социолог Андрей Игнатьев. – Были книжные и дисковые толкучки, куда приходили все. В то время на том месте перед Политехническим музеем, где сейчас лежит камень в память о жертвах политических репрессий, когда-то был большой блок зданий, и там находился магазин грампластинок, где была основная толкучка по продаже записей на «ребрах». Буги-вуги, первые записи Элвиса Пресли – они оттуда. Милиция боролась с этим рынком достаточно жестко, и в конце концов этот магазин закрыли, а на его месте сделали то ли авиакассы, то ли трансагентство. Потом эти здания вообще снесли, а перед Политехническим музеем сделали сквер.
Потом была толкучка в ГУМе, где тоже был отдел грампластинок. Была толкучка на Кировской (Мясницкой), потом, уже в довольно позднюю эпоху, была толкучка на Садовой, и еще была толкучка за городом, на станции Сходня. И толкучки – это такая сцена, куда все приходили время от времени».
Можно смело сказать, что примерно к 1964 году уже появилось все: и публика, и точки, где эти люди собираются, и даже некоторые из этих точек уже закрыты, как, например, кафе «Молодежное», бывшее недолгое время центром джаза и быстро ставшее воспоминанием. Уже есть рынок записей и некоторое сообщество, внутри которого эти записи функционируют. И первые люди, которые пытались это играть, тоже должны были появиться году в 1964-м. Теперь это уже вполне можно называть шоу-бизнесом – это точное и корректное название.
Тем не менее не было еще ни специализированных изданий, ни радио– или телепередач. Я помню, что на «Маяке» по утрам была программа, которая называлась «Опять двадцать пять». В ней звучало много хитов, и мои родители записывали все это на магнитофон. Шел 1969 год. Да вечерами по основному радиоканалу передавалась программа Виктора Татарского «Для вас, полуночники». Начиналась она часов в двенадцать ночи, и ее все ждали. Я тоже не ложился, хотя мне надо было рано вставать в школу. Но от общего объема радиовещания эти передачи составляли лишь маленький кусочек. Я уж не говорю о телевидении, где не было вообще ничего о нашем любимом роке! Поэтому информация о концертах долгое время была устной. Но уж с этим не было никаких проблем.
Алик Грановскийвспоминает: «Я в детстве жил в самом центре, на Новокузнецкой, а все свободное время проводил на Тверской, можно сказать, что я – бывший хиппи! Тогда можно было прийти на «Стрит» и получить всю информацию о концертной жизни в Москве: где в четверг выступает «Машина», где в пятницу играет «Високосное Лето», а где, к примеру, в субботу – «Второе Дыхание». Только ни «Машина», ни «Високосное Лето» меня особо не интересовали, для меня супергруппой было «Второе Дыхание»!
Впервые на сейшн группы «Второе Дыхание» я попал в 1973 году, и мне очень понравился их басист Коля Ширяев. Бородатый, хайратый, когда он играл – бас-гитара у него была под самым подбородком. Он носил тогда маленькие очечки, которые все время поправлял жестом, как у Валерки из «Неуловимых мстителей». Левой рукой он играл на грифе своей бас-гитары, а правой поправлял очечки – музыка тем временем продолжалась.
Сейшн проходил в физкультурном зале физической школы, которая располагалась близ ВДНХ, сразу за памятником рабочему и колхознице. Зал был полон хиппи. Кто курил, кто занимался любовью. Люди висели на шведских стенках, а на сцене группа «Второе Дыхание» играла джаз-рок. Я просто обалдел! Ведь я первый раз попал на настоящий сейшн! И попал именно туда, куда надо было. Я не шел через «Машину Времени» или «Високосное Лето». Я попал сразу на серьезных людей. И когда я увидел Колю Ширяева, то сразу же захотел играть на безладовом басу, как он».
Вот и Гриня Безуглый,когда договорился с директором сельского клуба в Токареве, что недалеко от Лыткарино, устроить ночные сейшны с участием известных рок-команд, все билеты в первую очередь роздал тем хиппи, которые тусовались в Москве на улице Горького. И в один прекрасный день, к десяти часам вечера в деревню Токарево налетели, как саранча, хиппи и другие волосатые. Местные жители, разумеется, не понимали, что происходит, а им говорили, что это, мол, проводы лета. Так распространялись новости о концертах, и народу всегда набивалось – невозможно подойти! Рита Пушкина позже вспоминала, как тогда говорили, что центр города сместился в Деревню Токарево.
Лидер группы «Сокол», а в 70-е годы участник группы «Тролли» Юрий Ермаковрассказывает: «Я помню, как в 1973 году в Москву приезжал оркестр Джеймса Ласта. Он должен был играть во Дворце спорта в Лужниках, но только одна паршивенькая афишка размером с газету висела у самого Дворца спорта. И больше никакой рекламы, вообще ничего. Мне позвонил приятель и сообщил, что сегодня в Лужниках играет оркестр Джеймса Ласта. Я говорю: «Да иди ты! Не может такого быть!» – «Если не веришь, то поезжай – и сам все узнаешь». Я поехал – действительно все так, как он сказал. Я купил два билета и мы с женой пошли на концерт. Оркестр Джеймса Ласта давал два концерта, и если в первый день Дворец спорта был заполнен только на две трети, то на следующий день уже был переаншлаг. Вот эффект от одной паршивенькой рекламки! Москва жила по телефону. Кому было интересно, те всегда все знали. Конечно, в этом надо было мариноваться. Сейчас все иначе, но тогда была просто другая эпоха».
Надо сказать, в 70-х годах я особого дефицита с информацией не испытывал, все свежие записи появлялись у меня дома буквально через пару месяцев после выхода в свет в Англии. Причем в стоящую в стороне от торговых и информационных путей Пензу, где я жил в юности, все приходило в виниловом варианте. Первые пластинки у меня появились в 1976 году, своевременно пришли и Paul McCartney «Wings at the Speed of the Sound», и «Eagles» «Hotel California», и «Slade» «Nobody's a Fool», и Ian Gillan «Child In Time», и «Geordie» «Save the World», и «Sweet» «Off the Records», и «Nazareth» с труднопроизносимым для русского человека названием, а следом – «Boston», «Вопеу М», «Belle Epoque», «АВВА», «Smokie», Demis Roussos и десятки других записей. Что касается старых пластинок, то с ними действительно были проблемы: альбомы «The Beatles», например, мы в классе собирали по крупицам, причем что-то – «Beatles for Sale», например, – нам найти так и не удалось. Новые же записи появлялись у нас без задержек.
1977 год принес нам очередные альбомы «Queen», «Wings», «Boney M», «Uriah Неер», на совершеннолетие мне бабушка подарила магнитофонную катушку с записью архипопулярного тогда на пензенских дискотеках альбома группы «Earth, Wind and Fire» «All'n All» – с тех пор это одна из самых любимых моих пластинок.
Так было все 70-е и в начале 80-х. Трудности с музыкальной информацией начались, как ни странно, с приходом Горбачева, период с 1986 по 1989 год для меня покрыт туманом. То есть, конечно, основные вещи типа «Металлики» или Стинга доходили, но в 70-е можно было путешествовать по музыкальному пространству более полно и свободно.
И вообще, кто назвал 70-е годы «годами застоя»!? Говорят, не было колбасы… Чушь это все! В моей семье колбасу презирали! В моей семье принято было есть натуральное мясо, причем не обязательно говядину, но и лосятину, медвежатину, зайчатину. Перебои с мясом начались только в 80-х годах, в конце правления Брежнева. У меня такое ощущение, что кто-то специально создавал трудности с продуктами питания, стиральными порошками, спичками, сигаретами, чтобы людей таким образом подвести к перестройке. Толпясь в очередях, горожане быстро забыли об изобилии 70-х. Я же сквозь пелену времен явственно вижу, как мы с дедом где-то в конце 60-х идем в «офигительный» магазин с емким названием «Дон», где продавщица в белом кокошнике большой ложкой из огромной кадушки черпает красную икру и накладывает ее каждому, кто только пожелает, – и нам в том числе. И еще мы пьем сок, который нам наливают из стеклянных перевернутых конусов на выбор – яблочный, виноградный, сливовый, грушевый – под дюжину вариантов, но мы с дедом «даем крутого», выбирая томатный… Вспоминайте, вспоминайте, как все было на самом деле!
Еще говорят, что было мало литературы. Но ведь когда свободы были объявлены, тоже не появилось ничего уровня «Мастера и Маргариты» или поэмы «Москва – Петушки»…
Говорят, что не было кинематографа… Простите, не согласен. У нас как раз были и Штирлиц, и Иван Васильевич, меняющий профессию, и «Ирония судьбы», а вот на Западе действительно, кроме «Лихорадки в субботу вечером», которую нам так и не показали, все киношедевры почему-то приходятся на 60-е и 80-е годы.
Другое дело, что если западную музыку я в 70-е годы слушал в более-менее полном объеме, то отечественной музыки явно не хватало. У меня были собраны почти все записи «The Beatles», у меня в фонотеке хранились первые выпущенные на фирме «Мелодия» лицензии западных альбомов, но истинным героем класса был мой приятель, который где-то достал маленькую пластиночку «Веселых Ребят» с песней «Алешкина любовь» – вот такого ни у кого больше не было. Уровень его популярности я ощутил на себе, когда привез в свой город первые записи «Машины Времени», вот тогда и у меня дома появились делегации, и из соседних школ в том числе, чтобы послушать «День рождения», «Солнечный остров», «Марионеток», «Битву с дураками» и другие хиты Макаревича.
Но самый модный писк (или визг, или крик, или даже вой) 70-х принадлежит пластинке Давида Тухманова «По волне моей памяти», вышедшей в свет в 1975 году. В ней приняли участие многие известные рок-музыканты – Александр Барыкин, Мехрад Бади («Арсенал»), Александр Лерман (в то время уже эмигрировавший, поэтому вместо его фамилии на конверте значится «вокальная группа ансамбля «Добры Молодцы»») и другие. Я хорошо помню огромные очереди, которые возникали всякий раз, когда эту пластинку выбрасывали на прилавки музыкальных магазинов: сам стоял в таких очередях дважды, и оба раза мне ничего не досталось – в конце концов я просто переписал ее у приятеля, оказавшегося более удачливым. Еще я помню, как по весне уже 1976 года раскрылись окна и из каждого окна стала слышна эта пластинка. Бывало, идешь по улице, топаешь по весенним проталинам, а из всех окон Тухманов звучит – в основном песня «Из Вагантов» («На французской стороне…»). Получался настоящий эффект квадрофонии!
Рассказывают, что редкие пластинки можно было добывать на свалке фирмы «Мелодия» недалеко от Апрелевского завода. В основном там находили так называемые болгарские или польские «лицензии», которые, оказывается, печатались у нас же. Если отдел технического контроля вскрывал коробку и находил мельчайший брак, а это были, как правило, плохо зачищенные края, то вся коробка отправлялась на свалку и там становилась добычей любителей рока. Правда, пластинки были без конвертов и края приходилось зачищать рашпилем, но зато в фонотеки добавлялись виниловые «АББы», «Бони Эмы», «Демисы Руссосы», «Би Джизы» и, говорят, даже как бы польская «Ака-дака»…
В середине 70-х стали-таки и у нас выпускать лицензионные диски, правда, лимитированные по звуку и ритму: чтобы не быстрее бабушки Стрейзанд и не громче дедушки Клиффа. По чьему-то, видимо, недогляду выпустили альбом Пола Маккартни «Оркестр в движении», но в изуродованном виде: вместо заглавной «Band On The Run» стояла простецкая «Silly Love Songs» из другого альбома. Получился как бы сборник, за который можно было не платить автору. Ливерпульский миллионер Пол Маккартни, говорят, страшно ругался: ведь концепция альбома была незаслуженно нарушена! Я стоял за этой пластинкой полтора часа в магазине «Мелодия» на Калининском проспекте. Когда до кассы оставалось простоять меньше времени, чем я уже отстоял, мне удалось поближе разглядеть конверт. Обнаружив подмену, я в гневе отдал кому-то свой номерок и ушел из очереди. Впрочем, думаю, я был один такой принципиальный. Старшая сестра ругала меня потом: коли себе не стал брать, хоть ей купил бы!..
Толкучки, на которых можно было купить или обменять «фирменные» диски, просуществовали в Москве вплоть до перестройки. Самая известная по-прежнему находилась в ГУМе, рядом с отделом грампластинок, две другие – в магазинах «Мелодия» на Калининском и Ленинском проспектах. Народ слонялся там, усиленно делая вид, что никто здесь как бы ни при чем, а руки у всех были заняты сумками либо модными импортными полиэтиленовыми пакетами, очень удобными, поскольку идеально подходили под размер пластинки. Сами диски наружу практически не показывались, из рук в руки передавались написанные на небольших картонках списки того, что имелось с собой.
Тусоваться на толкучках было делом веселым, но довольно опасным, так как их постоянно шерстили менты. Я однажды чуть не попался, когда пытался в магазине на Ленинском проспекте выменять хоть что-то и уже приценился к Бобу Марли, как вдруг хозяин желанной пластинки исчез, а передо мной возник расплывшийся в улыбке сержант. «Что ж! Пройдемте!» – ласково сказал он мне. Но не тут-то было! Я достаю из широких штанин краснокожее корреспондентское удостоверение: «Я пишу статью для «Московского комсомольца» о толкучках!» При этих моих словах сержант, зло шепча: «Ч-черт! Чуть на журналиста не напоролись!» – стал пятиться к двери, увлекая за собой напарника, и так же стремглав исчез, как и появился.
Вообще милиция не имела права арестовывать тех, кто приходил на толкучку, поскольку продажа, а уж тем более обмен дисков, которые не продавались у нас в магазинах, а были в единичных экземплярах привезены из-за границы, не считались спекуляцией. Поэтому задержанные в тот же день отпускались по домам, но… их коллекции конфисковывались. Говорят, что те, кто работал в отделениях милиции, расположенных близ ГУМа, в начале Ленинского проспекта и на Новом Арбате, имели отличные фонотеки. Уже в годы перестройки я познакомился с одним человеком, имевшим великолепное собрание разных виниловых редкостей, – про него-то как раз и говорили, что он занимался коллекционировавшем конфискованных раритетов.
А тогда на Ленинском мне пришлось покинуть магазин вслед за милиционерами. Представьте себе, как это смотрелось со стороны: наряд милиции взял человека фактически «с поличным», он предъявил им какое-то красненькое удостоверение, увидев которое менты, подхватив полы шинелей, спешно покинули магазин… Я еще немного побродил по магазину, но куда бы я ни шел, люди расступались и передо мной образовывался пустой коридор, а счастливый обладатель Боба Марли постарался вообще ретироваться от греха подальше, поэтому, зайдя для вида в отдел классики, я пошел на выход…
В 70-е к нам с Запада пришла мода на дискотеки. У нас они приобрели свой неповторимый образ. Дискотека 70-х состояла из двух отделений. В первом не столько танцевали, сколько слушали музыку, а ведущий (слова «диджей» тогда еще не существовало) рассказывал о тех группах, которые заводил. Как правило, это был арт-рок или психоделик, но иногда звучали рок-обработки классики, архивные записи и, конечно, отечественная «продвинутая» музыка. На столах горели свечи, диапроектор мигал слайдами, а полумрак способствовал творческо-просветительскому процессу. Зато после небольшого перерыва начинались танцы, погромче врубался звук, поярче – цветомузыка, сделанная из обычных театральных софитов-«лягушек», а в баре начинали продавать алкогольные коктейли. (Во время первого отделения бар торговал только кофе с пирожными.)
Считается, что первые дискотеки в СССР появились в октябре 1976 года в Прибалтике, в университетах Таллина и Риги, – по крайней мере, так об этом написал Аркадий Петров в авторитетном для 70-х годов журнале «Клуб и художественная самодеятельность». Но в результате проведенных изысканий выяснилось, что первая дискотека появилась в подмосковной Дубне минимум на три-четыре месяца раньше. Ее организовали дубнинские музыканты Сергей Попов и Виталий Рыбаков на базе местного ДК «Октябрь».
Сергей Поповрассказывает: «В 1975 году мы провели первое заседание клуба любителей музыки «Мелодии и ритмы». Эту идею мы пробивали с боем, но в конце концов нам разрешили попробовать. Тогда мы стали собираться в холле ДК и на хорошей аппаратуре слушать диски. Сначала заседания проходили один раз в неделю. Это было что-то вроде просветительской деятельности. Мы читали лекции, на которые собиралось много молодежи, они слушали нас и ту музыку, которая была им практически недоступна. В абонементе нашего клуба с июня 1975 года по январь 1976-го были представлены такие темы: «Творчество Жанны Бичевской», «Польская группа СББ», «Локомотив ГТ» (Венгрия), «Джон Леннон», «Джими Хендрикс». А чтобы к нам не придирались, у нас были и «Песняры», и Чеслав Немен… Но, кстати, это тоже было очень интересно. А в 1976 году у нас прошла первая дискотека.
Потом о нашем клубе узнали в Москве, и к нам приехал Аркадий Петров. Стали мы приглашать хороших музыкантов. К нам приезжали и Назаров, и Макаревич, и «Аракс», и Дюжиков, потом – Лосев из группы «Цветы». Но при этом каждую программу нам приходилось пробивать, объяснять дирекции, о чем будем рассказывать и что обсуждать. То время было сложное, конечно, но интересное. По крайней мере мы работали на всю катушку!»
Сегодня можно с уверенностью сказать, что в той же Дубне начал издаваться первый самиздатовский подпольный рок-журнал. Его делали те же Сергей Попов и Виталик Рыбаков и их товарищи. Ребята вручную вклеивали вырезки из чешского журнала «Melodie» и из польского «Music Box». Виталий Рыбаковвспоминает: «Мы ходили по квартирам знакомых чехов и поляков и просили: «Переведите ради бога! Это очень важно для молодежных целей!» И нас поддерживали, причем очень многие. Я помню, журналов 20 вышло тогда, цветных, с неплохо переведенными статьями».
У меня тогда тоже была тетрадка, в которую я наклеивал вырезки из газет. В конце 70-х я жил в городе Пенза и работал фотокором в редакции местной молодежной газеты. На нашу редакцию выписывались десятки молодежных газет из других городов СССР – из Саратова, Тулы, Омска, Нижнего Новгорода, Волгограда. Почти в каждой из них были музыкальные страницы, довольно качественно рассказывающие о рок-музыке, прежде всего зарубежной. Особым спросом у нас в редакции пользовался, разумеется, «Московский комсомолец» и его «Звуковая дорожка», тогда еще вовсе не попсовая. Я, ничтоже сумняшеся и полностью убежденный в своей правоте, но, разумеется, в тайне от секретарши главного редактора, вырезал из этих газет все, что касалось рока, клеил заметочки в тетрадку, а потом нес информацию в массы – то есть давал переписывать оттуда новости руководителям нескольких городских дискотек, а те взамен записывали мне новинки музыки – «Chicago», «Scorpions», «Alan Parsons project» и многое другое, что тогда считалось новинками. Надо сказать, что моя тетрадка пользовалась большим успехом, а вместе с ней – и я сам.
Следом за журналом Сергея Попова рукописные рок-издания стали появляться по всей стране. Осенью 1977 года Борис Гребенщиков и его ближайшие друзья и коллеги – Майк Науменко, Юрий Ильченко, битломан Коля Васин и фотограф Наталья Васильева начали издавать ныне легендарный журнал «Рокси».
В 1981 году появился первый подобный журнал и в Москве. Он назывался «Зеркало» и вырос из недр студенческого клуба имени Рокуэлла Кента, существовавшего в стенах Московского инженерно-физического института. Именно здесь начал свою подпольно-журналистскую карьеру Артем Троицкий. Позже из «Зеркала» выросли журналы «Ухо», «Урлайт» и «Контркультура». Рядом лидер группы «ДК» Сергей Жариков делал журнал «Сморчок». В Питере Андрей Бурлака мастерил «РИО». В Таллине выходил «Про рок», в Свердловске – «Марока», в Новосибирске – «Тусовка», во Владивостоке – «ДВР»…
Причиной массового появления музыкального самиздата явилось почти полное отсутствие информации о том, что делается в родном рок-сообществе. В прессе и по радио стояла полная тишина и на счет новинок, которые были, и на счет хит-парадов, которые проводились, правда, среди своих. Редко-редко что-то писал «Московский комсомолец», но в основном про разных «Сябров». Единственным исключением стало заговорившее в 1980 году «Radio Moscow World Service». Тогда, в преддверии Олимпиады-80, все средства массовой информации, работавшие на внешний мир, пытались произвести на зарубежную аудиторию максимально хорошее впечатление, поэтому на волнах этой радиостанции звучало много советской рок-музыки. Правда, «Radio Moscow World Service» вещало на средних волнах, а поскольку в западном мире использовались короткие волны, то слушали его в основном отечественные любители рока. С появления в эфире этой радиостанции началась массовая популярность «Воскресенья». Когда музыканты этой группы записали «пленку», как тогда называли магнитоальбомы, встал вопрос, что с ней делать дальше. После недолгого раздумья решено было отнести запись на «Radio Moscow World Service». Сделав это, Романов и его друзья отправились отдыхать на море, в Пицунду, а вернулись они в Москву уже настоящими звездами рока.
В 1984 году, когда я еще был студентом факультета журналистики МГУ, я тоже начал делать настоящий рукописный самиздатовский журнал. Он получил название «Зомби» – «несуществующий журнал о несуществующей музыке». Правда, сначала я пошел в «Звуковую дорожку», но в ходе обстоятельного разговора с Дмитрием Шавыриным стало совершенно очевидно, что в «Московском комсомольце» того времени мои материалы о рок-андерграунде появиться не могут. И я решил, не надеясь ни на кого, все сделать самостоятельно.
Из того времени сейчас меня занимает иное: как и бывает в роке, с самиздатовскими журналами иногда происходили настоящие чудеса – иногда они имели свойства материализовываться самым невероятным образом, как это произошло в недрах журнала семейного типа «Уйхъ», созданного летом 1985 года Дмитрием Голубевым и участниками группы «Ларин Глэм». Пафос этого издания состоял в безостановочной полемике с несуществующим журналом «Грубульц» и в обличении «безобразных любимчиков и бездарных ставленников» «Грубульца», таких, как группы «Кожаный Шприц», «Замаринованные Гады», «Подонкин Стоунз», «Тупые», Кики Поцелуйвсех с группой патологических педерастов «Розовые Батончики» и т. д. Впоследствии Дмитрий Голубев и Авдотья Смирнова (ныне – известный кинокритик) сделали настоящий журнал «Грубульц», но самое интересное в другом: абсолютность названия виртуальной группы «Тупые», отражающего отношение к року любительниц сериалов вроде «Санта-Барбары», была настолько соблазнительна, что зимой 1986 года на подпольном ночном сейшне в Московском геолого-разведочном институте, в котором также участвовали Мефодий из «НИИ Косметики» и группа «Чук и Гек», состоялось рождение и первое выступление настоящей группы «Тупые», которую собрал Голубев.
Далее вся жизнь группы проходит в бреду бесконечных перфомансов. С самого начала концертной деятельности ее выступления содержали элементы театра абсурда и «неадекватного балета», деликатные осмысления некоторых религиозных культов и пародии на эстрадные шоу. По последней моде конца 80-х Голубев стремился приглашать для своего шоу как можно больше самых необычных артистов и в самых невероятных сочетаниях. В 1990 году на фестивале Московской рок-лаборатории в шоу «Тупых» приняли участие около пятидесяти человек, в том числе группа арфисток, театр пантомимы, детский хор, дрессировщики диких животных. К сожалению, несмотря на шумный успех, прожила эта группа недолго и в начале 90-х распалась. Но в конце 90-х студия «Союз» использовала старый хит Голубева «Русский ренессанс» в качестве саундтрека к фильму «ДМБ». Может, еще не все закончилось?