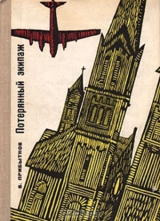
Текст книги "Потерянный экипаж"
Автор книги: Владимир Прибытков
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Руки у Сашки были бесстыдные, жадные, но она не отталкивала их, думая, что так, наверное, бывает со всеми и пугаться нечего. Потом с трудом вырвалась, и убежала в ужасе, и не вернулась на вечеринку, а долго бродила по улицам с пылающими щеками, даже не решаясь вспоминать грубой Сашкиной просьбы… Она не спала ночь, но утром решила: Сашку можно простить, только надо сказать ему, что они еще молоды и поженятся на последнем курсе…
Сашка встретил ее в институтском коридоре. Побагровел, спрятал глаза.
– Слушай, – сказал Сашка. – Извини, пожалуйста… Пьян был, ничего не соображал… Разве бы трезвый я подошел… Извини, а?
И так искренне это у него получилось, что Ольга похолодела.
Сашка так и не понял, почему ему крикнули:
– Подлец!
В сорок третьем году, случайно оказавшись в Москве, Ольга узнала, что Сашку убили в октябре 1941 года под Солнечногорском. Мертвые не нуждаются в прощении. Ольга решила, что Белов все же был неплохим парнем, если погиб в бою, и теперь вспоминала о нем просто как об однокурснике, о настоящем солдате.
Странно, но она, привыкшая изучать людей прежде, чем вынести суждение о них, полюбила Бунцева с первого взгляда. Ну да, он был высок, плечист, темноволос, синеглаз. Но ведь и раньше она встречала высоких, плечистых и синеглазых, однако к ним не тянуло… Ее поразили глаза Бунцева: добрые, ясные, чистые.
Она не сумела скрыть любви. Выдала себя тоскующим, страстным взглядом. И сжалась, заметив удивленный, растерянный и досадующий ответный взгляд.
Это случилось месяц назад. Ольга больше не позволяла себе смотреть на командира так, как посмотрела однажды, но что это меняло? Бунцев уже обо всем догадался и, похоже, испытывал нелепое чувство вины из-за того, что не мог ответить на любовь своей дурнушки радистки.
«Милый! – хотелось сказать Ольге. – Не беспокойся! Ни о чем не думай! Ты же такой хороший, такой добрый! Ты не можешь быть ни в чем виноват! Ни в чем!»
Но сказать этого она не могла. Вероятно, лучшее, что Ольга могла сделать, – это подать рапорт с просьбой о переводе в другой экипаж…
Радистка невесело улыбнулась. Нельзя сказать, что человек родился в сорочке, если даже право посмотреть на любимого вблизи он получает ценой страшной беды. Но ведь тут ничего не поделаешь, верно?..
Небо очистилось. Проглянуло солнце. Пригрело. Маленький черный жучок, ободренный теллом, взбирался на рукав капитана. Кротова тихонько смахнула жучка. Но маленький жучок оказался настойчивым. Сброшенный с рукава, он карабкался на шлем Бунцева. Радистка подставила жучку травинку, дождалась, чтобы жучок влез, и положила травинку поодаль. Жучок забеспокоился, заметался, потом раскрыл крылышки и улетел.
Капитан Бунцев спал.
Управляющий поместьем графа Шандора Пал Юданич пробовал подпругу. Рядом стоял конюх и озабоченно следил, пролезут ли пальцы управляющего между лошадиным брюхом и туго затянутым ремнем.
– А, пришел! – сказал Юданич, заметив Иоци Забо. – Где деньги? Принес?
Иоци снял шапку, развел руками, потупился. Ему было стыдно перед конюхом. Смешно, конюх – свой брат, батрак, а поди же ты – стыдно!
Конюх тоже потупился. Невесело смотреть на чужое горе.
– Так, – сказал Юданич. – Не принес. Ну, конечно, разве ты отдашь долг вовремя? Вовремя долги отдают порядочные люди, а не бездельники и пьяницы… Так чего ты притащился?
Иоци тоскливо посмотрел на свою шапку.
«Совсем вытерлась…» – не к месту подумал он.
– Ваша милость… – вслух сказал Иоци. – Мы же одни со старухой… Сын у меня в армии… Я еще вчера приходил к вашей милости…
Управляющий с презрением глядел на низкорослого, обтрепанного крестьянина. Хозяин! Только землю занимает. И вообще такие даром небо коптят!
Юданич только что позавтракал, выпил два стакана доброго вина, он отлично чувствовал себя, и жизнь была бы совсем прекрасна, если бы не лентяи батраки, если бы не должники-крестьяне, черт бы побрал этих дармоедов! Граф в последнее время требует денег, денег, денег! Графиня, по слухам, собралась в Швейцарию лечить нервы. Просто уезжает от бомбежек и вывозит денежки. Ясно. Но где взять деньги? Урожай неважный, батраков только наймешь – берут в армию, а долги никак не соберешь. Поди объясни это графу, не желающему слушать никаких объяснений!..
Появление Иоци Забо напомнило управляющему о грозящих неприятностях и испортило хорошее утро. Юданич уже готов был сорвать зло на подвернувшемся мужике, он даже фыркнул, как кошка, в прямые, острые усики, ударил стеком по блестящим крагам, но, к удивлению Забо и конюха, не выругался, а снова внимательно, словно только что увидел, оглядел фигуру просителя, положил стек на плечо и, надумав что-то, поманил Забо:

– Подойди-ка, любезный!
Управляющий вспомнил о недавнем телефонном звонке из города: комендатура просила сообщать все сведения о подозрительных лицах, которые могли бы появиться в окрестностях.
Угасшие было надежды воскресли в душе Иоци. Если управляющий передумал, если подождет с уплатой долга, семья спасена! Не придется на старости лет продавать последний хольд земли, идти в батраки, можно будет кое-как перебиться!
Иоци Забо неуверенно приблизился к управляющему.

– Господи, ваша милость…
– Ты ведь из Нигалаша? – перебил управляющий.
– Из Нигалаша, из Нигалаша, – торопливо подтвердил Иоци. – Как же! Из него. Ваша милость верно сказать изволили.
– Ты как сюда шел? – спросил управляющий.
– Я-то? – переспросил Иоци. – А как? Я как всегда… Тропочкой, ваша милость, тропочкой…
– Ты полями, значит, шел? – настойчиво продолжал управляющий, и недоумение Иоци сменилось неуверенностью, тревогой и тоской.
– Ага, полями, полями, – с привычной подобострастностью, но уже замешкавшись, подтвердил Иоци.
Он опять принялся за свою облезшую шапку.
– Ничего ты не заметил там, в полях? – как-то небрежно, словно просто так, от скуки, спросил Юданич, и от этой небрежности у Иоци Забо захолонуло в груди.
«А что, если меня видели? – подумал мужик. – Что, если кто-нибудь уже донес про беглых?»
– Ну? – послышался откуда-то издалека голос управляющего. – У тебя язык отнялся, что ли?
«Вот как человек становится иудой, – подумал Иоци Забо. – Припрут к стене – и становится. Потому своя шкура всего дороже… Если видели меня – убьют…»
– Побыстрей ты! Некогда мне!
– А что я мог там, в полях, заметить? – подняв голову, с отчаянием и ненавистью глядя в кошачьи глаза управляющего, спросил Иоци Забо. – Что, ваша милость? Поля и поля… Нашему брату недосуг за дичью глазеть!
И, не понимая, что делает, нахлобучил шапку.
Юданич с минуту щурился, шевелил усиками, потом опустил стек, повернулся к Иоци спиной и протянул руку за поводьями.
– Так подождете с должком, ваша милость? – шагнув вперед, облегченно и весело окликнул Иоци.
– Пошел вон! – усаживаясь в седле и разбирая поводья, прикрикнул управляющий. – Нынче к вечеру не принесешь – пеняй на себя. Я и так вас избаловал. Совесть позабыли!
Он направил кобылу на Иоци, и тому пришлось посторониться.
– Напрасно, ваша милость! – громко сказал Иоци в спину уезжавшему. – Про совесть вы напрасно!.. Совесть мы не забываем!
– Одурел ты! – сказал конюх. – Чего выпрашиваешь? Побоев?
– Мое дело, – сказал Иоци Забо. – Мое дело, чего я выпрашиваю… Не лезь!
Он плюнул в сторону графского дома, еще плотнее натянул шапку и зашагал прочь со двора.
Конюх оторопело поглядел ему вслед, вздохнул, покачал головой и неторопливо побрел в людскую.
Был третий час дня. В крохотной столовой Раббе ярко горела лампа. Устав от допроса Телкина и от других многочисленных дел, Вольф с удовольствием пил привезенный Раббе из Будапешта французский коньяк, прихлебывал крепкий кофе, курил и слушал рассказ гестаповца о подробностях ареста венгерского регента Хорти и его приближенных.
Раббе смаковал подробности, описывая действия своего давнего знакомого Отто Скорцени.
Вольф изредка улыбался, вовремя кивал.
– Кстати, – сказал Раббе. – Штурмбаннфюрер Хеттль поставил действия Скорцени в пример всем нам. Быстрота, находчивость, смелость, натиск, победа! Нет невыполнимых приказов, есть только недобросовестные исполнители! Только так, Ганс! Хайль!
Бутылочное горлышко звякнуло о край рюмки.
– Значит, это решено? – спросил Вольф.
– Что? – спохватился Раббе.
– Мы не сокращаем фронт? Мы остаемся в Венгрии?
– Откуда вы взяли, будто мы собирались оставлять Венгрию? – Раббе подозрительно уставился на разведчика, посопел.
– Оттуда же, откуда и вы, Гюнтер. Ну, ну, не смотрите так угрожающе! Вы меня понимаете!
Раббе не понимал, но он знал – майор Вольф из молодых, присланных в армию после того, как разведку возглавил генерал Гелен. Очевидно, у майора неплохие связи и свои каналы информации…
– Мы не оставим Венгрию! – сказал Раббе. – Наоборот. Мы должны твердо оборонять ее территорию. Максимум активности! Сейчас все внимание отдается Восточному фронту. С Западом фюрер заключит союз против большевиков. И мы вернемся в Россию! Мы должны быть готовы к возвращению!
– Прекрасно, – сказал Вольф.
– Что?
– Я говорю: прекрасно.
Раббе посопел:
– «Прекрасно»!.. Штурмбаннфюрер Хеттль высказал, между прочим, недовольство работой разведки. Наши специальные батальоны и роты не оправдывают надежд!..
– Это было сказано в адрес нашей армии?
– Это было сказано вообще. Но это относится и к нашей армии. Вам тоже нечем похвастать, майор!
– Я получил достаточно поганое наследство. Но вы же знаете, Гюнтер, что я готовлю диверсантов.
– Вы медлите.
– Ничуть. Люди должны пройти хоть какую-то школу. Я не хочу забрасывать в советский тыл очередную партию смертников.
– Когда вы планируете операцию?
– Завтра я пошлю ее план высшему командованию. Сроки определит оно.
– Значит, вы более или менее готовы?
– Пожалуй, да.
– Тогда я рад за вас… А что, кстати, нынешний летчик?
– А!.. Он оказался замечательным рассказчиком.
– Вот как?.. И вы послали его показания наверх?
– Ну что вы! Первая заповедь разведчика, Понтер, не доверять пленным. В особенности тем, что сдаются так быстро. Все они сначала говорят в лучшем случае полуправду. Время хотят выиграть. Надеются на чудо, думают, что обманут нас, а там их освободят наступающие части… Нет, я пока что не послал показаний лейтенанта Телкина наверх.
Раббе погладил сияющую лысину.
– Вы всегда медлите, Ганс! И все этот ваш «психологический метод»! Может быть, он и дает результаты, но он требует драгоценного времени. А времени нет. Нет! Поступали бы не мудрствуя… Дайте вашего летчика мне, и его показания не придется проверять. Всю правду выложит!
Майор Вольф усмехнулся.
– Одна из ошибок людей вашего типа, Понтер, состоит в прямолинейности подхода к обстоятельствам и людям. Вы считаете, что самое страшное для человека – физические страдания. Это неверно. В особенности по отношению к русским. Они фанатики, а фанатиков физические страдания только ожесточают, укрепляют в заблуждениях… Я исхожу из другого. Я считаю, что страшно не столько наказание, в чем-то уже освобождающее волю человека, а угроза наказания. Человек, над которым нависла угроза наказания, теряет сопротивляемость. В особенности если эта угроза нависает не с нашей стороны, а со стороны его собственного лагеря… Мне остается лишь выступать в роли спасителя.
– Ну, знаете! – побагровел Раббе. – Мне вы можете лекций не читать! Я поработал с русскими и знаю им цену!.. Да!.. Их надо пытать, а потом стрелять, как бешеных собак, и все!
Майор Вольф внутренне усмехнулся. Он знал, чем вызвана вспышка Раббе. Воспоминаниями о сюрпризах русских партизан.
– Если русский упорствует – конечно, его надо расстрелять, – миролюбиво сказал Вольф. – Но если он поддается – его надо использовать, Гюнтер, и использовать на все сто процентов. Сведения Телкина о русских аэродромах могут оказаться чрезвычайно ценными. Он может также кое-что знать о дислокации и передвижениях войск. И последнее – из него может выйти ценный сотрудник.
– Желаю успеха! – мрачно сказал Раббе. – Но вы не были в России. В Брюсселе и Париже другие условия. Сами увидите… Лучше дайте вашего летчика мне.
– Пока не дам, – весело сказал Вольф. – Самому нужен. Вот если увижу, что ничего не выходит, пожалуйста, берите!
Он взглянул на часы и поднялся.
– Гюнтер, вы побывали на станции?
– Еще нет… А что?
– Вас, помнится, интересовало, не выбросили ли русские диверсантов… Они их не выбросили, но диверсия на станции, возможно, была.
– Что? – застыл на месте штурмбаннфюрер. – Диверсия? С чего вы взяли?
– Мне показалось странным, что подбитый бомбардировщик мог вызвать такой пожар и такие разрушения… Кстати, по показаниям штурмана, пилот принял решение пикировать на железнодорожный узел только потому, что у них иссяк бензин. Значит, взрыв не мог быть сильным.
Раббе усваивал неприятную новость, заплывшие глаза его мигали.
– Почему вы не сказали мне об этом утром? Сразу же? – выдавил, наконец, штурмбаннфюрер.
– Я еще не допрашивал пленного. И потом – по телефону, Гюнтер!..
– К черту! – сказал Раббе. – Вы испортили мне весь день!
Проводив Вольфа, штурмбаннфюрер Раббе вернулся в столовую, налил рюмку коньяку, поднял ее, но тут же опустил на стол, выругался и подошел к телефону.
– Машину! – потребовал он у дежурного офицера. – Немедленно!
4
Под вечер наползли тучи, затянули небо, ветер переменился, подул с севера, и заметно похолодало.
Подняв воротник куртки, Бунцев неподвижно сидел возле спящей радистки, слушал, как шумит кукуруза, время от времени облизывал сухие губы.
Мучительно хотелось пить.
Бунцев сосал кукурузные листья, жевал обломки стеблей, но это не утоляло жажды, а лишь разжигало ее.
Капитан в сердцах отшвырнул изжеванный стебель, покосился на Кротову, Просыпалась бы, что ли!.. Спит, как в родной избе на полатях. Может, пока партизанила, научилась и воду из воздуха добывать?
С представлением о партизанской войне у капитана Бунцева, как у многих, связывалось представление о чем-то очень благородном, но безнадежно древнем, вроде испанских герильясов, конницы Дениса Давыдова или приамурских походов. Где уж сверкать навахам, трюхаться гусарам, где свистеть левинсоновским клинкам в век моторов и прочей техники!
Недоверие укрепляли и очерки о партизанах, попадавшиеся Бунцеву. Он-то знал, что война – это неимоверный, сложный труд, кровь, грязь, боль, тысячи смертей, и ему казалось обидным, что писатели в погоне за эффектом описывают порой какие-то исключительные партизанские приключения, какие-то случайные, как он думал, эпизоды и не хотят или не умеют написать о настоящей войне.

Конечно, когда писатель пишет о тайнах подполья, о необычайных происшествиях, читателю любопытно, но ведь война не приключение!
«Нет! – думал Бунцев. – Если ты настоящий писатель, ты напиши, сукин сын, как стрелковая рота десять раз на один поганый холм в атаку ходит! Напиши, как полк на бомбежку идет и половину самолетов иной раз теряет! Вот о чем напиши! Тогда от тебя польза будет! А так…»
Бунцев покосился на Кротову. Спит. Что ж, надо, конечно, ей выспаться, но, пожалуй, подниматься пора. Потолковать требуется. Не пивши, не евши далеко не уйдешь. Речку поискать, что ли? Да и в лес, к Телкину, следует поспешить. Один парень остался. Мучается, наверное. Найти его – и тишком, тишком к линии фронта. К своим. Ночными тенями проскользнуть, хоть на брюхе проползти, но выйти к своим!..
Кротову будто толкнули. Села, подобрав ноги, поправила выбившиеся из-под шлема волосы, провела по лицу ладонью.
– Который час, товарищ капитан?
– Девятнадцать двадцать, – сказал Бунцев. – Спишь ты – позавидовать можно. Какой сон видела?
– Мне сны давно не снятся, – сказала Кротова. – Может, после войны увижу. Только лучше не надо. Наверное, невеселый будет.
– Это да, – согласился Бунцев. – Сны будут без участия Чарли Чаплина… Если, конечно, доживем.
– Надо дожить, – сказала Кротова. – Вроде недолго и осталось… Пить, наверное, хотите, товарищ капитан?
– Очень, – признался Бунцев. – Из лужи бы напился.
– Если полевая лужа или лесная – можно, – сказала Кротова. – Только нам так и так, прежде чем к лесу подаваться, в деревню какую-нибудь зайти придется. Еды взять. Там и напьемся.
– Слушай, – сказал Бунцев, – слушай, Кротова! Ты об этом так легко говоришь, словно тут родню заимела… Это у тебя природное легкомыслие или благоприобретенное, а?
– Почему легкомыслие? – спросила Кротова. – Чего же здесь легкомысленного?
– Ну, конечно, ничего. Абсолютно ничего. Удивительно серьезно – припереться в неизвестную деревню, так, мол, и так, мы советские летчики, привет вам с кисточкой, дайте, мамаша, напиться, да и подзакусить заодно… Или, может, ты полагаешь, там нас ждут не дождутся и пирогов напекли?
– Нет, – сказала радистка, – я этого не думаю…
– Слава тебе господи! – сказал Бунцев. – Наконец-то я здравые речи слышу!
– Товарищ капитан…
– Ну что? – спросил Бунцев. – Чем еще осчастливишь?
– Да не осчастливлю… Вам вроде смешно и досадно, как я говорю… Но вы зря сердитесь… Меня же учили в тылу врага воевать.
– Где такая академия существует? – спросил Бунцев. – Что-то я про нее не слышал.
– Вы только не обижайтесь, товарищ капитан, хорошо? Но вы, возможно, многого не слышали… Вот, к примеру, про полковника Григорьева вы слышали что-нибудь?
– Я и генералов-то всех не знаю, столько их за войну понаделали, – сказал Бунцев. – Не хватало, чтоб я всех полковников знал!
– А вам не приходилось к партизанам летать?
– Нет. Но какое отношение к нам твой полковник имеет? К чему ты его поминаешь?
– А к тому, что училась у него, – сухо сказала Кротова, и в голосе ее Бунцев услышал обиду. – Полковник Григорьев Испанию прошел… Вы и про взрывы мин в Харькове не слышали, наверное. А этими минами Григорьев генерал-лейтенанта фон Брауна, коменданта Харькова, на тот свет отправил!.. Да что толковать, товарищ капитан! Вы любого партизана спросите – он вам скажет, кто такой полковник Григорьев и что он для нас, партизан, сделал!
– Погоди-ка, – сказал Бунцев. – Я ж не хотел ни полковника твоего, ни тебя обидеть! Верю, мужик он правильный. Но здесь же не Харьков. Не Испания здесь!.. Ты, кстати, венгерский язык знаешь?
– Нет, но…
– Вот. А твой полковник испанский наверняка знал!
– Не знал. У него переводчица была.
– Неважно. Как-то он говорить с испанцами мог. А мы как говорить с венграми будем?
– С венграми? – переспросила Кротова. – По-немецки, товарищ капитан, попробуем.
– Привет! – сказал Бунцев. – Может, по-английски?
– Зачем? – сказала Кротова. – Может, молодежь немецкий и не знает, а старики понимать должны. Ведь при австро-венгерской монархии жили.
– А ведь точно, – сказал Бунцев. – Ведь и вправду была такая монархия. Ты говоришь по-немецки?
– Как-нибудь объяснимся, – ответила Кротова. – Что ж, пойдем, товарищ капитан? Уже темно.
– А не рано? Не лучше будет попозже?
– Нет. Нам к деревне подойти надо, как огни гасить начнут.
– Зачем?
– А чтобы впереди вся ночь была. Чтобы уйти подальше смогли бы.
– И этому тебя полковник учил?
– И этому, – сказала Кротова.
Нина Малькова крепко обнимала подругу.
– Не выдумывай! Рассержусь!
– Тебе ж холодно! – дрожа всем телом и стуча зубами, проговорила Шура. – Ввв…озьми ппп…латок!
– Не выдумывай! – повторила Нина. – Я о тебя греюсь. Ты же как печка.
– Ннн… евезучая я… – дрожала Шура. – Нннадо же пппростыть…
– Ничего. Согреешься. Полегчает.
– Я и дддевчонкой всегда… пппростужалась… Мммать бранится, бббывало… Кккутала меня… А это ж… еще… хххуже…
– Ты молчи, Шурок. Молчи. Прижмись ко мне и молчи…
– Я и мммолчу… Тттолько обидно…
– Ничего. Прижмись и молчи, родная.
– Ммолчу…
Шура умолкла. Нина гладила ее по широким, костлявым плечам, сильно надавливая ладонью, словно хотела втереть в дрожащее тело подруги капельку тепла и бодрости, передать ей хоть капельку своих сил. Ох, как не вовремя, как некстати заболела Шурка! Как она теперь пойдет? Отлежаться бы ей где-нибудь!..
Спасаясь от холода, девушки не сидели, а стояли, тесно сбившись в один кружок, стараясь греть друг друга. Нину с Шурой поместили в середину озябшей кучки. Остальные время от времени менялись местами: те, что стояли снаружи, становились на место согревшихся, а согревшиеся, в свою очередь, прикрывали их от ветра.
Оставалось в кукурузе всего девять человек. Еще днем беглянки решили разбиться на группы по шесть – восемь человек и порознь пробираться кто куда надумал. Чешки и польки хотели идти в Словакию, где, по слухам, бушевало народное восстание. Две румынки, француженка и датчанка думали вернуться в Румынию. А семеро остались с Ниной и Шурой, чтобы пробиваться на восток: казалось, так они быстрей встретятся с советскими войсками.
К вечеру, отчаявшись дождаться крестьянина-венгра, обещавшего принести хлеба, две группы ушли. А Нинина группа осталась и теперь мерзла на поднявшемся северном ветре, но ждала…
– Может быть, зря стоим… – сказала одна из беглянок, нарушая долгое молчание.
– Не зря! Придет! – быстро отозвалась Нина, оборачиваясь на голос. – Крепись, подруга! Придет!
Женщины опять помолчали. Но безмолвно мерзнуть было выше всяких сил.
– Может, лучше бы нам со всеми уйти… – произнесла другая женщина, безуспешно пытаясь закутаться в рваный халат. – Хоть согрелись бы при ходьбе…
– Стог бы найти! – откликнулась ей соседка. – В стог зарыться…
– Нин… – пробормотала Шура. – Что же они, Нин?..
– Тихо, Шурок, тихо…
Нина попыталась разглядеть в темноте лица говоривших, но не смогла.
– Девки! – сказала она тогда в темноту. – Вас никто же не держал! Сами судьбу выбирали. Что же вы ноетэ? Ну, опаздывает человек. Ну, мало ли что случиться может? Может, немцы у него в деревне!..
– А мог и струсить! – сказал кто-то, заходясь кашлем. Нина переждала, пока стихнет кашель.
– Людям верить надо! – резко сказала она. – Если гг верить – и жить не стоит! Ложись и подыхай!
Снова наступило молчание. Шура дрожала все сильней и сильней. Нина слышала, как трудно дышит подруга: не дышит, а словно заглатывает и никак не может заглотить воздух.
– За меня не бойся, – угадав мысли Нины, горячечным шепотом сказала Шура. – Я крепкая, Нин… Выдержу…
– Молчи, Шурок, молчи, милый! Все выдержат!
– Я, знаешь, в ледоход однажды в речку провалилась… Думала, не добегу до хаты… А ничего… Даже воспаления их было тогда…
– Молчи, Шурок, молчи!
– Я молчу… Только ты не волнуйся…
– Я не волнуюсь… Все хорошо будет!..

Однако Нина волновалась. Слишком долго не появлялся этот венгерский мужик, обещавший принести хлеба. Неужели действительно оробел? Нет, не может быть! По всему видно было – бедняк, а сердце у бедных людей на чужое горе отзывчиво. Вот разве не может из деревни выйти… Но тогда всем плохо придется. Тогда, пожалуй, пора самим куда-нибудь брести, хоть сарай какой-нибудь найти, хоть омет соломы, чтобы согреться. Долго здесь, на ветру, не простоишь. Да и Шурку погубишь. Пылает она. Пылает!
«Еще немного подождем, – лихорадочно думала Нина, – а не придет мужик – уйдем… Но еще немного подождем!»
Она хотела увидеть венгра уже не только из-за хлеба. Нет. Она хотела просить его спрятать Шуру. Пусть спрячет и поможет больной. Ведь скоро придут наши войска, прогонят немца. Долго прятать Шуру не придется. А если оставить ее без тепла и еды – не вынесет она. Сгорит.
Нине послышался шорох.
– Тихо! – шепотом приказала она.
Все замерли. Но сколько ни прислушивались, человеческих шагов не услышали. Только кукуруза шумела и шумела.
– Надо уходить! – с отчаянием сказала одна из женщин, и тесный кружок зашевелился и распался.
– Уходить! – поддержала другая женщина.
– Нельзя тут больше! – простонала третья.
– Стойте! Стойте же! – вполголоса прикрикнула Нина. – Вы меня старшей выбрали! Слушаться обещали!
– Если ты старшая – придумай что-нибудь! – дерзко ответили из темноты. – На гибель потащила – так придумай!
– Мы уйдем! – сказала Нина. – Но уйдем, когда я скажу! Скоро уйдем! Только еще немного…
– Хватит с нас! Подружку свою бережешь, а на остальных тебе плевать! Веди к жилью! Замерзли! Хлеба дай!
Кружок сомкнулся, но теперь на Нину напирали, толкали ее, гневно дышали в лицо и шею.
– Где хлеб? Где тепло? Где?.. Сманила на гибель!
Уже чьи-то руки протянулись к платку, укрывавшему плечи Шуры, рванули его, чьи-то пальцы теребили Нинину куртку, смелели, норовя стянуть.
Горечь затопила душу Нины. Она же спасала людей от немецкого рабства, от неминуемой смерти!
– Прочь! – крикнула Нина, отпуская Шуру и резким движением тела отшвыривая обступивших женщин. – Прочь! Стреляю!
Она задела кого-то стволом автомата, и задетая закричала. Беглянки отхлынули.
– Эх, вы! – задыхаясь, сказала Нина. – Эх, вы!
– Ниночка, не надо! – просила Шура.
– Буду стрелять! – жестко сказала Нина. – Кто подойдет – буду стрелять! Сами не хотите? Я вас силой спасу!
И вдруг осеклась.
– Слушайте! – требовательно сказала она. – Слышите? Да, уже все услышали треск кукурузных стеблей и покашливание. И все притихли.
– Где вы? – по-немецки спросил знакомый мужской голос.
– Тут, тут! – отозвалась Нина.
Давешний крестьянин не подвел!
Женщины потянулись к нему, окружили.
– Хлеб, да? Хлеб?
Крестьянин помедлил.
– Хлеба нет… – сказал он.
Беглянки оцепенели.
– Есть будем в деревне, – торопливо сказал крестьянин, чувствуя их отчаяние. – Жена сварила картошки и кукурузы. Горячее лучше. Она так сказала, жена… И в сарае теплей. Сколько вас тут?
– Девять, – пересилив рыдание, сказала Нина. – Нас девять, товарищ!
Окна хуторских домиков гасли одно за другим. Дольше всех светилось большое, оранжевое в доме на правом краю. Но и оно погасло.
– Пора, – сказала Кротова, поднимаясь с охапки хвороста.
Непогожая осенняя ночь посвистывала ветром, пробирала холодком, окликала далеким, невнятным собачьим лаем.
Пилот и радистка медленно приближались к хутору, с трудом угадывая прихотливые изгибы полевой дороги.
У них не было денег, одежда выдавала в них советских летчиков, и все же Бунцев, поверив Кротовой, принял решение идти в хутор и добыть продовольствие.
Близ околицы остановились. Бунцев, как договаривались, снял шлем, накинул на плечи широкий плащ Кротовой, оба достали пистолеты. Прислушались. Хутор, казалось, спал.
– Входим, – шепнул Бунцев.
Хуторская улочка пахла парным молоком, навозом, прелой соломой, теплом человеческого жилья. В нескольких шагах от пилотов, за надежными стенами домов люди лежали с мягких постелях, укрытые теплыми одеялами. Они были сыты, и они спали…
Бунцев остановился поблизости от большой темной громады – дом окружали пристройки.
– Давай сюда! – шепнул он.
– Да. Хорошо.
Кротова подошла к темному окну и сильно, резко застучала-забарабанила в стекла.
Откликнулись им почти сразу. Хозяин дома недовольно и встревоженно спросил что-то на незнакомом языке.
– Хиер зольдатен! – громко и требовательно сказал Бунцев. – Оффнен! Шнелль!
– Глейх, глейх, – приглушенно донеслось из-за окна. – Ейн минутен!
Прежде чем открыть дверь, хозяин дома приподнял занавеску, попытался рассмотреть стучавших. Он ничего не рассмотрел. Бунцев и Кротова предусмотрительно отступили к крыльцу.
– Входите немедленно и сразу пригрозите, – быстро шепнула радистка.
– Помню!
Однако выполнить отлично придуманный план не удалось. Пилоты уже видели свет в щеляч входной двери, слышали шарканье, как вдруг хозяин дома засвистел, раздался быстрый стук собачьих когтей, к двери подскочил пес, шумно втянул в себя воздух и глухо, утробно заворчал.
Кротова схватила Бунцева за руку:
– Эта тварь все испортит! Стрелять нельзя – обнаружим себя… Надо уходить!
Быстро удаляясь, они услышали голос хозяина дома, успокаивающего собаку и окликавшего солдат. Потом увидели светлый прямоугольник открывшейся двери, плотную фигуру человека с лампой, заметили, как из двери метнулось что-то темное, и сразу услышали злобный, густой лай. Судя по лаю, пес был здоровый.
– Вер ист дас? – громко крикнул хозяин дома.
Подбодренная окликом, собака залилась еще яростней. Но, видимо, она чувствовала опасность, потому что не бросалась на пилотов, а держалась поодаль.
– Пристрелить бы проклятую! – сказал Бунцев.
– Не надо. Отстанет.
Пес провожал летчиков почти до околицы, не слушая окликов хозяина, но возле околицы действительно отстал.
Между тем, взбудораженные его лаем, залились псы в других дворах.
Кое-где в окнах появился свет. Кое-где захлопали двери. Летчикам пришлось бежать, и они остановились, задыхаясь, лишь через километр.
– Ну? – сказал Бунцев, едва переводя дыхание. – Видала? Это тебе не ридна Украина!
– Всяко случается, – ответила Кротова. – Думаете, на Украине сволочей не было? Тоже собак спускали!
Кое-как оба отдышались. На светящихся часах Бунцева было восемь часов тридцать минут.
– Еще два часа у нас есть, – сказала Кротова. – После одиннадцати лучше никуда не соваться.
– Куда ж пойдем? Хлеба доставать надо! Пить!
Радистка подумала.
– Товарищ капитан! Нам все равно по пути к лесу железную дорогу переходить. Так давайте возьмем пару километров в сторону. Попытаем счастья у путевых обходчиков или стрелочников, да и след запутаем.
– А если и там собаки?
– Возле одиночной будки? Неопасно. Да и народ на дороге рабочий… Мы их не обидим. В крайнем случае я свои часы или цепочку золотую на хлеб сменяю.
Бунцев шумно вздохнул:
– Ничего не поделаешь. Эх, черт!.. Придется пошуровать на дороге…
Примерно через час летчики выбрались к железнодорожному полотну. Железная дорога, как и предполагала радистка, никем не охранялась. Пилоты постояли, послушали, не заметили ничего подозрительного и пошли вдоль полотна на восток.
Идти пришлось недолго. Уже через четверть часа они заметили переезд и тускло светящееся окошечко путевого обходчика.
– Входить не будем, – сказала Кротова. – Дождемся поезда. Сторож его встретит и проводит, тогда и подойдем.
Ожидая, пока появится поезд, Кротова вытащила кусок парашютного полотна, расстелила на земле, принялась натирать травой и грязью.
– Плащ-палатку делаешь? – спросил Бунцев.
– Ага. Нельзя же мне в летном…
Бунцев помог радистке. Вскоре полотно потемнело. Теперь оно могло сойти за солдатскую накидку.
– Сила! – сказал Бунцев. – И захочешь – не отстираешь. Вот только мокровато…
– Не страшно. Куртка сырость не пропустит.

Загудели рельсы. Показались огни паровоза. На переезде зажглась красная электрическая лампочка, зазвенели короткие звонки. Минуту спустя из будки вышел человек с фонарем, встал у двери. Поезд прогромыхал мимо – длинный товарный состав с вагонами и платформами, укрытыми брезентом. Обходчик опустил фонарь, почесал под мышкой и повернулся.
– Тихо! – по-немецки сказала Кротова, загораживая обходчику дорогу. – Тихо. Мы не сделаем вам ничего плохого.
Обходчик растерянно топтался на месте, не понимая, откуда взялись эти двое вооруженных людей, кто они и что ему теперь делать. Закричать? Но у этих двоих пистолеты. Да и кто услышит крик? Жена?








