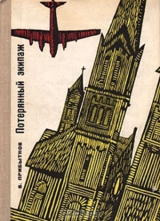
Текст книги "Потерянный экипаж"
Автор книги: Владимир Прибытков
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Офицер подумал, что срок его дежурства закончится через час. Если не произойдет ничего чрезвычайного, то через час можно пойти в тот венгерский ресторанчик, где так славно играет цыганский оркестр и подают настоящий ром. Там, кстати, бывают женщины.
Офицер был аккуратен. Раз в неделю он считал необходимым немного выпить и побывать у женщины. Сегодня как раз прошел недельный срок.
Офицер одернул китель, взял папку и пошел к двери.
В ту самую минуту, когда ксендз Алоиз Торма рассказывал следователю о том, что у него взяли, крестьянин из Пилиша Ловас Теглаш, воротясь домой с мельницы, вызвал во двор свою старуху.
– Что случилось? – спросила жена, обеспокоенная взволнованным видом Ловаса.
– Слышь… – сказал Ловас. – Возле того обрыва, где дубки…
– Тсс… – сказала жена. – Что возле обрыва?
– Кто-то мешки с мукой в воду бросил, – шепотом сказал Ловас. – Я низом брел, так заметно…
– Мешки? С мукой?
– Мешков десять! – сказал Ловас. – И еще чего-то…
– Господи! – сказала жена. – Зачем?
– А я знаю? – рассердился Ловас. – Бросили, и все! Лежат в воде.
– Господи! – сказала жена. – Ты в это дело не ввязывайся, Ловас!
– И не подумаю! – сказал Ловас. – Только мешки надо бы достать. Нынче же ночью.
– Господи! Не надо, Ловас! Мало ли что?
– Заткнись! – сказал Ловас. – Дура! Я же никому не скажу! Ты что, хочешь, чтобы добро пропадало?
– Господи! А вдруг что-нибудь?
– Молчи, ничего и не будет! – сказал Ловас. – Ведь десять мешков!
– Господи! А если узнают?.. Так просто никто не бросит!..
– Раз бросили – значит, не нужно им, – рассудительно заметил Ловас. – А узнать – никто не узнает. Никому не скажем. Только скажи – по судам затаскают, известно… Нет уж! А муку нынче же привезем.
– Господи! – сказала жена. – Мешков десять, говоришь?
– Ага. Не меньше, – сказал Ловас. – Только ты ни гугу!
– Господи! – тихонько воскликнула жена. – Разве я дура?..
И, оглянувшись, они ушли в дом…
На исходе того же дня Петро Кандыба, работавший с утра по сортировке одежды ликвидированных жителей Наддетьхаза, вернулся в казарму и, собираясь отужинать, заметил двух эсэсовцев, появившихся возле дневального.
Появление эсэсовцев никогда не предвещало ничего хорошего. Кандыба сразу подумал, что кто-то нашкодил.
«Интересно – кто?» – подумал Кандыба.
Эсэсовцы, сопровождаемые встревоженным дневальным, двигались по узкому проходу между двухъярусными нарами. Казарма притихла. Эсэсовцы остановились возле Кандыбы. Дневальный со страхом смотрел на Кандыбу.
– Хе-хе… – неуверенно сказал Кандыба. – Хе-хе…
– Вот, – сказал дневальный.
– Хе-хе… – сказал Кандыба, дергая губами. – Хе…
– Встать, – приказал эсэсовец с погонами штурмманна.
– Мене? – спросил Кандыба, не в силах двинуться.
Штурмманн протянул руку, схватил Кандыбу за чуб и рванул на себя.
– Мене? – взвизгнул Кандыба.
Второй эсэсовец привычно провел руками по телу Кандыбы, проверил его карманы, вытащил из них нож, грязный носовой платок, полупустую пачку сигарет, пачку стянутых резинкой кредиток.
– Я ничего не брал! – торопливо сказал Кандыба. – Не надо мене!..
Щелкнули наручники.
– Марш! – приказал штурмманн.
Кандыба знал, что противиться эсэсовцам не следует. Покорно согнув голову, он засеменил по проходу, исподлобья поглядывая по сторонам и пытаясь улыбаться.
– Это не мене! – бессмысленно говорил он. – Не! Не мене!
– Молчать! – сказал штурмманн, и Кандыба с готовностью умолк.
Дверь казармы захлопнулась. Кандыбу впихнули в малолитражный автомобиль. Штурмманн сел рядом с шофером. Второй эсэсовец – возле Кандыбы. Машина пошла к центру города.
Кандыба шевелил губами, жалко улыбался.
– Не мене! – беззвучно, упорно повторял он привязавшуюся фразу. – Не мене!
Он не знал за собой никакой вины. Ничего не крал в эти дни, все приказы выполнял…
– Не мене!..
Кандыбе и на ум не приходило, что арест может быть связан с допросом советского летчика. Уж с летчиком-то все было в порядке! Тут Кандыба считал себя совершенно чистым. За летчика он не беспокоился… Вот разве пронюхали, что он две недели назад золотую челюсть припрятал? Когда евреев стреляли… А больше не за что… Но он вернет челюсть! Хрен с ней, вернет!
– Не мене!..
Кандыбу вытолкали из машины возле здания гестапо. Уж это-то здание он хорошо знал!
«Челюсть!» – подумал Кандыба.
Его провели коридором, ввели в подвальную камеру с грубым, покрытым бурыми пятнами топчаном, со свисающими с потолка веревками.
Кандыбу поставили лицом к стене.
Кто-то вошел.
– Повернись!
Кандыба торопливо повернулся.
В дверях стоял унтершарфюрер с большими залысинами. Засунув за ремень большие пальцы, унтершарфюрер смотрел на Кандыбу.
– Раздеть! – приказал унтершарфюрер солдатам.
С Кандыбы сорвали сапоги, платье, белье. Он неуверенно переступил босыми пятками по холодному полу.
– Если насчет челюсти… – забормотал Кандыба.
– Молчать! – сказал унтершарфюрер. – Скажешь все добровольно – останешься жив. Не скажешь – убью.
– Все скажу! – поспешил заверить эсэсовца Кандыба. – Да боже ж мой!
– Молчать! – сказал унтершарфюрер. – Тебя вызывали в разведотдел? К советскому летчику сажали?
Кандыба вытаращил глаза.
– Говори!
Кандыба торопливо отвечал на вопросы. Все рассказывал. Все. Но, видимо, он рассказывал не то, что хотел услышать унтершарфюрер, потому что тот дал знак солдатам, и они приблизились к предателю…
Вой Кандыбы проник сквозь толстую дверь, просочился сквозь стены.
– Изоляция паршивая, – сказал дежурный эсэсовец, услышав этот вой. – Разве это изоляция?
– Да уж… – согласился другой, позевывая. – А чего ты хочешь? Обычный подвал…
Через час Кандыба сказал, что он предупреждал начальника разведки о подозрительном поведении пленного русского летчика, но получил приказ замолчать и никому не сообщил об этом приказе, боясь расправы.
После этого Кандыбу бросили в камеру, и несколько часов он провел взаперти, на холоде, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить изуродованное тело.
Изредка он взвизгивал и подвывал. Но визг был слабым…
В семь часов вечера за Кандыбой пришли. Его заставили надеть какое-то подобие халата. Связали ему руки. Вывели во двор. Тут, во дворе, Кандыба увидел кучку немецких офицеров в черных мундирах. Одного Кандыба знал. Это был сам штурмбаннфюрер Раббе. Потом Кандыба заметил виселицу. И сообразил, что его ведут к виселице. Ноги у Кандыбы подвернулись. Он упал бы, но солдаты ловко подхватили Кандыбу под руки, быстро поволокли через двор.

– У-у-у-у… – тихонько выл Кандыба.
Солдаты остановились.
– Что такое? – услышал Кандыба голос одного из офицеров.
– Воняет он, господин штурмбаннфюрер! – злобно откликнулся солдат.
– Кончайте!
– Слушаюсь!..
Кандыбу приволокли к виселице.
– Не мене! – тонко завыл Кандыба, почувствовав, как охватывает шею шершавая петля. – Я скажу!
– Хорек обгаженный! – сквозь зубы процедил солдат.
Кандыба на миг умолк, судорожно соображая, кого еще он может предать, что еще сказать, чтобы избежать гибели.
В этот миг солдаты отступили. Один вышиб из-под ног Кандыбы табурет, второй обхватил туловище предателя, повис на нем и выпустил дергающееся тело лишь после того, как услышал хруст позвонков.
Офицеры приблизились к трупу. Раббе привстал на цыпочки, завернул веко повешенного, опустился, отряхнул перчатку, кивнул.
Итак, один из виновных в гибели группы Гинцлера наказан. По крайней мере есть о чем сообщить в Будапешт. А майор Вольф пожалеет, что не хотел слушать советов и пытался опорочить службу безопасности. Конечно, показания такой личности, как Кандыба, доверия руководству не внушат. Но только в том случае, если останутся единственными…
«Самоуверенный болван! – раздраженно подумал Раббе о начальнике разведки. – Выпустил из рук такого пленного! Прозевали по его милости такой десант!»
Штурмбаннфюрер, ознакомившись с показаниями ксендза Алоиза Тормы, был убежден, что русские забросили в тыл армии не меньше роты парашютистов. Количество взятого у ксендза продовольствия ясно говорило о составе десанта. И вот теперь по милости самоуверенного болвана Вольфа попробуй ликвидировать банду, успевшую уйти из района приземления!..
– Зарыть, – махнул Раббе в сторону виселицы. Он заметил подбегающего дежурного.
– Адъютант командующего просит вас срочно прибыть в штаб! – отрапортовал дежурный. И, помедлив, тихо добавил: – Сообщают, что русские начали наступление на стыке армий…
Серые сумерки разгладили землю, стерли пологие выпуклости холмов, затушевали ложбины, неприметно вобрали в себя далекую железнодорожную насыпь, угрожающий перст кирки, крыши селения, кусты, тропы.
Наступал вечер.
Бунцев снял караул.
Скоро выступать, надо подкрепиться на дорогу.
Они сидели кружком вокруг плаща с припасами, ели, переговаривались.
Когда все решено, о том, что надо будет делать, не толкуют. Незачем. В такие минуты лучше говорить о другом.
Телкин неожиданно для всех прыснул, зажал рот рукой, перегнулся пополам, давясь стонущим смехом.
– Ты чего? – улыбаясь, спросил Бунцев.
– Перестань, – сказала Кротова.
Мате поглаживал усы, не зная, смеяться ему или сохранять серьезность.
– Не мо… гу! – простонал Телкин. – Ей-бо… Ну, не могу!
– Уймись, – сказал Бунцев. – С ума сошел!
Телкин махал рукой, вытирал слезы:
– По… по… погоди!.. Сейчас… Рас… расскажу!
Бунцев подвинул Нине круг сыра, глазами приказал:
– Не сиди, как на похоронах! Ешь!
Девушка подняла и опустила голову. Она не плакала больше, но была молчалива, подавлена, и капитану казалось: Нина сторонится его. А он не хотел, чтобы Нина сторонилась.

Бунцев поймал взгляд Кротовой, но, жалея ее, снова чувствуя себя без вины виноватым, выдержал этот взгляд.
«Не суди! – говорили глаза Бунцева. – Все понимаю! Все! Но „это“ не в моей воле и власти. Не знаю, как „это“ случилось. Я не предаю тебя! Ты мне друг навсегда! Просто, сейчас „это“ не в моей воле и власти».
Радистка отвела взгляд, потянулась за ножом. Капитан догадался, что его признание излишне. Она и так все почувствовала и не судит его, а только горько ей, неимоверно больно и горько, и не надо трогать ее, потому что нельзя в таких случаях помочь и не надо помогать человеку. Он должен справиться сам.
– Передай хлеб, – тихо попросила радистка у Нины, и та вздрогнула и торопливо передала хлеб, все так же не поднимая головы.
Капитан видел, как Нина сжала губы. От нее веяло тревогой. Горем. Бедой.
Бунцев с досадой прикрикнул на штурмана:
– Хватит!
Телкин махал рукой.
– По-го-ди!.. Сейчас!.. Помрете!..
Он по-детски втянул и проглотил слюну, вытер глаза и щеки, опять махнул рукой.
– Я сейчас вспомнил, как из училища на фронт ехали!.. О-о-о, черти полосатые!.. О-о-о!
Смеющаяся физиономия штурмана обезоруживала.
– Ты лучше выскажись и уймись наконец, – посоветовал Бунцев.
– Погоди-и-и!.. Ольга про подрывников говорила, вот я и вспомнил… Понимаешь, с нами в вагоне один солдат ехал… Сапер… О-о-о, матушки родные!
Смех штурмана заразил Мате. Даже не понимая слов, венгр смеялся. Смеялся человеческому веселью. Кротова тоже улыбнулась.
– Дурной, – сказала она.
– Ты погоди! – простонал Телкин. – Оля, погоди!.. Ты только представь: тащимся на сухом пайке, а на станциях бабы молоко продают, лепешки, масло… Стоят, понимаешь, с корчагами… Хоть не выходи! Ведь цены-то какие?!. Спекуляция же!..
– Ну и что? – спросил Бунцев. – Что в этом смешного?
– Погоди!.. Мы, конечно, нашу лейтенантскую зарплату в первый день просадили. Ну, а потом на мыло перешли. Понимаешь, бабы за мылом охотились. И расчет такой – кусок мыла на кувшин масла или на два кувшина молока и пять лепешек… О-о-о, дьяволы!
– Повело! – не выдержав, рассмеялся Бунцев.
– Командир! – воззвал штурман. – Погоди!.. Сейчас!.. Ну, иссякло наше мыло… А солдат этот, сапер, сам понимаешь, из госпиталя, и офицерских денег у него нет. Но мужик самостоятельный. Мы его угощали, а он отнекивается, ничего не берет… Только вдруг смотрим, повеселел, после одной станции угощение принял, а потом забился на верхнюю полку и долго там скребся. Затих… Думаем, спит. Ладно… На следующей станции соскакивает наш сапер с верхотуры и подается на перрон, чего раньше не делал… Где он там болтался, я не видел. Только вскочил он уже, когда поезд тронулся. На ходу. И – кувшин с маслом у него!.. Мы, конечно, удивляемся: откуда, мол? Ведь денег у человека нет, да и мыла-то оставался только обмылочек. С детскую ладошку толщиной… – Телкин покрутил головой. – Сапер смеется, понимаете! «Это, – говорит, – солдатская смекалка! Ведь бабы спекулируют, ну, значит, церемониться с ними нечего! Видели, – говорит, – у меня брусочки кирпичные? Макеты толовых шашек? Вот я одну такую шашечку мылом обмазал, чтоб, значит, натурально смотрелась, да в последнюю минуту тетке, какая потолще, и толкни! Она мыло – хвать, а я кувшин – цоп, и – не горюй, родная! Я, – говорит, – этой тетке с подножки крикнул еще: „Мойся, тетенька! Чистота – залог здоровья!“»
– Бродяга твой сапер, – усмехаясь, сказал Бунцев. – И ты бродяга.
– Александр Петрович! – замахал Телкин обеими руками, снова давясь смехом. – Погодите!.. Он, значит, кувшин на столик – угощайтесь! Колупнул масло сверху-то, а масла там – на спичку толщины. Под маслом-то полный кувшин ка-а-ртофеля-я-я!
Даже хмурая Нина усмехнулась телкинской истории. Остальные хохотали вместе со штурманом.
– Командир! – пискнул Телкин, трясясь. – Ты бы слышал, что этот сапер орал!!! «Сволочь, – орал, – обманщица!..» О-о-о!
Штурман успокоился позже всех. Наверное, слишком живо представлял себе и толстую тетку с фальшивым мылом и возмущенного сапера.
Мате попросил перевести ему рассказ.
– Переведи! – сказал Бунцев Нине. – Ты же немецкий лучше всех знаешь…
Нина перевела. Мате смеялся, как ребенок, тоненько, ото всей души.
А Нина, досказав, съежилась, притихла, неподвижно уставилась в одну точку.
Кротова окликнула ее:
– Что с тобой?
– Подругу забыть не можешь? – участливо спросил Бунцев. – Так ведь война, Нина! Крепись! Заплатят дорого нам немцы за смерть Шуры.
Нина рывком подняла голову, обвела всех взглядом.
– Я… товарищи… – сказала она.
Мате еще смеялся.
Нина сцепила руки.
Бунцев, ничего не видя, шарил по плащу.
– Я должна рассказать о себе… – услышал он голос Нины. – Вы должны знать.
Стало очень тихо.
– Рассказывай, – сказала Кротова. – Если должна – расскажи.
Бунцев заметил, как осторожно положил Телкин на куртку кусок хлеба.
Нина уронила руки на колени.
– Я с Макеевки родом… – услышал капитан.
Сумерки подползали все ближе. Они неслышно подкрадывались вплотную к людям, словно опасаясь нарушить горькую повесть о захваченной врасплох человеческой душе.
И, глядя, как сгущаются сумерки, капитан Бунцев видел погасшие звезды над терриконами Донбасса, рухнувшие в реки мосты, последние эшелоны с беженцами и на забитом людьми, машинами, повозками шляхе – одинокую женщину с шестнадцатилетней дочкой и трехлетним сынишкой.
Сынишку приходилось тащить на руках. Дочь несла узел с пожитками и жалким запасом еды.
Пропыленные, немытые, они шли и шли к Ростову.
Падали в кюветы при налете «юнкерсов».
Ночевали то в чужой хате, то в первой попавшейся балочке.
С тоской оглядывались назад, туда, где на горизонте пылали пожары, туда, где остался родной дом, где стремительно наступал страшный, беспощадный, уверенный в своих силах, торжествующий враг.
По ночам мать рыдала: пропало ее гнездо, исчез где-то мобилизованный в первый же день войны муж, впереди ждали голод, нужда, может быть, гибель.
Дочь просыпалась, гладила мать по лицу, по таким же густым, пепельным, как у нее самой, косам:
– Мамочка! Не надо! Вот увидишь – их остановят!.. Они же не могут победить!.. Вот дойдем до Ростова – и переждем. В Ростов их не пустят!..
Она не помнила и не хотела помнить, что так же твердо верила: немцев не пустят в Донбасс.
Мать привела детей в Ростов в самый разгар эвакуации.
Здесь матери повезло: на станции она встретила товарища мужа, и он помог втиснуться в эшелон, отходивший в Краснокубанск.
Нина уже не утешала мать. Стиснутая чужими людьми на верхних нарах товарного вагона, вдыхая запах грязных тел, пеленок, слушая детский плач, мучаясь от жажды, она неотрывно смотрела в темный, нависший над головой потолок и твердила себе: «В армию! В армию!»
Ей было жалко маму и маленького братишку, но ее путь лежал только в армию. Так же, как путь замученной немцами под Москвой партизанки Тани, как других девчонок-комсомолок. В армию!
Эшелон полз несколько дней. Однажды ночью Нина проснулась от тяжести и удушья. Ей зажимали рот. Кто-то рвал платье. Она кусалась, билась.
– Для немца бережешь? – прохрипел в ухо чей-то голос.
Ей удалось вырваться, закричать. Насильник исчез.
– Что с тобой? Что с тобой? – спрашивала мать.
– Сон… – выдавила Нина. – Спи, сон…
Она не хотела, чтобы мать узнала правду. Мать могла заголосить, а Нина боялась позора. Но если бы она знала, кто был около, она бы убила этого человека.
В Краснокубанске мать приютилась с детьми на кухоньке частного дома. Дом принадлежал двум чистеньким старичкам, оставшимся с тремя внуками: сын и невестка старичков, оба врачи, служили в армии.
Казалось, тут будет хорошо.
Но именно тут, в Краснокубанске, и захлестнула семью Нины, как тысячи других семей, мутная волна фашистского нашествия. Советские войска оставили город внезапно. Казалось, бои еще далеко, они только приближаются, а оказалось, немцы обошли Краснокубанск, и войска, отрываясь от противника, вынуждены были сдать город почти без выстрелов…
Стремясь продвинуться как можно дальше, фашистские полчища не задержались в Краснокубанске, оставили в нем только небольшой гарнизон, но город сразу же словно вымер. Даже лишенный воды, он затворился в домах, в квартирах и притих, затаился…..
Три дня не выходили на улицу обитатели маленького домика на Советской улице. Но на третий день кончился запас воды, и мать, взяв с собой Нину, отправилась с ведрами на Кубань.
До реки они дошли благополучно, никем не замеченные. Но на обратном пути, заворачивая за угол, столкнулись с немецким офицером… Нет, это был не тот плакатный немец, что, оскалив зубы и вытаращив пьяные глаза, закатав рукава, на обагренных кровью руках, строчил из автомата. Это был другой. Чистый, подтянутый, выбритый, с немного недоумевающим, как у всех близоруких, но не носящих очков людей, интеллигентным лицом. Он не набросился на мать и Нину с бешеным криком, не стал бить их и угрожать. Он торопливо уступил женщинам дорогу, поднес к козырьку фуражки затянутую в перчатку руку и, казалось, удивился тому, что они сами таскают воду.
– Гнедике фрау! Фрейлейн! – сказал офицер. – Но ведь вам тяжело!.. Ганс, помогите!
Сопровождавший офицера денщик протянул руки к ведрам, которые несла мать. Денщик улыбался.
Мать пыталась отказаться от помощи, но офицер укоризненно покачал головой и повторил свое приказание:
– Помогите, Ганс!
Растерянная мать уступила.
– К сожалению, я не могу оказать услугу фрейлейн, – улыбаясь, сказал немец. – Офицеру не позволительно носить ведра. Но я надеюсь, что впредь вам не придется ходить на реку, гнедике фрау. Мы восстанавливаем водопровод… Куда прикажете проводить вас?
Мать, взволнованная, растерянная, молча пошла вперед.
Офицер шагал рядом с Ниной.
– Вам стыдно идти рядом с немецким офицером? – внезапно спросил он. – Можете не отвечать, я вижу, что стыдно… О, фрейлейн! Поверьте, мы воюем не с вами и не с вашей матушкой! Мы воюем не с русским народом! О нет! Мы воюем с Кремлем. С большевиками. С теми, кто столько лет угнетал вас, лишил вас самых обычных человеческих прав. Мы не насильники, фрейлейн! Мы носители свободы и культуры. И вам не нужно стыдиться.
Нина молчала.
«Только бы никто не увидел нас! – думала она. – Какой ужас! Идти как ни в чем не бывало рядом с фашистом, слушать его… Какой ужас!»
– Русский народ принадлежит к нордической расе, – продолжал офицер. – Он близок нам по крови. Возможно, фрейлейн не знает, но многие русские цари были связаны узами родства с немецкими князьями… О, русских ждет большое будущее. Теперь, когда с коммунистами покончено, когда Германия берет на себя заботу о благе населения, русский народ узнает, что такое настоящая жизнь, настоящая свобода!.. Вам тяжело, фрейлейн? Отдохните!.. Ганс! Подождите! Фрейлейн устала!
– Я не устала! – резко ответила Нина, чувствуя, как онемели руки, как ломит поясницу, но не желая воспользоваться любезностью фашиста. Мать подхватила ее ведра. Кое-как они дошли до дому.
Денщик, улыбаясь, поставил ведра на крыльцо.
– Благодарю вас… – сдавленно произнесла мать.
– О, не за что, – коснулся козырька офицер. – Я желаю вам счастья, гнедике фрау, и вам, фрейлейн!
Они с денщиком подождали, пока женщины войдут в дом. На пороге Нина оглянулась. Офицер снова притронулся к козырьку и ободряюще кивнул ей…
На следующий день Нину вызвали на биржу труда. Возле здания бывшего горисполкома стояли другие юноши и девушки с повестками. Нина никого не знала. Молодежь косилась на нее, но не заговаривала. Наконец соседка по очереди, принаряженная, подкрашенная, взглянула на девушку:
– Ты здешняя?
– Нет…
– И я нездешняя. Никого не знаю. Я из Ростова. А ты?
– Из Макеевки.
– Давай познакомимся… Валя.
– Нина…
– Как думаешь, нас куда-нибудь пошлют? – спросила Валя.
– Откуда мне знать?
– Если пошлют – плохо, – сказала Валя. – Надо здесь устраиваться… Ты немецкий знаешь?
– Знаю.
– В объеме школы, да?
– Нет… Я занималась с преподавателем… Готовилась в институт…
– Ты счастливая! – убежденно сказала Валя. – Тебя никуда не отправят. Немцам нужны со знанием языка!.. Ох, а я плохо язык знаю! Не учила, дура!
Стоявший позади Нины парень в сером пиджаке зло спросил:
– Жалеешь, что не предвидела?
Валя вспыхнула, густо покраснела, но тут же с вызовом заявила:
– Да, жалею! А тебе что, кажется – на вражеской территории воюешь? Пока что не ты в Берлине оказался, а немцы здесь!
– Верно. Пока что, – сказал парень.
– Герой! – сказала Валя. – Вещий Олег! А сам как миленький сюда приперся с повесточкой! Стой уж и не фурыкай!
– Не надо, – попросила Нина.
Парень молчал, стиснув зубы, бледный от гнева.
А Валя торжествовала:
– Учат еще, сопляки! Идейный какой! Чего же ты сюда приперся, если ты идейный? Уходи! Догоняй свою драп-армию, в подполье беги!
Подошел незнакомый юноша, русые волосы зачесаны назад, нос с курносинкой, на подбородке пушок, встал рядом, тихо приказал:
– Замолчи.
– Что? – взвизгнула Валя. – Грозишь?! Грозишь, да?!
Юноша не отвечал, стоял рядом, с прищуром глядя куда-то вдоль очереди, и губы у него были твердые, железные. Беспощадные губы.
Выглянул немецкий солдат.
– Тишина! Кто нарушаль порядок, будет под арест!
Валя умолкла. Юноша постоял еще с минуту и отошел, затерялся в толпе. Нина оглянулась – парня в сером пиджаке тоже не стало. Исчез.
– Ты не смеешь так… – сказала Нина соседке. – Это…
– Смею! – задыхаясь, ответила та. – Хватит с этих доморощенных комиссаров! Накомандовались! Теперь не их время!..
Валю вызвали в канцелярию биржи первой. Она о чем-то долго трещала за дверью, потом раздались шаги, молодой унтер-офицер приоткрыл дверь, с усмешкой оглядел Нину и пригласил ее:
– Битте, фрейлейн!
Предчувствуя нехорошее, Нина вошла.
– Вот она!.. – воскликнула Валя. – Господин лейтенант, она прекрасно знает язык!..
– Что ты сделала? Кто тебя просил? – спросила Нина на улице новую знакомую, выпорхнувшую следом.
– Нечего теряться! – уверенно заявила Валя. – Дура! Ты спасибо скажи! Будешь теперь на этой самой бирже переводчицей. И я благодаря тебе пристроилась. Меня нарядчицей ставят… Ничего! Проживем и без комиссаров!
Два дня Нина не выходила на работу. Прислали за ней ту же Валю.
– Здрасьте! – переступила порог Валя. – Ты больна?
– Нездоровится… – солгала Нина.
– Вы извините! – слащаво улыбаясь, сказала Валя матери. – Нам надо поговорить с глазу на глаз.
– У моей дочери нет секретов, – сказала мать.
– Ах, так?!. Тогда что ж? Тогда я скажу при вас… Нине надо выйти на работу немедленно. Иначе ее отправят в Германию. Я знаю… А кроме того, господину лейтенанту известен состав вашей семьи…
– Что это значит? – глухо спросила мать.
– То самое и значит, – дерзко ответила Валя. – Я вам удивляюсь! Вы взрослая женщина, а простых вещей не понимаете. Вы думаете, оккупационные власти могут мириться с саботажем? Они хорошо относятся только к тем, кто к ним хорошо относится…
Мать выпрямилась, держась за горло. Нина хорошо знала этот жест и знала, что за ним последует.
– Мамочка! Не надо! – крикнула она. – Нельзя!.. Уйди… Я сама…
Мать поняла предостерегающие интонации в голосе дочери, вышла, хлопнув дверью.
– Скажите, какие тонкости! – пробормотала Валя.
– Иди, скажи, я завтра приступлю… – сказала Нина. – Иди…
И она начала работать на бирже переводчицей. Ради матери и маленького братишки. Чтобы сохранить им жизнь.
По ночам плакала: хотела стать такой, как партизанка Таня, а стала немецкой пособницей!
И думала: может быть, удастся найти каких-нибудь ребят, таких, как юноша с русыми волосами или парень в сером пиджаке? Должно же быть в городе подполье! Ведь всюду шепотком говорят о партизанах! Так неужели нельзя найти кого-нибудь, кто бы указал, что делать, как бороться?
На ее горе, в дом повадился ходить тот офицер, что приказывал денщику поднести ведра. Офицер жаловался на скуку и одиночество, приносил шоколад, хлеб и мясо и подолгу засиживался в гостях, словно не понимал, что его не могут выгнать… Ни в чем другом упрекнуть офицера нельзя было. Он держался чрезвычайно корректно, читал Нине вслух стихи Гёте, призывая вместе с ним восхищаться глубиной мыслей веймарского олимпийца и часто рассказывал о своем доме в Майнце, о своей матери, очень хорошей и доброй, но недовольной сыном: он до сих пор не женат, а матери хочется иметь дочь и нянчить внуков…
– Мы высоко чтим семью! – вздыхал офицер и глядел на Нину страдающими глазами.
Вскоре на кухоньку, где жила семья Нины, зачастили соседки, а то и вовсе незнакомые люди с просьбами. Один просил устроить сына на работу в городе, другая – походатайствовать за больную дочку, которую направляют на рытье окопов.
– Но почему вы обращаетесь к нам? – удивилась мать, услыхав первую просьбу.
– Ну так как же? – теребя пальцами подол, смущенно сказала просительница. – Ведь дочка-то ваша… Мы же знаем…
– Что вы знаете? – испуганно воскликнула мать. – Что?..
– Да уж… – сказала просительница. – Ой, я не сужу! Не сужу!.. Но уж помогла бы своим-то!
– Уходите! – сказала мать. – Моя девочка ни в чем не виновата! Слышите? Ни в чем! Если ее оклеветали…
– Ведь я ничего, – сказала просительница. – Голубушка! Я ж понимаю!.. Милая! Я ж не сужу!.. Да ведь чего ей стоит-то? Одно словечко скажет, и все! Небось не откажет ей…
– Уходите! – крикнула мать.
Просительница поджала тощие губы.
– Гоните? Та-а-ак… Ну, благодарствую… Очень, значит, хорошо!
Она ушла и, наверное, со злости наплела три короба сверх того, что слышала от таких же сплетниц, как она сама. Но поток просителей не иссякал. Только теперь начали приходить с подарками.
В маленьком домике подарков не принимали. Нина пыталась помогать людям и без подарков. Но когда ей удалось несколько раз помочь, молва окончательно утвердила за ней славу немецкой девки.
– Брось! Даром бы они ничего делать не стали! – услышала однажды Нина пересуды ожидавших ее просительниц. – А лейтенант энтот, видно, на баб слабоват, вот и не может хахальнице отказать…
– Уж это как бог свят! – поддержали бабьи голоса.
Каждый день на бирже Нина видела Валю. Та ничего не скрывала, прямо говорила, что живет с немецким комендантом. У нее появились модные туфельки, платья, духи. Но Валя завидовала Нине:
– Мой дурак женат. А тебе опять счастье! Уедешь к своему Генриху в Майнц, королевой заживешь!
– Я не собираюсь замуж! – отрезала Нина.
– Рассказывай! – похохатывала Валя, заводя глаза. – Ох, и хитрая же ты! Правильно, Нинка, води его подольше за нос! Накаляй! Мужики, когда накалятся, любую глупость сделают!
Откровенничать с Валей, открывать ей свои настоящие желания было бы непростительно. Нина молчала. Но мечта найти в городе настоящих ребят не оставляла ее. И однажды счастье, казалось, улыбнулось Нине. Торопясь с работы домой, она приметила вечером в переулке знакомую мужскую фигурку. Тот самый парень в сером пиджаке… Парень оглянулся, убыстрил шаги.
– Постойте! – крикнула Нина, понимая, что нельзя упускать случая. – Постойте!
Парень остановился. Нина подбежала к нему, остановилась, не к месту улыбнулась:
– Не узнаете?.. А я вас сразу узнала!.. Помните, в очереди?..
Парень смерил ее презрительным взглядом, но сказал равнодушно:
– Обознались, девушка.
– Ну как же! – покраснела, заволновалась Нина. – Вы еще соседку мою упрекнули… А она на вас набросилась… И еще один мальчик подходил… Русый такой… Помните? Я вас помню, помню!
Парень оглянулся – вокруг никого не было. Он приблизил к Нине искаженное ненавистью лицо.
– Запомнила, сука? Так забудь! Забудь! А то худо будет!
Она отшатнулась, униженная, растоптанная, оскорбленная, а когда опомнилась, парень уже удалялся, все убыстряя и убыстряя шаги…
В городе шли облавы, обыски, расстрелы: немцы искали евреев, коммунистов, партизан. Нет-нет да и гремел выстрел народных мстителей. Взрывалась граната, уничтожавшая немецких солдат и офицеров. Загорался немецкий склад. Сходил с рельсов фашистский эшелон. Немцы тех, кого подозревали в связи с подпольщиками, расстреливали, а то вешали прямо на улицах… Значит, народ не складывал оружия! Народ сражался! Но Нина уже решила, что путь к подпольщикам ей отрезан. О ней идет такая слава, что лучше не пытаться искать…
Между тем время шло. Красная Армия, ведя наступательные бои, освобождала территорию родной страны от фашистской нечисти. Она занимала город за городом. Приближалась к Краснокубанску.
Однажды Валя притащила с собой кипу советских газет, сунула Нине:
– Читала?
– Откуда у тебя это?
– А ты прочти, прочти!
Наманикюренный пальчик ткнул в статью: «Суд над предателями народа».
– Видала, что делается? – слышала Нина тихий, словно из-за глухой стены, истерический голос комендантской любовницы. – Видала?
Газета дрожала в руках Нины.
Перед глазами расплывались фамилии жителей освобожденных городов, осужденных за пособничество врагу.
«Меня тоже сочтут пособницей… – упало сердце у Нины. – Я и есть пособница… Чем я докажу, что невиновна? Чем?.. Меня же считают такой, как Валька… Тот парень… Он смотрел с такой ненавистью…»
– Надо уезжать! – почти кричала Валька. – Я сегодня же скажу своему – пусть увозит! Пусть увозит!..
Вечером к Нине пришел Генрих Грубер.
– Я имею честь просить руки вашей дочери, – церемонно сказал он матери.
Мать растерялась.








