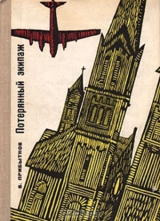
Текст книги "Потерянный экипаж"
Автор книги: Владимир Прибытков
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)

Владимир Прибытков
ПОТЕРЯННЫЙ ЭКИПАЖ
Приключенческая повесть
Быть человеком – это чувствовать свою ответственность. Плевать я хотел на пренебрежение к смерти. Если в основе его не лежит сознание ответственности, оно лишь признак нищеты духа или избытка юношеского пыла.
Антуан де Сент-Экзюпери,«Земля людей»

Глава первая
1
За стенами старого арестантского вагона надрывно выли сирены. В отделении охраны тупо стучали сапоги солдат. В голосе начальника конвоя хрипел страх:
– Всем в укрытие! В вагоне остается Нагль!
– Смена кончилась, господин штурмманн [1]1
Штурмманн – звание фельдфебеля в войсках СС.
[Закрыть]…
– Молчать! Повторите приказ!
– Приказано остаться в вагоне…
– Всё! Заприте дверь!
Топот оборвался. Дверь лязгнула. Сапоги стремительно простучали вдоль вагона, кто-то крикнул:
– Щель возле башни! – и опять ничего не стало слышно, кроме сирен.
– Наши! – сжимая плечо Шуры Нечаевой, шепнула Нина. – Наши летят!
Шура не успела ответить: в вагоне раздался отчаянный вопль. Десятки голосов подхватили его:
– Выпустите! Выпустите! Убийцы!
Женщины соскакивали с нар, топали, колотили в стены, трясли прутья решеток на крохотных оконцах.
– Выпустите! Убийцы!
Выпустите! Нина удержала рванувшуюся подругу:
– Не смей!
Вопли заключенных покрыл визг часового:
– Молчать! Молчать, шлюхи!
– Собирай наших! – быстро сказала Нина, подталкивая подругу. – Слышишь? Собирай!
– Перестреляю! – заорал часовой.
Вагон умолк. Лишь в дальнем углу кто-то тонко тянул на высокой ноте бессмысленное, потерянное:
– А-а-а-а…
– Падаль! – крикнул часовой. – Молчать! Всех… Всех убью, падаль!
Шура соскользнула с нар, уползла в темноту.
Нина ждала, слыша, как громко стучит сердце: так, так, так, так!..
Часовой Фриц Нагль отступил к двери.
Вызванное вспышкой ярости возбуждение ненадолго освободило от страха. Но сирены выли, выли, выли, и Фриц Нагль почувствовал, как опять холодеют внутренности.
– Святая дева Мария… – забормотал Нагль. – Святая дева Мария, спаси меня… Смилуйся, спаси…
Он не мог оторвать глаз от дверной решетки. По ту сторону решетки было спасение, ключ от двери лежал у Нагля в кармане, ключ оттягивал карман, но оказаться по ту сторону решетки Нагль не мог. Не мог. Он должен был охранять этих вшивых баб. Сорок вшивых, никому не нужных баб!
Фриц Нагль кое-что знал. Он знал, что начальник лагеря «Дора» продал этих баб по сто пятьдесят марок за голову фирме «Байер» для проведения опытов с новым снотворным. Значит, бабам все равно подыхать! Все равно! И если бы эшелон не застрял здесь, в Наддетьхаза, они бы уже подохли! Доехали бы до места и подохли! Но эшелон задержали на двое суток, и теперь из-за баб может погибнуть Фриц Нагль!
Нагль выругался. Рука сама скользнула в карман, нащупала большой холодный ключ. Часовой отдернул руку. Нет! Нельзя! Приказ!..
Нагль крыл начальника лагеря. Начальник получит шесть тысяч марок, а ты должен погибнуть, чтобы он получил эти шесть тысяч!
Нагль крыл начальника конвоя. Тот прекрасно знал, что смена Нагля кончилась, но оставил его в вагоне! Спасал своих дружков! Конечно, Нагль у них недавно, вот на нем и решили отыграться! Сволочи! Каждый думает только о себе! Он им это припомнит!..
Сирены выли, словно отпевали.
Фриц Нагль втянул голову в плечи, прижался к углу, крепко закрыл глаза.
– Святая дева Мария! – быстро бормотал он. – Святая дева Мария! Святая де…
Он не договорил, вспомнив, что на соседнем пути стоят цистерны с бензином и нефтью. Его снова бросило к двери.
Только теперь он понял, почему так спешил начальник конвоя. Почему сразу смылись остальные…
– Подонки! – простонал Нагль.
Его оставили на смерть! Цистерны – это смерть! Одна бомба – и смерть! Подонки это знали, драпанули, а его оставили! На смерть оставили!
Ноги часового Фрица Нагля подгибались, как ватные. Он судорожно сжимал в руке ключ от двери. В трех шагах стояли цистерны, сирены выли, а он не мог покинуть пост. Приказ! Он получил приказ! Приказ охранять баб! Шесть тысяч марок! Сволочи, подонки! Нельзя покидать пост! И все из-за баб! Из-за проклятых, вшивых баб, которым все равно подыхать!..
К воплям сирен примешался зловещий, хорошо знакомый часовому звук: звук пикирующего самолета. Яростно застучали зенитки.
– Вот когда! – сжался Нагль. – Конец!!!
И вдруг в смятенном мозгу вспыхнула молния: он может покинуть пост, если не будет баб!.. Никто не проверит!.. Никто не спросит!.. Бунт, и все!.. Да!.. А он останется жив!..
Фриц Нагль знал, что медлить нельзя. Но на долю секунды замешкался: идти на обман начальства…
Его тронули за рукав, и Нагль отпрянул, вскинув автомат:
– Назад!
Заключенная что-то кричала.
«Стреляй! – выл в Нагле страх. – Начни с нее!»
– Там офицер!.. – слышал Нагль. – Там стучит офицер!.. Зовет вас!.. Офицер!..
Нагль, вскинул голову. Только теперь он услышал настойчивый стук в противоположном конце вагона.
«Боже мой! Если бы я выстрелил!..» – с ужасом подумал Нагль.
Ему не достало времени сообразить, что офицер мог подойти сюда, к этой двери. Он думал, что ему повезло. Еще миг – и он расстрелял бы женщин, расстрелял при свидетеле, при офицере, обрек бы себя. А теперь он спасен! Офицер – это спасение! Если стучит – прикажет покинуть вагон! Что-нибудь прикажет!..
Оттолкнув заключенную, Фриц Нагль, рядовой СС, бегом бросился к дальней двери. Ключ он держал в руке. Он хотел поскорее открыть, поскорее услышать приказ!..
Он не понял, почему вагон внезапно вспыхнул, разлетелся на миллионы разноцветных искр. В спину что-то толкнуло, что-то сжало горло, дыхание Нагля прервалось, и он рухнул на затоптанный пол вагона, разжав обессилевшие пальцы и выронив спасительный ключ.
Шура, припав к подруге, пыталась оторвать ее от часового:
– Все, Нина! Все! Надо скорей!
Из распахнутой двери несло холодом, слышался голос Елены, кричавшей по-чешски:
– Женщины, бегите! Свобода! Бегите!
Мимо подруг, натыкаясь на них, молча отшатываясь, бежали заключенные.
– Нина, скорей!
Нина, тяжело дыша, глядела в стриженый затылок часового.
– Что? – спросила она. – Сладко? Сладко, гад? Получил? Лежишь? Все ляжете, все! Все до единого!
Она нащупала на шее Нагля ремень автомата, перевернула убитого на спину, плюнула в смутно белеющее узкое лицо, сдернула автомат. Голова эсэсовца глухо стукнулась об пол.
– Тварь! – сказала Нина. – Лежи, тварь! Лежи!
Они спрыгнули на землю последними. Возле вагона оставалась только Елена. Ждала. Она еще держал? в руке обрезок свинцовой трубы.
Слева, возле водонапорной башни, где недавно послышался взрыв, желтело угасающее пламя. Блики огня скользили по черным, лоснящимся бокам стоящих на соседнем пути цистерн. Цистерны походили на туши ископаемых чудовищ. Тупые рыла чудовищ пялились на пожар. Сирены выли не умолкая.
Шура неожиданно рванулась в сторону, уцепилась за поручни, полезла обратно в вагон.
Елена протянула к ней руки, закричала. Нина, ничего не понимая, топталась на месте. Потом опомнилась. Закинула автомат за спину, ринулась к площадке вагона… Но Шура уже мелькнула в проеме вагонной двери, почти свалилась в объятья подруг.
– Шура! Шура! Ты что?!
Шура оттолкнула их.
– Вот! Вот!
На широкой Шуриной ладони лежала коробка спичек.
– У гада взяла! – выдохнула Шура. – Уходите! Быстрей!
– Да что ты, Шура?! Что?!
– Уходите! – крикнула Шура, отбегая. – Девочки, уходите!
Она уже карабкалась по узкой боковой лесенке ближней цистерны. Повозилась наверху, что-то бурно полилось на землю, резко запахло бензином.
Шура очутилась возле подруг:
– Уходите же! Ну!
Одеревеневшие губы Нины еле выговорили:
– Шура…
– А-а-а! – с досадой уже не крикнула, а почти простонала Шура. – Да уходите же вы! Прочь!
Она сорвала с головы платок, сунула в лужу бензина, нашарила возле рельсов камень, обернула его мокрым платком.
– Прочь! Догоню!
Вспыхнула спичка. Обернутый платком камень полетел в натекшую между путей лужу бензина. Широкая огненная полоса плеснула вдоль цистерны, опалив беглянок. Шура нырнула под вагон, Нина и Елена – за ней…
Новый путь – новый состав. Опять под вагоны. Сбивая коленки, ударяясь о рельсы и рессоры. Ползком, на четвереньках, задыхаясь…

Чудовищный взрыв грянул за спиной. Огненные брызги взвились ввысь. Долетели до девушек. Тени вагонов метнулись вперед, отхлынули, и мрак ослепил…
– Бегите! – кричала Шура. – Бегите!
– Шура, Шурка…
– Ложись, сейчас еще рванет!
Грянуло. Ослепило. Грянуло второй раз. Третий. Пожар бешено заплясал над путями, раскидывая оранжевые, трепещущие под ветром рукава, доставая до неба встрепанными рыжими вихрами. Земля дрожала от неистовой пляски.
– Скорей! Скорей!
Последний путь. Канава с бурьяном. Ржавый рычаг заброшенной стрелки. Серая дощатая стена пакгауза.
Нина оглянулась. В скользящем, неверном свете пути перебегали одинокие черные фигурки. Спешили в поле, подальше от взрывов, от проклятого эшелона.
Нина размахивала автоматом, звала:
– Сюда! Сюда!
Кое-кто заметил, устремился на зов.
Нина побежала.
«Уйдем! – стучало в голове. – Уйдем!..»
Беглянки удалялись от станции. Бежали. Шли. Бежали. Пересекли пустынную асфальтовую дорогу. Перебрались через вонючий ручей. Попали на стерню. Спустились в овраг. Выбрались в поле. Вязли. Падали. Поднимались. Шли. Вломились в неубранную кукурузу…
Нина почти ложилась на тугие, толстые стебли. Разводила их руками, цеплялась за них, но больше она не могла, не могла… Ноги подкосились. Нина ничком упала на влажную землю. Рядом рухнул еще кто-то. Потом еще и еще…
Голос Елены прошелестел:
– Не можно…
Нина с трудом набрала в грудь воздуха. Он разрывал легкие.
– Лечь!.. Всем – лечь!..
Щека ее прижалась к земле, прохладной и мягкой, как чья-то полузабытая ладонь. Запах земли тоже был знакомый – грустный, чуть горчащий запах увядания и приволья. Так пахла по осени донецкая степь. Нина всегда помнила: она не увидит ни родной степи, ни родного домика на окраине Макеевки. Никогда не увидит ни отца, ни мамы, ни младшего братишки Вальки. Никогда. Даже если останется в живых. Потому что для своих она давно мертва. Хуже, чем мертва… Но теперь неважно было, увидит или не увидит она степь и родной дом. Важно было совсем другое…
– Мама! – сказала Нина земле. – Мама!..
2
Удар о землю получился неожиданно мягким. Ноги по щиколотку ушли в рыхлую пашню. Бунцев откинулся на спину, уперся. Погасил парашют.
В предутреннем сумраке у пашни, казалось, не было ни конца, ни края. Пашня и холодная осенняя сутемь сливались. Только на западе сквозь серое ничто уверенно проступал, то бледнея, то сгущаясь, живой свет зарева.
Земля вздрагивала – зарево набирало силу. Оно цвело. А потом медленно увядало. До нового толчка и нового взрыва…
Собирая парашют, Бунцев через плечо косился на пожар. Первые минуты он чувствовал себя ошеломленным. Словно, хлестнув прутом по кряжистому дубу, увидел вдруг, что прут сносит могучее дерево, как головку репейника.
Бунцев знал – бензина в баках почти не оставалось… Но факт оставался фактом – дуб рухнул: на железнодорожном узле Наддетьхаза полыхало и гремело.
«Боеприпасы! – еще не веря самому себе, подумал Бунцев. – Повезло! Зажег боеприпасы!»
Видимо, ему действительно повезло. Иного объяснения не существовало.
Бунцев выпрямился, повернулся лицом к городу, потряс кулаком:
– Получайте, гады!
Он стоял на земле.
Командир без корабля.
Сбитый в чужом тылу летчик.
Но пока зарево полыхало, он еще чего-то стоил!
Беспокойство овладело Бунцевым исподволь. Он оглянулся, отыскивая взглядом стрелка-радистку. Ее не могло отнести далеко: прыгали вместе. Штурман прыгнул раньше, сразу, а они потом, вместе.
Глаза ничего не различали во мгле предсветья. Бунцев заложил пальцы в рот, свистнул. Прислушался и снова свистнул… Ожидая, пока текучая мгла вернет ответный свист, и еще не зная – вернет ли, он не шевелился. Бунцев сорвал шлем: «Не померещилось ли?!»
Но свист повторился. Далекий, слабый, но повторился.
Радостью обдало, как жаром. Следовало бы удивиться этому жару.
Ведь Бунцев знал, почему Кротова не выполни та приказ и не прыгнула вместе со штурманом Телкиным. Знал, почему осталась в машине. Он и раньше обо всем догадывался. И в кабине падающего самолета, шагая к люку, хватаясь за стойки, бешено выругался в лицо радистке. Но Бунцев не удивился обжигающей радости.
Сейчас казалось – далекий свист возвращает все. друзей, эскадрилью, полк, Родину!

Они заметили друг друга одновременно.
– Ты?! – спросил Бунцев. – Цела?
– Все в порядке, товарищ капитан… – сказала Кротова. – Стрелок-радистка Кротова явилась.
Раскаяния в ее тоне Бунцев не услышал.
– Ладно, – сказал Бунцев. – Вижу, что явилась… Почему вместе с Телкиным не прыгнула? Геройство проявляла?
Он помогал ей сохранить тайну. Кротова молчала. Дольше, чем требовалось в их положении для спасительной лжи.
– Нет, товарищ капитан, – сказала, наконец, Кротова. – Ничего я не проявляла… Я же партизанка, товарищ капитан.
– Ну и что? – спросил Бунцев. – Что из того? Если партизанка, значит приказы не для тебя?
Он знал, что Кротова почти три года воевала в тылу врага и в полк попала из партизанского отряда, когда тот соединился со своими. Он отлично знал это. И сам понял, что пустое спрашивает, зря спрашивает, но было поздно: спросил…
– Не могла я вас бросить, товарищ капитан, – очень тихо сказала радистка. – Вы не обижайтесь… Мы же у фрицев в тылу… А мне не впервые…
Бунцев сильно потер подбородок.
– Ага! – сказал Бунцев. – Выходит, ты у меня теперь вместо ангела-хранителя!.. Ну, спасибо, выручила!
Они зарыли парашюты, отрезав и спрятав по куску шелковых куполов.
– Пригодятся, – сказала Кротова.
Бунцев не спорил, хотя им вряд ли что-нибудь могло пригодиться.
Покончив с парашютом, он встал с коленей, отер грязные ладони о полы куртки, спрятал нож.
Взрывов он уже не слышал. Мгла редела. Похоже, приближался рассвет.
Бунцев напряженно вглядывался в зыбкий сумрак, пытаясь разобраться, куда же их все-таки занесло, надеясь угадать среди неустойчивы, теней, порожденных игрой усталого зрения, хоть одну прочную, надежную – лес, кусты…
Он ничего не мог угадать и ни в чем не мог разобраться. Видел лишь какие-то силуэты на розовом фоне пожара: не то скирды, не то низкие постройки. Но ведь не в сторону же города идти!
Бунцев и Кротова несколько раз свистели, надеясь, что отзовется штурман. Штурман так и не отозвался. Выходило, что приземлился он очень далеко, и, значит, делать тут, на пашне, нечего, надо поскорей выбираться отсюда.
Отдавая экипажу приказ покинуть машину, Бунцев назначил место сбора в лесу западнее Наддетьхаза. Значит, идти надо в этот неведомый лес.
Бунцев соображал: пашня на северо-востоке от города, до горд а километра полтора – два, стало быть, отсюда до леса километров семь. А семь километров – это часа два ходьбы. Пожалуй, все три. Правильней считать – именно три. Но через час развиднеет и станет совсем светло…
Бунцев потер подбородок.
Если идет бой, то жизнь каждый миг зависит от совершаемого тобою дела. Так и получается, что в бою каждое деяние становится главным деянием твоей жизни. Новички, конечно, обманываются, думая, что вот-вот наступит передышка. Передышек в бою не бывает. Завершаешь одно только затем, чтобы сразу браться за другое. Ибо главным, пока ты выкладывался, успело стать именно другое, и медлить с ним уже нельзя. Передышка – это все, конец. Шансы на жизнь оставляет только действие. И побеждает только тот, кто знает, как надо действовать.
Бунцев побеждал всегда.
А теперь наступала передышка.
Бой продолжался, а для Бунцева наступила передышка.
Капитан сдвинул шлем, провел рукой по лбу.
– Попали мы с тобой, партизанка, – сказал он. – Здорово попали, слышишь?
3
Лейтенант Телкин увидел чьи-то ноги в бурых шерстяных носках, ступающие по сырой брусчатке рядом с тупоносыми сапогами конвоя. Бурые носки были хорошо знакомы штурману, он даже узнал бежевую сеточку штопки на правом носке и невольно остановился, не понимая, откуда здесь эти носки…
Ошеломляющий удар прикладом чуть ниже шеи, по позвонкам, толкнул лейтенанта вперед:
– Шнелль!
Телкин покачнулся, сделал несколько шагов, со странной дрожью в душе заметив, что ноги в шерстяных носках тоже торопливо переступают по серой брусчатке.
Все оставалось диким и неправдоподобным. А началось со времени: едва заглох задетый осколками левый мотор, минуты, сжимаясь до секунд, потянулись часами… Будапешт остался позади, бомбардировщик вырвался из зоны заградительного огня, но уже отстал от полка, и нельзя было сообщить о себе – поврежденная рация молчала. А потом потекли баки…
Командир вел самолет по «железке». Рельсы двухколейного пути светились внизу ровным, безжизненным светом, какой бывает только ночью. Телкин знал: командир хочет дотянуть до железнодорожного узла Наддетьхаза. До линии фронта не дотянуть, так дотянуть хотя бы до Наддетьхаза. Там эшелоны с войсками и боеприпасами…
У Телкина прыгали губы. Командир был прав. Им ничего не оставалось, кроме железнодорожного узла. Но губы прыгали.
Потом все произошло стремительно, как в плохом кинобоевике: впереди по курсу мелькнули огоньки, Бунцев отдал команду покинуть самолет, и штурман отстегнул ремни, пожал плечо командира, шагнул к люку, на миг увидел расширенные глаза стрелка-радистки, устремленные на Бунцева, в какую-то долю секунду понял, что она не прыгнет, но не успел ни удивиться, ни пожалеть Кротову, ни восхититься ею. А потом штурман почувствовал рывок парашюта и повис на стропах в пустынном небе…
Страх он испытал чуть позже, увидев, что его сносит прямо на город.
Телкин пытался скользить, но его упорно сносило на город, откуда в черную высоту медленно и плавно тянулись разноцветные пунктиры трассирующих пуль и снарядов.
Телкин нащупал кобуру, расстегнул, вытащил пистолет.
– Живым не даваться! – приказал он себе.
Его тащило над садами, над крышами домов, засосало в узкую щель улицы. Телкин приземлился на камни, отбил ноги. Одолевая боль, лейтенант вскочил, начал освобождаться от парашюта. Топот он услышал сразу. И успел выстрелить в бегущего солдата. Но тут же сзади ударили по голове, рванули за ногу, тяжелый сапог раздавил запястье руки, сжимавшей оружие. Чье-то острое колено вдавилось в спину между лопатками. Дыхание остановилось. Новый удар оглушил…
Теперь, шагая между конвойными по сумеречной улице, штурман тупо смотрел на нескладно заштопанные шерстяные носки и силился сообразить: откуда они здесь? Почему они здесь? Как сюда попали?..
Телкин отлично знал эти носки. Месяц назад их прислала из Челябинска невеста, Катя. Телкин сам был владимирский, но невеста у него была из Челябинска, и тут был целый роман. Роман начался с письма. Катя училась в машиностроительном техникуме и вместе с подругами написала на фронт: девушкам объяснили, что бойцы нуждаются в дружеской поддержке, в душевной теплоте. Катя никому конкретно письмо не адресовала, писала неизвестному бойцу. Попало письмо к Телкину, и он с ответом не задержался. Он-то знал, как надо писать девчонкам! Обрисовал смертельные бои, в которых непрерывно проливает молодую кровь, сообщил, что холост, что некоторые знакомые называют его блондином, что обожает драматическое искусство и поэзию, вписал симоновское стихотворение, сообщив, что сочинил его между двумя боевыми вылетами, признался, что давно мечтает о настоящей любви, и просил выслать фотокарточку.

Ответ почему-то задержался. Телкин повторил атаку и получил отповедь.
Катя писала, что, судя по письмам лейтенанта, они очень разные люди и поддерживать переписку не имеет смысла. Тем более что Катя стихов не пишет, а чужие выдавать за свои находит некрасивым. Закончила она ядовитым пожеланием не проливать кровь столь безудержно, как проливает Телкин. А то, мол, что же останется «некоторым знакомым», считающим Телкина блондином?..
Дочитав послание, Телкин покраснел и тотчас оглянулся: не видит ли кто-нибудь? Видели. Бунцев видел. Лежал на койке, сосал карамельку и наблюдал.
– Ну что, козел? – спросил Бунцев. – Получил по рогам?
– Вот еще! – сказал Телкин. – Видали мы таких! Подумаешь, свистулька!
– Ты стреляться не вздумай, – озабоченно предупредил Бунцев. – Во-первых, ЧП, а во-вторых, неизящно. Ты валяй, как римский патриций: наладься в баньку и там вены вскрывай.
– Он бы пошел, да мыться не любит, – сочувственно сказал их сосед по комнате старший лейтенант Добряков.
– Ладно! – сказал Телкин. – Остряк!.. Ну, чего ржете? Обрадовались!
Скомкал письмо, полдня ни с кем не разговаривал, а кончил тем, что украдкой сочинил длиннейшее послание на Урал. В послании не было ни чужих стихов, ни намеков на загадочность телкинской натуры, мятущейся в роковом одиночестве, ни просьбы о присылке фотокарточки. Была только просьба не сердиться…
Через неделю Телкина простили. А еще через три недели, получив конверт со знакомым обратным адресом, Телкин на ощупь определил: фотокарточка!..
Штурман вскрывал конверт бережно и терпеливо. Он ясно представлял, как войдет в свою комнату, поставит фото на тумбочку и на вопрос старшего лейтенанта Добрякова: «Кто такая?» – равнодушно бросит: «Так, одна знакомая…»
И Добряков «умоется», потому что Катя, факт, похожа на Франческу Гааль из кинофильма «Петер» или в крайнем случае на Любовь Орлову.
Телкин это по письмам чуял!
Распечатав конверт, штурман озадаченно уставился на детски круглое девичье личико с кургузыми косичками и маленьким веснушчатым носиком. Он даже перевернул фотографию на обратную сторону.
Дней через пять Телкин рискнул показать портрет Добрякову.
– Ну, как?..
– Детский сад, – сказал Добряков. – Откуда выкопал?
– Да так… – тоскливо сказал Телкин.
И обозлился на Добрякова. Много он понимает! А глаза какие! И вообще…
– Смотрите, Александр Петрович! – сказал Телкин Бунцеву. – Вот та самая уралочка. Я не показывал?
Телкин ревниво следил за твердыми, неуклюжими пальцами пилота, готовый в любую минуту подхватить фотокарточку, если Бунцев, упаси бог, ее обронит.
Но Бунцев карточки не обронил, а, отведя руку в сторону, чтобы получше рассмотреть лицо Кати, кивнул и сказал:
– Да-а-а… Хороша Маша, но не наша!..
– Ага! – сказал Телкин. – Поняли?
И, отобрав фото, тут же водрузил на тумбочку…
Переписка с Катей длилась уже полгода, в мыслях штурман уже не называл Катю иначе, как невестой, а получив посылочку с папиросами и носками, впервые назвал невестой и вслух. Правда, не при ребятах. При почтальоне. Но – назвал!..
Тело штурмана ныло от ударов, левый глаз заплыл, в спину то и дело подталкивали, чужая лающая речь резала слух, и все это было так ужасно, так неправдоподобно. Телкин настолько был уверен, что ничего подобного с ним никогда не произойдет, что ему еще казалось это наваждением, оно минет, сейчас минет…
Но он по-прежнему видел ноги в шерстяных носках, шагающие по брусчатке рядом с тупоносыми сапогами конвоя, он уже узнал эти носки, связанные для него Катей, узнал бежевую штопку на правом носке и неожиданно осознал страшную правду: это он, он идет по чужой улице без унтов, это его связали, его взяли в плен…
В плен?!
Телкин рванулся, раскидывая конвоиров, но удар прикладом опять свалил штурмана с ног, и он грянулся о брусчатку и проехался по ней, обдирая лицо о камни…
4
– Надо уходить, товарищ капитан, – сказала радистка.
– Куда?
– Все равно. Надо искать дорогу.
– Дорогу? Ты думаешь, что говоришь?!
Радистка помолчала.
– Товарищ капитан, – сказала она, – разрешите, я объясню.
– Ну!
– Товарищ капитан, вы по званию старше и по должности. Вы командир. Но сейчас доверьтесь мне. Здесь оставаться нельзя, а пашней далеко не уйдешь… Надо искать дорогу.
– Где?! И зачем? Там фрицы!
– Нет там никаких фрицев, – сказала радистка. – Чего им ночью на дорогах торчать? Спят они ночью.
Бунцев покосился на Кротову.
– А ты ходила по дорогам? В тылу у немца, ходила?
– Ходила, товарищ капитан, – сказала радистка. – Вы доверьтесь. Пойдем!
Бунцев еще раз огляделся.
«А почему бы и нет?» – подумал он.
– Хорошо, веди, – сказал Бунцев вслух. – Куда пойдем?
– Туда, – не задумываясь, ответила Кротова и махнула рукой в сторону пожара.
– Туда?.. Город же там!
– Идите, идите, товарищ капитан! – позвала Кротова уже из темноты.
Каждые тридцать – сорок шагов они останавливались, нагибались, ножами счищали с унтов толстые, липкие ломти грязи. Бунцев вспотел. Он расстегнул меховую куртку, распахнул ворот комбинезона, снял шлем, но все равно ему было жарко и все равно приходилось отирать льющийся на глаза пот.
Радистка забирала влево. Полоса побледневшего зарева тянулась теперь по правую руку, и летчики шли вдоль этой далекой полосы.
«На восток идем, а надо на запад…» – думал Бунцев.
– Где твоя дорога? – спросил он Кротову на первой же остановке.
– Где-нибудь тут, близко, – сказала радистка.
– Откуда видно, что близко?
– Так ведь мы город огибаем, – сказала радистка. – Значит, должны на дорогу натолкнуться. Ведь какие-нибудь дороги в город ведут?
Бунцев промолчал. До такой простой истины можно было додуматься самому.
«Нервочки! – зло сказал он себе. – Нервочки!»
Они не сделали и сотни шагов, как радистка подняла руку.
– Что?
– Дорога, товарищ капитан.
Шоссе отделял от пашни неглубокий кювет. Радистка перебралась через кювет и ожидала капитана.
– Ну, и что теперь? – отрывисто спросил Бунцев. – Нам же на запад, к Телкину!..
Кротова открыто стояла посреди пустынного шоссе, поправляла унты. Разогнула спину.
– Вы не охотник, товарищ капитан?
– При чем тут охота?
– Утку, знаете, как стреляют?
– Лекцию читаешь?
– На перелете ее стреляют, – сказала радистка. – Она с кормежки на дневку всегда одним прямым путем летит. Здесь ее и колотят.
Это была вторая простая истина, но Бунцев не захотел принять ее.
– Так, – сказал он. – Утка, значит, прямиком летит… А кто петляет, ты знаешь?
– Заяц петляет, – невозмутимо ответила Кротова. – И если хорошо петляет – гончие лапы собьют, пока разыщут, товарищ капитан.
Бунцев еще не перешагнул кювет.
– Все равно, – сказал он. – Все равно. Не дождутся, гады, чтобы я от них по кустам и канавам хоронился. Пусть приходят. Шесть пуль – им, седьмую – себе.
– Нет! Шесть пуль им – мало! – жестко пояснила Кротова, – Больше можно. – И напомнила: – Надо идти, товарищ капитан.
…Сумрак медленно, нехотя отступал, и, продолжая идти в нескольких шагах за Кротовой, Бунцев Еидел уже не только движущееся живое пятно, а различал шлем радистки, линию мехового воротника, покатые плечи, короткие, неестественно толстые в унтах ноги.
Шоссе по-прежнему вело в безлюдную серую мглу, но глаз уже угадывал, где асфальт натыкается на щебенку обочин, а бурая пашня – на травянистые откосы кюветов.
Бунцев оглядывался, напрягал слух: в неясных звуках этой выморочной поры ему чудились звуки погони. И хотя радистка теперь удалялась от города, ее спокойствие Бунцева тревожило.
– Смотри, рассветет скоро! – предупредил Бунцев.
– Ничего. Нам бы проселок найти, – не останавливаясь, ответила Кротова. – Свернем на проселок – разберемся…
– Рассветет – поздно разбираться будет, – сказал Бунцев.
Проселок попался шагов через пятьсот. Бунцев и Кротова свернули, около получаса шли на юго-запад, натолкнулись на тропу и пошли тропой.
Небо посветлело. Ночной бесцветный мир обретал первые краски. Прибитая тропа серела среди поля – бурого поблизости и по-прежнему черного вдали. Белесыми вихрами торчали рядом с тропой кустики полыни. Показалась стена неубранной кукурузы. Она уже не была сплошной: глаз различал отдельные стебли, листья, обломанные верхушки растений.
Зарево пожара над станцией Наддетьхаза потускнело. Стало видно: в небо поднимаются клубы дыма.
Кротова приглядывалась к окрестности. Остановилась.
– Придется там, – кивнула она в сторону кукурузы. – Очень светло…
– Сворачиваем?
– Надо найти межу. На меже следы незаметней.
Они пробирались межой, пока кукуруза не поредела, пока не открылось новое поле, а за этим новым полем, в километре от летчиков, – темнеющие среди деревьев крыши хутора.
Кротова повернула обратно. Летчики петляли по кукурузе, раздвигая толстые стебли, ступая по оборванным, побелевшим листьям. Кое-где под ногой хрустели обглоданные початки.
Бунцев молчал. Он понимал: радистка «путает след». Что ж? Может, это выручит. Конечно, если немцы всерьез станут искать, то…
Кукуруза опять поредела. Бунцев узнал за стеблями то самое поле, ту самую тропу, с которой они свернули.
Радистка уже расстегнула куртку, бросила наземь кусок парашютного полотна, опустилась на него.
– Здесь, – сказала радистка. – Если по следу пойдут, мы их первые заметим.
И, вытащив пистолет, положила рядом с собой.








