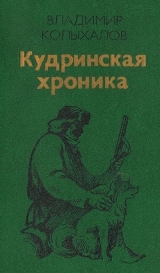
Текст книги "Кудринская хроника"
Автор книги: Владимир Колыхалов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Глава вторая
1
– А есть ли мне путь туда, куда и седая ворона костей не занашивала? – ухватился за эту мысль Савушкин. – Не далеко ли собрался суму тащить? В твои ли годы шастать в какую-то тмутаракань? Не лучше ли присматривать начинать к жилью поближе место? И не заставит ли оскудение тайги совсем бросить промысел? Рано ли поздно – заставит!
Хрисанф Мефодьевич вспомнил недавний свой разговор со старшим сыном Николаем, строителем, а после, попозже, со средним из сыновей, Александром. Александр у него роста невысокого, в очках, и тоже пошел по отцовской линии: после армейской службы уехал в Иркутск и выучился там на охотоведа-биолога. Рассудительный, как и Николай, спокойный, но в споре всегда гнул свою линию. Он-то тогда и сказал отцу:
– Скоро ты, батя, бросишь охоту и займешься клеточным звероводством, и тебе разрешат разводить неплотоядных животных. Сейчас везде к этому дело идет. Наука и практика давно доказали, что вообще звероводство, когда оно верно поставлено, и прибыльней и надежней охоты. Наступает так называемый «эффект пустой тайги». Численность пушного и всякого зверя падает, птица тоже редеет; вырубают леса, осушают болота, и в этом первая причина оскудения природы. А то выпадут годы бескормные, то зимы суровые, то наш технический век в каком-нибудь месте наступит своей железной пятой. Немало причин, которые теснят дикий животный мир. А клеточные зверушки от этого не зависят. Человек взял их под опеку, поит, кормит, следит за размножением по всем правилам биологической науки. Соболь и норка, нутрия и песец… Лисы уже одомашнились и даже, подобно собакам, пушистые хвосты свои кренделями закручивать стали. Полный мир и согласие с человеком!
Савушкин уважал серьезные разговоры, умел терпеливо выслушивать. Не перебивал он и Александра. А когда тот умолк, возразил:
– Ты, сын, наверно, прав, но не по духу мне это твое размышление, не по нутру. Я живое прикосновение к природе люблю. И ты его любил, и братья твои – Николай с Михаилом. И зять Михаил, Игнатов-то наш, из той же породы. Мы все у костров прокоптились, страсть к следопытству, к хорошему гону не потеряли.
– Брата Мишу ты мог бы отсюда и исключить, – сказал Александр. – Он в этом смысле краюха как раз отрезанная. На буровую пошел работать и, похоже, его теперь оттуда не выманишь.
– И пусть! Каждый себе дорогу выбирает, – ответил Хрисанф Мефодьевич. – Он учился на механика, работает дизелистом на буровой, и это ему по носу… Нет, как ты там хочешь, а я в тайге еще поброжу! Техника, нефть потеснят – дальше уйду. От зимовья моего верст двадцать до старообрядческого скита. Пойду туда, скажу: мужики-бородачи, не гневайтесь, когда я где-нибудь с краю ваших угодий ловушку поставлю или с собакой зайду! И пустят! Знаю я их. И они меня знают…
Сын Александр понимал отца: вгрызся в тайгу его батька, руками-ногами за корневища держится. Но сам Александр от этого отдалился: после учебы пожелал распределиться в коопзверопромхоз под Новосибирском, будет там разводить клеточных норок.
Человек достигает всего. Тех же норок научились выводить и белых, и голубых, и шоколадного цвета, и даже сиреневого. Хрисанф Мефодьевич одно время отлавливал по заказу новосибирских ученых живых норок, крепко в том отличился, и его приглашали в тот институт в Академгородке, где над зверьками разные научные работы проделывают. И насмотрелся же он там чудес! И все удивлялся изобретательности людей.
А под Москвой, в Пушкине, вон как сильно улучшили породу соболей. Вывели таких черных, с густой переливчатой шерстью, что и в природе, поди, подобных нет. И норки в клетках много красивее тех, каких он добывает по Чузику. Снимешь шкурку, а она вроде как грязноватая, броскости нету в ней. Вон у него на купленной магазинной шапке – одна к одной, искрятся, переливаются, темные, будто осенняя ночь. Смотришь на шапку – любуешься. Но и опять же цена! Шестьсот рублей – это все-таки деньги. Правда, он за ценой не стоял: уж ему-то, охотнику, ведомо, как тяжело достается пушнина…
Думы о будущем промыслового дела не оставляли Хрисанфа Мефодьевича. Под вой метели он сводил Солового к проруби, напоил коня. Ветер сек снегом Савушкину лицо, выбивал слезу. Ну и приспела погодка, накатила некстати; неизвестно, сколько так вот продержится. Но и без того не бывает, чтобы ненастью вдруг не обрушиться с небес на землю. Когда-то же надо и ветрам подуть…
Был уже полдень. Савушкин сидел за столом, вытянув ноги, отхлебывал – из кружки горячий чай, дыша паром. Хоть и держала его метель без дела, но он думал, и справедливо, что в зимовье ему все-таки лучше, чем в кудринском доме. Томительно на душе, да терпимо: шум тайги успокаивает. А дома, в поселке, зимою сидеть – не приведи господь! Как в заточении каком он там себя чувствует. Грудь теснит, дыхание сбивается – воздуху вроде бы не хватает ему. Жена Марья ворчит, когда он уходит в лес, мол, на ней и дрова, и вода, и топка печей в большом доме, и уход за скотиной. Муж убегает в тайгу-де отсиживаться, а бабе все хлопоты тут на плечи.
– Ну и глупая ты у меня старуха, – скажет Хрисанф Мефодьевич и почешет затылок. – Отсиживаться! Да тебя бы туда послать на денек по заносам полазить, ты бы вкус теплого угла у печи поняла. Конечно, тебе достается, сочувствую, но и я там не пряник медовый ем.
Это «сочувствую» так способно разжалобить его Марью, что она начинает вдруг хлюпать носом и утирать цветастым ситцевым передником глаза. Полная грудь Марьи вздымается, опадает и снова вздымается. Неприятно такое видеть Хрисанфу Мефодьевичу. Он для порядка стучит кулаком по столу и строго велит прекратить жене причитания. Рассерженным голосом и с обидой он спрашивает, чьими стараниями добыты шкуры медведей и росомах, что лежат в комнатах на полу и по окованным сундукам, шапки собольи, что носят они с дочерью Галей, кто достал им воротники на пальто? И Марья сникает, глаза ее устыженно моргают, подбородок склоняется и ложится на грудь. Настроение у Хрисанфа Мефодьевича испорчено, и он в этот день, если собрался перед тем ехать, уже не едет. С нагруженных саней он скидывает провиант и снаряжение, заносит все в кладовку, а на сани закатывает бочку ведер на двадцать, укрепляет ее тугими веревками и едет к реке по воду, бренча, привязанным к головкам саней ведром. Потом с женой, дружно и ладно, они вычерпывают воду из бочки, переливают ее в кадушки, что рядком стоят дома на кухне – запас питья делают для скотины. Хрисанф Мефодьевич входит в полное понимание забот жены, до глубины сознает, что Марье одной тяжело со скотиной, ведь с живностью дома дня не промедлишь. На подворье у Савушкиных свиньи, корова, бык, нетель, овец дюжина, конь. Но конь – животина особая, и забота о нем лежит целиком на Хрисанфе Мефодьевиче. В покос Соловый так же незаменим, как в тайге на охоте. Савушкин одно время предлагал Марье сократить у себя поголовье домашних животных, оставить лишь корову, одну свинью и необходимую ему лошадь, но жена поднялась, что называется, на дыбы. Пусть она будет мучиться, пусть ломит ей ноги и руки, ноет по ночам поясница, только она без домашности не останется. А у телевизора посидеть она время найдет.
– Что ли, смерти моей желаешь? – расшумелась однажды Марья. – На пенсию выйти и без работы остаться? Да это же трудовому человеку верная гибель! От безделья люди-то больше всего и помирают.
Без хозяйства Марье Савушкиной было невмоготу, как ему без тайги и охоты. И тяжко, и годы уж клонят пониже к земле, но, пока ноги держат, не отступится он от промысла, а она – от привычных своих хлопот дома.
«Отсиживаться в зимовье уезжаешь!» Трепанет тоже бабий язык несуразность такую! – вспоминал Хрисанф Мефодьевич колкие слова и слезы жены. – Только в метель-то и посидишь у тепла в избушке. И не сидел бы, может, да снегодуй велит.
Стреноженным конем чувствовал себя в это буранное время Савушкин. И скука томит. И гость в непогодь никакой не заглянет. А то бы чайку за компанию попили, языки поточили. Да некого ждать.
Всех ближе к зимовью Савушкина поселок Тигровка да старообрядческий скит, не носящий более никакого – другого названия. Из Тигровки к нему люди заглядывают, тот же Милюта, управляющий, заезжает, когда в Кудрино на совещание какое-нибудь путь мимо держит. Но такое случается в вёдро, а не в ненастье. Кому и зачем охота тащиться в метель? Разве какой вездеход прогрохочет, не сворачивая к зимовью. Ему, железному, сильному, гусеничному, буран нипочем. И дороги не нужны столбовые. Несется – пыль позади, облаком снег вихрится. Скоро сейсмики поведут свои поезда в самую глухомань. Эти ребята покоя не знают. И достается же им. Почище геологов из конца в конец по тайге мыкаются. С осени поглядишь – бодрые, машины у них отлаженные, нигде не помято, не погнуто. А к весне – в чем душа только! Техника так искорежена, переломана по пням-колодинам, будто из какого побоища вышла. Буровые станки у сейсмиков тонут в болотах, и оттуда их, из топей-то, вызволяют немыслимыми путями, приспособления самые хитроумные придумывают. Приходилось Хрисанфу Мефодьевичу быть свидетелем этих мучений.
Зять Савушкина, Михаил Игнатов, Игнаха, сам высокой статьи механизатор на весь Кудринский совхоз, и тот головой трясет, когда о сейсмиках речь заходит. Даже на свой счет сомневается – справился ли бы он с работой на этих профилях. Для ремонта у сейсмиков нет никаких условий, а дела вершить надо. Вот и выходит, что в сейсмопартии не просто нормальный труд, а целое поле сражений. Но еще не было, кажется, случая, чтобы сейсмики не забирались в самые малодоступные дали, не преодолевали невзгод…
А ведь и вправду она существует еще, такая тайга – дремучая, неоглядная. Меряют каждый год ее вдоль-поперек, да измерить не могут. Летал Хрисанф Мефодьевич над тайгою на самолетах и вертолетах во все концы, на коне, на Соловом своем, вымеривал многие версты, пешком исхаживал. Лет двадцать тому назад здесь вообще тайга непролазной была, сумрачной. Это теперь по тайге сплошь профили, визиры, по которым можно ходить и без компаса. А по воздуху и вовсе в любую точку тебя забросят. Сиди в вертолете, посматривай в кругленькое оконце, меряй глазом пространство, примечай, где какой лес растет, где речки извилистые текут, где болота, озера. На какое место укажешь, там и присядут – лишь бы чистина была, голея, чтобы машине было зависать безопасно.
Летал над тайгою Савушкин, много летал. Дочь-то его, Галина, тому всегда поспособствовать рада. Она в кудринском аэропорту в кассе сидит, в ее же обязанность входит встречать и отправлять самолеты. Все пилоты, которые здешнюю сторону не обходят мимо, знакомы с ней. А с некоторыми она просто в большой человеческой дружбе. Вот часто сюда прилетает веселая симпатичная женщина – Валя Хозяйкина. Галина ее обожает и все удивляется, как она, по профессии врач-стоматолог, вдруг стала пилотом.
– И вовсе не вдруг, – улыбаясь, рассказывала как-то в диспетчерской Хозяйкина. – Через немалые трудности пришлось пройти. Два раза ездила поступать в летное училище. Мечта такая была у меня, с детства мечта! От аэроклуба до аэрофлота. Как поманило небо, так и держит.
Хрисанф Мефодьевич тоже в диспетчерской был в это время, справляться о вертолете к знакомому авиатору заходил, слышал тот разговор и думал: «Всего человек добивается, если захочет. И среди охотников женщины есть, и смелости, и выносливости у них хватает. И эта пилотша – из тех, из настырных. Молодец бабонька!..»
Новости в Кудрино первыми привозили они же – пилоты. О том, что тут собираются строить город, еще и молвы-то не было, молчали газеты и радио, а он, Савушкин, уже знал. Новость, впервые услышанная им от дочери Галины, постепенно начала подтверждаться. Сначала на окраине Кудрина шустро обосновалась группа сейсмических партий; через год прибавилось люду у геологов. А потом, так же быстро, стало врастать корнями и управление разведочного бурения. Главный инженер буровиков-разведчиков Виктор Владимирович Ватрушин и молодой начальник всей этой службы Саблин умели по-деловому и накоротко сходиться с людьми, все у них вертелось, кипело, хотя и трудностей поначалу перемыкали они будь здоров сколько. Дела их и жизнь проходили на глазах всего кудринского населения. Многое видел и Хрисанф Мефодьевич, даром что большую часть года в тайге проводил.
В размеренный, тихий, устоявшийся уклад жизни Кудрина стремительно врывалась новизна.
Мысль Хрисанфа Мефодьевича опять репейной колючкой ухватилась за старое, снова обеспокоила его душу: хватит, останется ли ему здесь шири-простору, будет ли он по-прежнему гарцевать в царстве тайги, или уж этому царству приходит конец? Он размышлял, прикидывал так и этак, и выходило, что простор пока еще есть и на этом просторе водится зверь, птица гнездится. Вот только побережней, порачительней не мешало бы быть! Не жечь, не рубить понапрасну. А то ведь что? Те же геологи, сейсмики, буровики начинают по осени тайгу утюжить на тягачах и «Уралах», дичь боровую с подъезда скрадывать и стрелять в несметных количествах. Глухари, косачи – птицы хоть и не глупые, но доверчивые. Подъезжай вплотную, приоткрывай дверцу кабины, выставляй ствол и пали, пока последний косач с ветки не упадет камнем. Не улетает боровая дичь от машины, когда она непуганая. По косачу бьют – он головой вертит, почку клюет как ни в чем не бывало. Не дикая, осторожная птица, а прямо какой-то смертник. Попадет пуля – камнем падает оземь. Другие сверху на него смотрят, ждут последней своей минуты…
Когда боровая дичь тут водилась тучами – столько ее наколачивали! В азарте в лютую жадность впадали и не замечали ее за собой. Это уже была не охота, а настоящий грабеж природы. Дичи и так битком в кузове, а стрелки из кабины по сторонам продолжают зыркать – не зачернеет ли где еще на вершине дерева глухарь или тетерев.
– Иметь бы вам совесть! – всегда с горечью говорил о таких разбойниках Савушкин. – Охота, конечно, дело азартное, но не терять же голову.
Теряли и совесть, и голову. А без совести, справедливо считал Хрисанф Мефодьевич, нормально жить человеку немыслимо. Кого совесть не гложет, тот и боли чужой не почувствует, куска хлеба голодному не подаст, руку в беде не протянет. У бессовестного душа, точно проржавевшая кружка: сколько не наливай в нее – не задержится. С бессовестным человеком лучше и дел не иметь. Бессовестные – это и Мотька Ожогин, и те, кто может ранней весной лосиху с теленком убить. Хрисанф Мефодьевич схватывался нередко с такими негодниками, тыкал в глаза им словом, крыл на чем свет стоит, и так хотелось по наглой физиономии кулаком припечатать, да мудро от этого сдерживался. Иногда помогало и слово. В тайгу едучи – оглядывались, боялись попасть ему под колючий взгляд.
В этих сражениях с браконьерами Савушкина крепко поддерживали и Ватрушин, и Саблин, и Румянцев. Ну а об участковом лейтенанте милиции Владимире Петровине и говорить нечего: тот всегда приходил на помощь охотнику в таких делах. Перво-наперво был проведен строгий учет огнестрельного оружия, у нарушителей ружья или отбирались, или владельцев двустволок и одностволок заставляли оформить все нужные документы, вступить в охотничье общество. Иные, косясь на Хрисанфа Мефодьевича, говорили ему:
– А сам-то ты соблюдаешь и сроки, и нормы отстрела? Полный порядок, что ли, блюдешь?
– Блюду. Я – промысловик, – отвечал Хрисанф Мефодьевич. – Сколько положено мне по договору, столько я и добываю.
– И ни в чем, ни в чем ты перед природой не виноват?! – домогались настырные.
Тут Савушкин задумывался и однажды ответил с полной честностью и прямотой:
– Виноват. Да еще как! Был случай, можно сказать, несчастный, когда я в тумане, на чучелах в скрадке по весне сидя, заслышал над головой шум крыльев и выстрелил на этот шум. И упал на воду, представьте себе мое горе, смертельно раненный лебедь…
– Вот видишь! – вскричали ему враз те, кого он стыдил и совестил за их безобразные дела в тайге. – Тяжкий грех на тебе самом!
Поник головою Савушкин, ничего не сказал – ушел. Но к порядку в охоте не переставал призывать и после этого откровенного разговора.
К счастью, оголтелых охотников среди приехавших осваивать недра было немного, и Хрисанф Мефодьевич верил, что сообща, миром можно и потеснить дурные наклонности.
2
Кудринские месторождения нефти и газа открыли давно, а подступиться вплотную долго не решались. Причины на то были серьезные.
На средней Оби, в пределах земли нарымской, уже широко осваивались два нефтегазоносных района, а кудринский (он же и парамоновский – по названию райцентра) все еще оставался как бы в резерве. И сам лот третий район был менее доступен, чем те северные два. Дороги в Кудрино не вели никакие. Речки по здешней земле, правда, текли, но маловодные, извилистые: теплохода по ним не отправишь и тяжелой груженой баржи – тоже. Мелкие суда тут ходили лишь в короткое время весеннего паводка. А завозить сюда предстояло все – от гвоздей до гравия, которого здесь не имелось. А сколько других разных грузов намечалось доставить в Кудрино! И в огромных объемах.
– Подкопят силы, дождутся зимы и двинутся к нам скопом, – говорил Хрисанф Мефодьевич, когда речь заходила в Кудрине на нефтяную тему. – Сначала надо сюда дорогу построить. Без нее по нашим пням да колодам и по морозу зимой не много напрыгаешь. Я зимником раз проехал до областного центра, так боже ты мой! Думал, все зубы повыпадают, и придется мне их потом собирать по кабине «Урала».
– Насчет дороги кадровый охотник Савушкин мыслит правильно, – замечал со всегдашней своей ухмылочкой директор совхоза Румянцев. – Проложат дорогу – начнут разработки. А к этому сразу же нужно нефтепровод в строй вводить. Без него и нефть нашу девать будет некуда. А государству она нужна! Кудринские миллионы тонн еще как пригодятся! Ты читаешь газеты, Хрисанф Мефодьевич? Во всем мире – энергетический голод.
– Читаю, когда ты мне в зимовье почту пересылаешь с попутчиками. Или сам завозишь! – подмигивал Савушкин. – В тайге, по правде, я больше радио слушаю. И приятно, если про Кудрино наше Москва говорит. Уже несколько раз в последних известиях вспоминали!
Да, все верили в тихом Кудрине, что придет время, и задрожит земля не от грома – от гусениц сверхтяжелых машин, от вертолетного грохота, от поступи сотен прибывших сюда людей. До той поры кудринцы жили с некоторой долей зависти к своим северным соседям, где давно уже били фонтаны и полыхали красные, дымные зарева факелов, по ночам далеко озаряя пространство. Сама Парамоновка, как райцентровское село на Оби, несколько лет тому назад уже слегка прикоснулась к громкой славе нарымской земли, когда рядом с поселком прошел своей серединой мощный нефтепровод. Тогда в Парамоновке был организован штаб стройки. Туда на целые месяцы залетали важные лица из министерств и главков – как говорится, дневали и ночевали в Парамоновке. И секретари обкома партии жили подолгу здесь, чтобы на месте, без промедления, разрубать возникающие узлы, влиять на ход важной стройки. Нефтепровод соорудили в короткий срок, и на митинге по случаю «красного стыка» руководитель областной партийной организации Викентий Кузьмич Латунин сказал речь, в которой были и такие слова:
– Удивительная, товарищи, вещь! История нам подсказала, что если на карте здешней земли обозначить нитку нашего нефтепровода, то она совпадет с той тропой, по которой в царское время бежали из Нарыма политические ссыльные. Видите, как распорядилась жизнь, воля партии и время! Мы дали выход тюменской и нашей нефти на восток страны. Этот нефтепровод строили представители многих национальностей. И все они проявили высокий патриотизм и мужество…
Хрисанф Мефодьевич, как и многие в Кудрине, слушал тот митинг по радио и с гордостью думал, что и он по воле судьбы или случая может считать себя немного причастным к той большой стройке.
Тогда Савушкин охотился в северной стороне. Соловый, поёкивая селезенкой, легко носил охотника по тайге, моложе был и резвее. В тот год особенно хорошо промышлялось, много было всякого зверя и птицы. Во все погожие дни в небе без устали стрекотали вертолеты, переносили тяжести на подвесках. Со стороны поймы в глубину тайги достигал гул трубоукладчиков, канавокопателей, мощных тракторов. Всю эту технику Савушкин уже видел не один раз и молча восхищался ею. Трасса нефтепровода пролегала близко от его охотничьих троп, и Хрисанфа Мефодьевича, человека таежного, не переносившего всякого шума, все же поманило туда – к нефтетрассе. Сначала он испугался этого своего желания, снял шапку и сильно стал натирать ладонями уши. Далекий гул от этого как бы приблизился, приобрел еще большую четкость. И желание Савушкина сходить туда, откуда доносился гул, не унялось, а наоборот обострилось. Трудно было ему объяснить свои чувства в эту минуту. Наверно, подействовали разговоры Хрисанфа Мефодьевича с зятем Михаилом, Игнахой, который за всякую технику стоял горой. Да и сам Савушкин, если уж так откровенно признаться, не был ее хулителем. Куда без техники теперь? Да никуда! Вертолетом он пользуется. На самолетах летает. И огород давно не копает лопатой. Тот же зятек на тракторе заезжает и перепахивает все в считанные минуты. И если бы Савушкин тогда ладом покопался в душе своей, то помял бы еще и другое: гордился он тем обновлением, которое шло на дремучую его землю. Обновление многоголосое, шумное, звучащее далеко по стране…
На исходе был март, и Савушкин уже почти отохотился. Дни, как на радость, приходили один за другим ослепительные, со звоном капели и легким подтаиванием снегов. Хрисанф Мефодьевич, выйдя к рыбацкому поселению Юрты, оставил коня у знакомого мужика, сам встал на широкие лыжи и вскоре оказался в самой тяжелой точке нефтепровода – на речке Кудельке, через которую подводники прокладывали дюкер. Не ведал Савушкин, что накануне здесь побывали на белом большом вертолете министр Мингазстроя страны Кортунов и первый секретарь обкома партии Латунин. Маленькая Куделька, таежная речка средней величины, держала всю трассу. Куделька хранила какую-то тайну, а какую – подводники разгадать не могли. И дюкер лежал все еще не опущенный под воду.
По обоим берегам Кудельки, на месте строительства, снега почти не было. Изрытая, перемешанная земля, а на ней – хмурые люди, встрепанные, усталые, сердитые, суетящиеся. И постороннему глазу было понятно, что дело у них не спорилось, и они от этого нервничали, перекрикивались и даже ругались. Стоящая на том и другом берегах техника не работала, но двигатели порыкивали на малых оборотах.
Хрисанф Мефодьевич снимал лыжи, думая поставить их у большой ободранной с комля лиственницы, когда к нему подошел человек средних лет в распахнутом черненом полушубке, с развевающимся по сторонам красным шарфом. Лицо у подошедшего было бурым от загара и ветра, точно его усердно и долго натирали наждачной бумагой. Савушкин подумал, что этих людей сильнее, чем его, дубит здесь воздух и солнце. Усмешка у человека в черненом полушубке была кривая, а взгляд – приятный, теплый и удивленный. На смуглом лице синева глаз казалась почти небесной.
– Здравствуй, товарищ! – сказал подошедший. – Интересно тебе поглядеть, как мы тут в речушке этой барахтаемся?
– Может, и так, – отвечал весело Савушкин. – Вы тут кем будете? Главным, поди, водокрутом?
– Почти. Я начальник подразделения подводников. – А имени и фамилии не назвал.
И Савушкин решил тоже не называть себя. Но то, что он местный охотник, признался.
– Ух ты! – хлопнул рукавицей о рукавицу начальник подводников. – Пару темненьких собольков я бы купил у вас!
– А светленьких не надо? – игриво спросил охотник.
– Да и таких можно, – не почувствовал розыгрыша подводник. – Только вот денег нет при себе…
– И хорошо! Я без мехов. И вообще – не торгую, – напустил на себя сумрачность Савушкин.
– Сознательный? – И взгляд синих глаз опять мягко прошелся по лицу Хрисанфа Мефодьевича.
– Как учили…
– Верно, – как-то устало сказал подводник и предложил охотнику присесть на пенек.
Однако Савушкин садиться не стал. Решил объяснить, почему захотелось ему прийти сюда, поглядеть на дела людей.
– Грохот у вас тут! Даже по ночам не смолкает, – заметил Савушкин.
– Эх, дорогой человек! – сокрушенно вздохнул подводник. – Моторов не глушим, сами не спим как следует… Прошли Обь, перешагнули без особых препятствий Васюган и Чаю, а вот на какой-то ничтожной Кудельке споткнулись. Лед ломкий, дробится, будто стекло. Не то что ледорез – человека-то не всегда выдерживает! Не речка – каленый орешек. Одни мы всю восьмисоткилометровую трассу держим. Упреки высокого начальства для нас – как подзатыльники. Краснеть надоело…
– Это что же за колбаса такая? – спросил Хрисанф Мефодьевич, показывая рукой на дюкер. – Как стрела. Или как будто ракета лежачая.
– Ради этой конструкции мы здесь и находимся! Дюкер! По нему под водой пойдет нефть. Дюкер надо на дно уложить, а у нас не получается, и мы мучаемся. Сначала урезы, траншеи не удавались, но кое-как с ними справились. Теперь майну… ну, искусственную полынью… очистить не можем: лед хрупкий. А майну требуется очистить быстро и так, чтобы ни льдинки в ней не было. Иначе протаскивать дюкер начнешь – поранишь обшивку. А такое нам допускать не положено.
– Значит, вся ваша загвоздка – в речке? – задумчиво спросил Савушкин.
– Конечно – в ней!
– Послушай-ка, парень, – стал говорить охотник. – Может, я что не так понимаю, но мне вот что кажется…
И замолчал на минуту – задумался. И эта минута показалась подводнику долгой, а у него, подводника, затеплилась какая-то надежда, возник интерес. Он и поторопил:
– Ну?
– Поди, не запряг, не нукай… Я эту Кудельку знаю – приходилось рыбачить тут раньше. Берега у нее больно топкие, как кисель…
– Поэтому мы и с урезами долго бились.
– А чего, и побьешься…
– На дне же – плотные глины. И много ила нанесено, – все более оживлялся в разговоре подводник.
– А когда ил в воде, тогда и лед непрочный, – заметил Савушкин. – И вам не машиной надо резать его, а долбить пешнями.
– Пешнями? – Синие глаза инженера стали выпуклые от удивления. – Да у нас – посмотрите – какая техника! И где я столько пешней возьму? Ведь каждая пешня – пара рабочих рук. А у меня – горсть людей и тысяча сил в машинах.
– Идите-ка вы в Юрты, позовите на помощь тамошних рыбаков. Заплатите им хорошо, и они вам полынью сачками очистят за милую душу.
Савушкин говорил это весело и уверенно. Инженер-подводник подумал, что-то прикинул и без лишних слов пошел с Хрисанфом Мефодьевичем в деревню.
И привалило к вечеру сюда двадцать рыбаков в розвальнях, с сачками и пешнями. А кони – как на подбор – гнедые. И Савушкин с ними был. Его по-настоящему захватил интерес, что получится из той простодушной подсказки, что дал он отчаявшемуся человеку, видать, большому знатоку своего дела. И этот интерес грел душу Хрисанфа Мефодьевича.
Помнится Савушкину, как двое суток, без перерыва, лишь с короткими передышками, не выпускали они из рук пешни, сачки. На ходу пили кофе, ели горячие пирожки, что подвозили им на машине.
И снова была работа до пота, до мозолей и ломотья в пояснице. Во все стороны брызгал лед, искрился – особенно ночью, при свете огней. Гирляндами висели на столбах мощные лампочки. Шуршали сачки, стекала вода. Движения людей по обоим закрайкам льда были едиными и упорными.
А майна – четыреста метров в длину, и ширины немалой. Мороз подоспел вовремя, как по заказу, градусов под тридцать. Лед по краям выдерживал лошадей и людей.
Помнит Хрисанф Мефодьевич, как заблестела майна темной водой. Чистое зеркало, а над ним от мороза – туман. Начальник подразделения подводников бегал с просветленным, счастливым лицом. Надо было спешить, и все понимали это. Савушкин так вошел в роль советчика, что тоже бегал от берега к берегу, размахивая руками и выкрикивая слова в общем старании и гуле. Рыбаки-юртинцы сделали свое дело, но возникло новое осложнение: нужна лебедка, чтобы протаскивать дюкер, а ее еще раньше угнали на Север и не успели к сроку вернуть. Однако расторопный инженер нашел из этого выход: протаскивать дюкер с помощью тягачей.
Пять тягачей впрягли, как пять норовистых коней, но точного, единого натяжения не было, и толстые тросы из-за рывков лопались.
– Добейтесь синхронности в натяжении! – кричал инженер дизелистам.
И добились ее.
Целые сутки ушло тогда на укладывание дюкера через Кудельку. Захваченный общим азартом, Хрисанф Мефодьевич не уходил. Он увлекся, ему было радостно в этой людской сознательной толчее.
– Бросай охоту, переходи к нам! – шутил начальник подразделения.
– Боюсь, тайга по мне заскучает, – отвечал бодро Савушкин.
И пришел час, когда начала продвигаться нефть, – медленно, выдавливая с шипением воздух сквозь вантузы. Савушкин, не менее взбудораженный, чем другие, жадно смотрел на все это, прислушивался к разговорам. По внутренней связи переговаривались:
– Ну как там у вас, на Кудельке?
– Шипит!
– Хорошо, что шипит! Подходит нефть. Ждите! Поток продвигается к вам беспрепятственно.
Шли часы напряженные, длинные. Показалась эмульсия… И вот она – нефть! Хрисанфу Мефодьевичу запомнилось точное время, когда это случилось: шесть часов тридцать минут утра.
Момент был, конечно, торжественный. Подводники кидали вверх шапки; не удержался и Савушкин – тоже подбросил свой треух. Все одержимо кричали, обнимались, как бывает только в час наивысшей радости. В свете огней, казавшихся уставшими, как и люди, руки и лица рабочих блестели жирными пятнами нефти. И Хрисанфа Мефодьевича помазали нефтью. По трубе нефтепровода она шла чистая, теплая – настоящая кровь земли.
Наступил день – облачный, светлый. Пора была возвращаться Савушкину. Начальник подводников и все сердечно прощались с ним. Инженер выглядел уже не угрюмым, взъерошенным человеком, а молодцом. И сказал, не гася блеск в своих синих глазах:
– Один француз тонко заметил, что родина у человека там, где проплывают самые прекрасные облака. Стоит взглянуть на это вот небо, и убедишься в справедливости сказанного.
Белые, грудастые облака плыли неторопливо в высоком мартовском небе. Они вызывали в душе Хрисанфа Мефодьевича глубокие чувства к родной земле…
День вообще тогда был полон тепла и света. Все далеко вокруг виделось, все сквозило и ласково дышало первым земным испарением. Проталины еще не проглядывали, но корки сугробов вычернились от вытаявшего на них сора. У старых берез снег приосел, и вот-вот у стволов должны были обозначиться темные ободы. Выглянет скоро земля из под зимней шубы!








