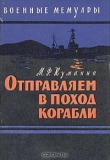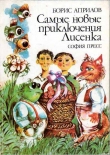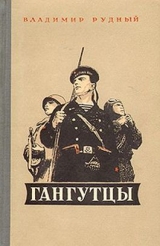
Текст книги "Гангутцы"
Автор книги: Владимир Рудный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 47 страниц)
– Если фугас взорвется, то он взорвется вовремя.
– Не хвастайте, капитан. Я отлично знаю все ваши провалы. Вам известно, что в девятнадцать ноль-ноль на даче банкет?
– Так точно. Постарайтесь уйти не позже двадцати трех часов.
Халапохья опустил глаза. Он ненавидел всех шведов – от маршала Маннергейма и своего начальника генерала Хейнрикса до этого стяжателя Экхольма. Именно шведов он считал виновниками того, что всю свою жизнь служит иностранцам и к сорока пяти годам он, участник путча в Лапуа, стоит на несколько ступеней ниже в чине, чем этот трус, который привык загребать и чины и марки чужими руками. «А если ты, шведская морда, и взлетишь сегодня вместе с рюссами, невелика беда, – размышлял Халапохья. – Одним шведом на финской земле будет меньше».
– Дрезину приготовить к двадцати двум часам, – с подозрением глядя на Халапохья, сказал Экхольм. – А вы, капитан, пойдете на банкет со мной.
– Слушаюсь! – Халапохья спрятал книжечку и вышел.
В назначенный час Экхольм поднялся на веранду дачи и с минуту постоял у двери. Где-то рядом шумел движок. Дача была ярко освещена. Мимо Экхольма пробежали какие-то русские. «Сколько их поналетело за неделю!» Еще так недавно Экхольм принимал на этой даче гостей из европейских столиц, а теперь он сам гость, гость у советского комиссара. «Как трудно выиграть год!» – вздохнул Экхольм и решительно вошел в дачу.
Комиссар сразу же пригласил его в гостиную, где стоял длинный, обильно, но неумело накрытый стол. Прав маршал: у этой расы иные нормы культуры. «Слишком много света! – зажмурился Экхольм. – И душно. Не умеют топить камин…»
В камине потрескивал костер из свежих сосновых дров. Пахло хвоей и дымом. Ветер, гудя в дымоходе, гнал в комнату дым.
– Русские любят все переделывать по-своему, – заметил Экхольм. – Вопреки традициям этого дома, мы сегодня ужинаем не в столовой, а здесь.
– Вы так расхвалили этот уютный уголок, что я решил доставить вам удовольствие, – учтиво сказал Расскин. – Прошу вас сюда, господин полковник, поближе к огню. Этот камин, господин полковник, неплох. Действительно, как вы говорили, здесь все устроено в английском стиле.
– Да, да, англичане умеют жить, – усаживаясь рядом с комиссаром, сказал Экхольм. – Но камин лучше топить сухими дровами.
– Не все сразу… – рассмеялся Расскин. – Научимся и камины топить.
– Капитан! Почему вы так далеко? – воскликнул по-фински Экхольм, заметив, что Халапохья садится ближе к двери. – Извините, господин комиссар. Капитан слабо знает русский язык, хотя и является старым другом России. Прошу, капитан, садитесь рядом.
– Очень приятно находиться среди друзей, – Расскин переглянулся с Репниным и наполнил себе и соседям рюмки. – Я не сомневаюсь, что в Финляндии много друзей нашей страны, и предлагаю тост за дружбу!
Финны поддержали тост.
– Из-за одной русской водки я готов всегда дружить с вами, – пошутил Экхольм.
– Что же вам мешает?
– С тех пор как у нас отменен сухой закон, помехи устранены, – в том же шутливом тоне ответил Экхольм. – Всегда и всему предпочитаю вашу водку.
– Ну, тогда повторим!
Экхольм прислушался. Ему почудился мерный тикающий звук. Он поставил рюмку на стол и покосился на старые настенные часы. Часы зашипели и пробили: «Раз, два…» «Восемь, ровно восемь, – насчитал Экхольм. – Столько же и на часах в трубе. Есть ли там стрелки? Впрочем, какая разница – есть там стрелки или нет…»
Он рассеянно заговорил о климате Ханко.
– Летом здесь будет замечательно, – сказал Расскин, отвечая на вопрос, нравится ли ему полуостров. – Я люблю северное лето.
– Северное лето привлекает сюда людей из дальних стран. Тут отдыхал весь дипломатический корпус.
– И как будто даже представитель Японии? – спросил Репнин, сидевший между Экхольмом и Халапохья. – Меня, признаться, удивила токийская газета, найденная в одной из пустых дач. Откуда она сюда попала?
Халапохья ломаным русским языком лениво произнес:
– Азиаты любят Балтийское море.
– Особенно морские атташе, – вставил Репнин. – Скажите, пожалуйста, – я не знаю финского языка и потому не смог прочитать надписи, – что это за обелиск на берегу бухты?
– Памятник погибшим немецким солдатам, господин лейтенант, – внушительно ответил Экхольм.
– Вы имеете в виду десант фон дер Гольца?
Экхольм подтвердил:
– Обелиск поставлен в честь десанта в тысяча девятьсот восемнадцатом году.
– Но ведь это были войска оккупантов?
Экхольм насмешливо посмотрел на собеседника.
– Воинская честь независима от политики, лейтенант. Я могу привести убедительный для вас пример. Эту дачу вместе с вашим покорным слугой в январе хотел сжечь советский летчик. А мы похоронили вашего летчика с почестями. При оружии. Хотя он наш враг. – Довольный своим ответом, Экхольм предложил выпить за русского героя.
* * *
На веранде дежурили Думичев и Богданов.
Богданов уселся на деревянную балюстраду. Он тоскливо смотрел на покрытый льдами залив, на пустынную гавань.
О чем может думать матрос на чужбине? Конечно, о девушке. Вот и комиссар спрашивал, есть ли у него невеста. А невестой Любу еще никто не называл. Да и сам он стеснялся: девочка она против него, вроде сестренки… Первый раз, когда танцевать пошли, всех насмешил: связался черт с младенцем. Руки держал не на талии, а почти на плечах и смотрел куда-то в сторону, будто боялся смотреть на девушку сверху вниз. До войны они встречались редко, только когда Богданова отпускали с курсов киномехаников. Потом он ушел на фронт. Всю зиму переписывались. Вернее, писала Люба, а он ее писем не получал. Письма, все разом, принес в госпиталь его тезка и дружок по лыжному отряду – тоже Богданов и тоже Александр. Тому вручили письма по ошибке. Вот с этих писем все и началось. Люба спрашивала: почему не пишет? Не ранен ли?.. Потом рассказывала о себе. Про то, что поступила на курсы медсестер. Про то, что хочет, очень хочет попасть на фронт… На фронт ее не пустили… Он послал из госпиталя записку, и Люба тут же пришла. Разлука сблизила их больше всех довоенных встреч. Не спросясь Любы, он написал матери, что у него есть невеста. Только не назвал ее. И Любе ничего не сказал… Не хватило духу сказать, даже перед новой и, как он думал, долгой разлукой. Он решил, что на Ханко – это все равно, что на фронт. А комиссар говорит – семьями надо обзаводиться. Пошутил или нет? Приехать, конечно, Люба сможет, похоже, что откроют сообщение с Ленинградом. Только специальности у нее нет, что же она тут будет делать? Может быть, в госпиталь возьмут?..
У Думичева были свои заботы. Он пытался разговориться с рыжеватым денщиком капитана Халапохья. Финн выглядел старше Думичева, а ростом был выше на голову. По всему видно – бедняк. Какой-нибудь помещичий батрак. Жмут его финские помещики, как жали русского крестьянина в России до семнадцатого года.
Думичев родился в семнадцатом году. Когда он подрос, то кругом на тысячи верст уже не было не только помещиков, но и кулаков. Однако он хорошо понимал, почему этот парень трепещет в присутствии толсторожего капитана. Ясно: капитан – кулак, денщик – батрак. Следовательно, с денщиком надо поговорить.
Думичев не знал ни одного финского слова, кроме названия трофейного автомата, который висел на груди у Богданова: «Суоми». Он потянул финна за рукав и ткнул пальцем в автомат на груди матроса:
– Суоми?
Финн испуганно отодвинулся.
– Да брось ты, не съем! – рассмеялся Думичев. – Понимаешь?
Финн хлопал рыжими ресницами и молчал.
– Эх ты, голова садовая! Ну! – Думичев пропел: – «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов…» Понял? – крикнул Думичев.
– Да брось ты его уговаривать! – одернул товарища Богданов. – Повидал я их. В плен берешь – тихо, мирно. Отвернешься – он тебе норовит всадить в спину нож.
– Несознательно ты рассуждаешь. А еще моряк! – возмутился Думичев. – Если он тебе нож в спину целит, значит, фашист, кулак, сволочь. А этого застращали. Вот он и боится слово сказать.
– Ему капитан все мозги вышиб.
– Не говори. А наших отцов в старой армии разве не били?
– Так то наши. Наши сами себе волю взяли. А эти…
Думичев отвернулся от Богданова и продолжал свое:
– Эй, камрад! Как тебя там, Суоми? Ну, вива Испания! Понимаешь? У, дьявол несознательный! Ну как же тебе объяснить?
Он перебирал все памятные иностранные слова: «Гренада», «Но пасаран!», «Рот фронт!», «Пассионария»…
– Вспомнил: Антикайнен! Понимаешь, Антикайнен… меня вот – Сергей, Сергей Думичев. Понял? Образца тысяча девятьсот семнадцатого года. А тебя? Антикайнен? – Думичев ткнул финна в грудь.
Финн оглянулся на дверь дачи и тихо сказал:
– Калле Туранен…
– Калле? Дошло, понял! – обрадовался Думичев. – Так ты кто, Калле, батрак или бедняк? Ну, понимаешь? Вот! – Думичев старался изо всех сил, показывая работу землекопа, сгибался в три погибели, изображая впряженную в воз лошадь, ударяя себя по бицепсам, свирепо сжимал кулаки и наконец изобразил что-то вроде приветствия «Рот фронт!».
Финн улыбнулся и тоже показал русскому свои руки и мускулы.
– Я – ты, вот! – разошелся Думичев и протянул финну руку.
Финн хотел ее пожать, но резко отдернул руку.
Распахнулась дверь, на веранду выскочил Халапохья. Финн вытянулся. Халапохья что-то рявкнул и с размаху влепил денщику затрещину.
Богданов спрыгнул с балюстрады, метнулся к капитану.
Думичев схватил Богданова за руки:
– Тихо, матрос!.. Это у них называется – внутренние дела. Нам вмешиваться нельзя.
Халапохья сказал что-то денщику, и тот немедленно исчез.
* * *
Прощальный ужин подходил к концу. Экхольм считал себя специалистом по русским делам. За два десятилетия службы в разведке через его руки прошли сотни людей – от генералов царского двора до всякой мелкой шушеры из политических и уголовных бандитов. Представители новой России были ему непонятны. Они часто ставили Экхольма в тупик. Раздражали их прямолинейность, манера от любезной вежливости переходить к откровенным политическим разговорам. Не будь в камине этой проклятой мины, Экхольм поддержал бы разговор с ними в расчете извлечь что-нибудь полезное. Но выдержка разведчика его покинула. Сказались испытания последних недель, близкая опасность и, наконец, изрядная доза водки. Опьянев, он все чаще оглядывался на камин, отвечал невпопад. Каждый удар старинных часов заставлял его вздрагивать. Экхольм искал глазами Халапохья. Капитан куда-то исчез.
Экхольм встал, чувствуя, как отяжелели ноги. В висках стучало. Казалось, настойчиво и неестественно громко стучат часы. Потеряв над собой контроль, он подошел к камину и прислушался.
Расскин смотрел на его мясистый затылок, к которому то и дело приливала кровь, потом тоже встал и подошел к камину. Репнин за ним.
Выбрав плашку потоньше, Расскин бросил ее в огонь.
– Пора и честь знать, – заторопился Экхольм. – Меня ждет дрезина.
– К чему же спешить, на ночь глядя?
– Старая русская пословица, если я не забыл, гласит: «Дружба дружбой, а служба службой». Кажется, я правильно запомнил?
– Кстати, о дружбе. Вот лейтенант жалуется, что для нашей с вами дружбы на полуострове слишком много мин. Как вы находите?
– Вы все о том же, господин комиссар. – Экхольм развел руками: – Трудно, трудно сдержать стихийные чувства населения.
– Можно подумать, что речь идет не о минах, а об английской соли, которую продают во всех аптеках и всем гражданам без ограничения.
Расскин нагнулся к камину, открыл отдушину и что-то извлек оттуда. Это была адская машина Халапохья, своевременно разряженная саперами.
– Эту соль, по-моему, без рецептов генерального штаба не выдают, – бросая горсть взрывчатки в огонь, заметил Расскин.
Пламя ярко вспыхнуло, озарив растерянное лицо Экхольма.
Расскин спокойно продолжал:
– Владелец этой дачи маршал Маннергейм, видимо, не очень-то придерживается законов международных отношений. Не запишем ли мы это в акт, полковник?
Экхольм попытался отшутиться:
– При первой же нашей встрече, господин комиссар, я сказал себе: «Ох, берегись этих красных просветов!» – улыбаясь, он ткнул в красные полосы, видневшиеся из-под золотых нашивок на черной морской тужурке бригадного комиссара.
– Значит, мы правильно работаем, если этот цвет вам не нравится, – спокойно сказал Расскин.
* * *
С утра Расскин приказал Репнину проверить железнодорожный путь до границы и только после полудня разрешил дрезине Экхольма покинуть город. Позади на некотором расстоянии следовали русские.
Халапохья невозмутимо сидел в вагончике рядом с Экхольмом. Полковник зло на него смотрел.
– Проверено миноискателями русского типа? – ехидно передразнил он капитана. – Что же вы теперь скажете в генеральном штабе?
– Я скажу, что до осени русские будут восстанавливать порт и не смогут строить батареи. Кроме того, господин полковник, в нашем распоряжении еще есть агентура, которую мы забросим на Ханко. Мы причиним русским еще немало неприятностей.
Обе дрезины подкатили к пограничному шлагбауму.
Подошел Расскин, официально простился с финскими офицерами.
Шлагбаум поблескивал еще не просохшей краской, – это Думичев раскопал в каком-то покинутом доме белила и сажу. Экхольм с удивлением воззрился на пограничные знаки. Шлагбаум, будка, часовой – такой расторопности от русских он не ожидал. Он знал, что еще предстоит долгая, возможно, затяжная работа смешанной комиссии по уточнению границ на местности, и надеялся, что доступ на полуостров не будет закрыт, пока не установят последний столб. Но русские поспешили установить охрану самого узкого участка, соединяющего полуостров с материком. Впрочем, путей проникновения на Ганге немало…
Часовой отсалютовал винтовкой и пропустил дрезину за рубеж. Экхольм козырнул.
Медленно опустился полосатый шлагбаум.
Дрезина покатила к станции Таммисаари. Экхольм не оборачивался. Он думал: «Только бы выиграть год!»
В лесу на просеке вдруг заиграл баян. Молодой голос затянул песню, тут же подхваченную десятком голосов:
Нас не тронешь —
Мы не тронем,
А затронешь —
Спуску не дадим!..
– Отставить! – Расскин с трудом сдержал смех. – Это вы, Репнин, придумали демонстрацию?
– Никак нет, товарищ бригадный комиссар! – отчеканил Репнин. – Как говорил полковник Экхольм, военное командование не отвечает за стихийные чувства населения!..
Глава четвертая
Первый караван
Настал апрель. Стаи птиц в поисках удобного гнездовья кружили над куполом кронштадтского собора. Звонко лопался в гавани лед. Проезд через залив на Южный берег закрыли. Ночью ветер донес с моря такой грохот, будто палили из орудий: это рушились, громоздясь друг на друга, торосы. Ветер гнал лед в гавань. Чистые льдины наваливались на серые, грязные, закопченные за зиму городским дымом. В гавани маячили черные ледокольные буксиры. Они пробивали во льдах весенние тропы, радужно сверкавшие мазутом. За этими тропами с кораблей и причалов следили сотни глаз. Весна! В море, в дальнее плавание!
Флот давно ждал эту весну.
У причалов грузились первые уходящие на Ханко корабли: «Днестр», «Вторая пятилетка», «Волголес», «Луначарский», «Эльтон». Скрытые брезентами, стояли на палубах посыльные катера. Краны бережно грузили дальнобойные морские орудия.
Вышел на Большой Кронштадтский рейд широкогрудый «Ермак». Четыре месяца назад – в декабре 1939 года – после долгих арктических плаваний он покинул Ледовитый океан; провожаемый северным сиянием, ледокол обогнул Скандинавию, миновал проливы, Данию и, преследуемый вражескими подводными лодками, пересек Балтийское море. Зиму сорокового года «Ермак» работал в тяжелых льдах – окалывал лед вокруг балтийских линкоров, вызволял затертые транспорты, отбивался от финских самолетов. Теперь он собрался в плавание во главе каравана к полуострову Ханко.
«Ермак» вывел караван в залив. Льды и мины угрожали кораблям. Транспорты построились за ледоколом в строгую кильватерную колонну.
Замыкающим в караване шел портовый буксир «КП-12», что значило: «Кронштадтский порт № 12». Буксир нещадно дымил, вызывая злые шутки на транспортах:
– Эй вы, мореходы, как получаете за дым – с тонны или с кубометра?
– Не отвлекай их! Видишь, люди все силы отдают борьбе за бездымность!..
Команда буксира была вольнонаемной. Помимо капитана, двух рулевых, кочегаров, буфетчика и механиков, в нее с недавних пор входил и юнга.
В день окончания войны с Финляндией рулевой буксира Василий Иванович Шустров ехал на попутных розвальнях из Ораниенбаума в Кронштадт. В середине залива на розвальни подсел паренек, рослый, лет шестнадцати, в коричневом тулупчике и черной шапке-ушанке, нахлобученной по самую переносицу.
– Намаялся, пешеход, – проворчал в обледеневшие усы Шустров и потеснился. Он увидел туго набитый вещевой мешок за спиной паренька и вздохнул. «К отцу небось с гостинцами». Своих детей у старого матроса не было.
У мостков контрольно-пропускного пункта, где во время навигации ошвартовывались пригородные пароходы, скопились грузовики, автобусы, сани. Пассажиры соскакивали на лед и шли к берегу пешком, доставая кто паспорт с кронштадтской пропиской, кто воинское удостоверение, кто пропуск в пограничную зону.
Паренек оказался впереди Шустрова. Он предъявил пограничнику свой единственный документ: табель на имя ученика восьмого класса ленинградской средней школы Алексея Горденко. В табеле лежали старенькая фотография пожилого моряка, лента от бескозырки с надписью «Сильный» и какая-то газетная вырезка.
Пограничник с недоумением повертел эти необычные документы, прочитал вслух заголовок газетной заметки:
– «Подвиг Константина Горденко – моряка с эскадренного миноносца „Сильный“», – и официально, на «вы», спросил: – И куда же вы следуете?
– В Кронштадтский флотский экипаж, для дальнейшего направления в действующий флот, – твердо ответил Алеша.
– На действующий флот? Чудачок, война-то уж кончилась.
– Как кончилась? – Алеша воскликнул это с таким разочарованием, что все кругом рассмеялись.
– Вот так и кончилась. Сегодня в двенадцать ноль-ноль.
– Да, брат, отвоевался…
– Прозевал войну…
– Как же ты школу бросил? А мать отпустила?
– Мать в деревню к деду уехала. На Украину. Я у тетки живу.
– Что же ты, в экипаж – к отцу идешь? – спросил пограничник.
– Нету у меня отца. Финны убили отца.
Смеяться перестали.
– Пройди пока в караулку, – сказал пограничник. – Освобожусь, займемся…
Шустров проводил Алешу взглядом и медленно прошел в ворота порта. Ему показалось, что он знал отца мальчугана. Во всяком случае, заметку о его подвиге он читал. Речь шла о десанте, высаженном в тылу у финнов катерами пограничной охраны и буксиром «КП-12».
Встретиться в походе с Константином Горденко Шустров, разумеется, не мог – он все время простоял на руле; к тому же большая часть десантников шла на «охотнике» № 239. Но он хорошо помнил ту штормовую декабрьскую ночь, отяжелевшее густое море, которое вот-вот должно было застыть и закрыть все пути, удары ледяного сала о борта буксира и нарастающую на палубе наледь. С недоверием вступали матросы-десантники на борт ненадежного плоскодонного буксира. Зато как тепло прощались они с командой, когда «КП-12» преодолел шторм, лед, огонь финнов и высадил десант на чужой берег. Все это вспомнилось сейчас Шустрову, и он решительно повернул обратно.
Когда Шустров договорился с пограничниками и предложил Алеше пойти с ним на корабль, Алеша обрадовался: наконец-то исполнится его давняя мечта! Подобно отцу, он будет служить на настоящем военном корабле!
Алеша отлично разбирался в классах и типах кораблей, в рангах и званиях моряков. Шустров был в полушубке, и нельзя было рассмотреть, какие он носит нашивки на рукавах кителя. Но Алеша не сомневался, что перед ним военный человек, и притом командир, не зря же с Шустровым так считаются пограничники: до его прихода пограничники уговаривали Алешу вернуться в Ленинград, к тетке, а тут сразу согласились впустить его в Кронштадт. Шагая рядом с Шустровым, Алеша допытывался:
– Вы служите на эсминце, товарищ капитан третьего ранга?
– Не дорос до эсминца, товарищ вице-адмирал, – отшучивался Шустров.
– На сторожевике или на катере?
Не получив определенного ответа, он осторожно продолжал расспросы:
– А как называется ваш корабль?
– «КП-12», – таинственно ответил Шустров.
– Шифр! – понимающе произнес Алеша. – А класс какой?
– Дотошный же ты парень, – рассмеялся Шустров. – Какой класс? Класс самый что ни на есть пролетарский!..
Шустров понимал, что Алешу на первых порах ждет полное разочарование. Он сам пережил такое же чувство, когда нанялся на буксир после двадцати лет службы на боевых кораблях. Ему тогда обидно было слышать насмешки юнцов, видеть, с какой опаской военные моряки подпускали буксир к борту красавца крейсера. Кочегары, как ни старались, с дымом не могли совладать – стара машина. Шустров все сносил, потому что любил флот, готов был служить на море хоть маячным сторожем, но моря он давно не видал: дальше Толбухина маяка «КП-12» не пускали. Так продолжалось до финской войны, когда буксиру поручили доставить вначале десантников, а потом боезапас к вражескому острову. Буксир ходил к острову еще четыре раза, пока лед не приморозил его к стенке порта. Об этих походах заговорила вся Балтика. «Труженики моря», «герои малого флота», «незаметные герои» – как только не называли команду «КП-12». Благодарность командующего, заметки в газетах, награды – все это упрочило за буксиром славу доброго корабля.
Но Алеша всего этого не знал. Шустров привел его к буксиру, и Алеша увидел расплющенное судно, на которое пришлось с высокого причала прыгать вниз… «Так это же шаланда!» – разочарованно подумал Алеша.
Палуба, правда, была выскоблена добела. Медяшки надраены до золотого блеска. А штурвальное колесо в рубке за долгие годы так отполировано руками рулевых, словно его покрыли коричневым лаком. Все это Алеша установил сразу же.
Капитаном оказался не Шустров, а добродушный, ленивый на вид дядька, толстый и неповоротливый, как и сам буксир. Вся его полуштатская внешность будто лишний раз напоминала Алеше, что он находится на борту не военного, а гражданского судна. Капитан равнодушным взглядом скользнул по фигурке юнца и спросил: почему он паспорта еще не получил, раз ему уже стукнуло шестнадцать лет? Паспорт надо оформить немедленно, а взять его на буксир можно, он не против, если команда сама будет Алешу кормить и обучать. Жалованья никакого не будет, потому что юнга по штату не положен. А так – пусть живет… Раз отца нет и мать уехала – пусть живет.
Шустров поговорил с командой, и команда решила взять Алешу на общий кошт. «Подучится – станет матросом», – решил Шустров. Для Алеши он так и остался главным на буксире, главнее самого капитана.
А весной «КП-12» назначили в штат плавучих средств порта Ханко, и Алеша отправился в плавание, неожиданное и для него и для всей команды маленького буксира.
* * *
В Кронштадте «КП-12» загрузили всякой всячиной: бочками, ящиками, мешками – всем, что не уместилось на других кораблях. И пассажиры собрались кто откуда: отставшие от части артиллеристы, матросы, только что назначенные в экипажи, команда бойцов-железнодорожников, срочно вызванная на ханковский узел.
Караван шел малым ходом, но слабосильный «КП-12» с трудом за ним поспевал. Льды, снова сходясь позади ледоколов, останавливали даже большие транспорты.
– Прямо по носу льди-и-ина-а! – то и дело доносились возгласы впередсмотрящих.
«Ермак» возвращался и могучим стальным корпусом налезал на гряду торосов. Льды расступались, корабли продолжали плавание. Обломки ледяных гор со скрежетом царапали борта.
Большим транспортам эти обломки не помеха, зато буксиру они были страшны. Рулевой обходил все препятствия, ловко лавируя в толчее волн и льдин.
Железнодорожников с непривычки укачивало. По одному они выбирались наверх, на ветерок, и тоскливо склоняли голову за борт.
– Что, хлопцы, приуныли? – Из кормового кубрика вынырнул юркий матрос, тоже пассажир. Для него, очевидно, корабельная палуба была наилучшим местом на свете. – Не нравится корабéль? Предпочитаете черноморский экспресс в десять тысяч тонн водоизмещением, с водочкой в ресторане и доброй закусочкой? Закусить, хлопцы, можем и здесь. Насчет водочки – отложим до прибытия. А наш экспресс, доложу я вам, тоже не последняя посудина на морях! Героический буксир! Гроза Балтики!..
Он стоял перед солдатами твердо, широко расставив короткие ноги, не шелохнувшись даже тогда, когда буксир зарылся в волну и лег на борт.
– Качает, – кисло произнес невзрачный солдат, морща белесые, еле заметные на бледном лице брови. – Баллов на шесть задает…
– Баллов на шесть? – расхохотался матрос. – Да на море полный штиль. Понимаешь?
– Понимаю, – кивнул солдат. – Как говорят у нас в Новороссийске, на борту уже началась лихая травля.
– Не теряешься, – миролюбиво одобрил матрос. – Давай знакомиться. Тебя как звать?
– Рядовой Василий Камолов. А ты кто?
– Богданов Александр. Меньшой.
– А есть еще большой?
– А как же иначе! Неужели все Богдановы махонькие, как я?..
Смех – что огонек в лесу: на корму потянулись пассажиры. Шустров, стоя у руля в рубке, вдруг услышал:
Ночи, дни и недели
Над заливом летели.
Поддавался искрошенный лед,
И кончался в Кронштадте
Легендарный фарватер
И невиданный в мире поход…
Кто-то на корме пел о Ледовом походе, и Шустров тихо подпевал:
И кончался в Кронштадте
Легендарный фарватер
И невиданный в мире поход!..
Шустров хорошо помнил Ледовый поход в марте 1918 года, когда у Ханко появилась германская эскадра. Этой же дорогой, по которой «КП-12» сейчас шел на Ханко, «Ермак» выводил из Гельсингфорса советский флот, не сданный матросами врагу.
– Иди, Алеша, к хлопцам, повеселись, – сказал Шустров юнге, не отходившему от него ни на шаг.
Алеша мигом перебежал из рубки на корму. Там пели песню за песней: «Варяга», «Катюшу», «Ермака»… Запели, конечно, и про кочегара, – слова всем знакомые, много раз петые, а для Алеши они звучали сейчас ново. Он слушал и смотрел на синие льдины, на волны, свинцово-темные, с проблесками то лазури, то густой зелени. Море иногда заглушало певцов. Налетал ветер, срывал и куда-то уносил их голоса. Но сильный матросский хор все же одолевал и ветер и волну, и песня еще громче и печальнее взлетала над палубой:
Увидел на миг ослепительный свет,
Упал, сердце больше не билось…
На горизонте чернела едва видимая полоска земли. Алеша всматривался в эту полоску, слезы застилали ему глаза. Возможно, это и есть остров, где затеряна могила его отца?..
– Дробь! – прервал певцов низенький матрос, взглянув на юнгу. – К чему такие унылые слова? Вот послушайте, как у нас пели на тот же мотив:
Раскинулись ели широко,
В снегу, как в халатах, стоят,
Завяз на опушке глубоко
Разбитый шюцкоров отряд…
Голос у матроса был сиплый, простуженный, петь он не умел, и все рассмеялись.
– Это же пародия, – сказал Камолов.
– Сам ты пародия. Это песня отряда капитана Гранина. – Матрос привлек Алешу к себе: – Ну что, юнга, раскис? Про Гранина слыхал?
– Слыхал.
– Гранин раскисляев не любит. Матрос, говорит, мужчина крепкий. Все перенесет и всегда песни поет. Чуешь?
– А верно, что Гранин с бородой? – спросил Алеша.
– У-у-у, страшная бородища… – смешно показал матрос. – Черная. Длинная. Как у Черномора.
– Я тоже про капитана Гранина слыхал, – сказал Камолов. – Мне рассказывали, как он в свой отряд самых отчаянных набирал.
– Как?
– А вот как. Вызвал его командующий и говорит: с любого корабля выбирайте любого матроса, только чтобы отряд не посрамил чести Балтийского флота. Он придет на корабль, походит, посмотрит, – ему сразу подают список личного состава. Этот, говорят, лучший механик, этот – отличный сигнальщик, в общем, Гранину рекомендуют самых отличных. А он говорит: «Лучших специалистов забирать не хочу. Дайте мне, кого надо на исправление. Кто, говорит, у вас сидит на гауптвахте?»
– А ему, – подхватил кто-то из железнодорожников, – отвечают: «На гауптвахте загорает Василий Камолов, бывший составитель товарных поездов, а ныне мастер складского дела…»
Камолов отмахнулся и упрямо продолжал:
– Гранину приносят список, он спрашивает: «Этот в чем провинился? Лодырь? Отставить. А этот? С патрулем поспорил? А до того провинности в службе были? Не были? Давайте его сюда». И как начнет мылить, как начнет!.. Дисциплину, мол, не соблюдаешь! «Да тебя же, говорит, со службы гнать надо. Кровью вину хочешь искупить? Только, говорит, у меня патрулей нет: закон нарушил – трибунал, в бою струсил – расстреляю собственноручно. Понял? Дурь, говорит, я из тебя живо вышибу. Ну, иди досиживай, а потом на фронт». Вот как Гранин народ подбирал…
– Глупости все это! – возмутился низенький матрос, он в упор злющими глазами смотрел на Камолова. – У кого что болит, тот про то и болтает. Гранин нарушителей терпеть не может.
– Не расстраивай, матрос, нашего Васю. Он уже три раза навещал кронштадтского коменданта – все надеялся, что туда за ним Гранин придет.
– Так и не пришел Гранин?
– Не пришел. Не взял Васю в разведчики. А ведь как просился…
– Командующий действительно разрешил Гранину на любом корабле выбирать матросов, – серьезно сказал матрос. – Но Гранин в десант брал самый отборный народ. Дисциплина железная. «Мне, говорит, нужны такие бойцы: одна нога здесь, другая в Хельсинки». Из Кронштадта вышли: сто двадцать патронов на брата, на пять суток продовольствия – это энзе, а тылов-обозов никаких. «Снабжаться, – сказал капитан, – будем в бою». Вернулись – энзе в полной сохранности сдали на склад…
– И спирт тоже сдали? – ехидно спросил Камолов.
– Какой же дурак сдает спирт на склад? – добродушно ухмыльнулся матрос. – Спирт израсходовали на медицинские нужды…
Алеша завороженно глядел на матроса. Лицо обветренное, строгое, будто выковано из меди, а в глазах, хоть и грозно они смотрели на упрямого солдата, пряталась такая душевная доброта, что Алеше захотелось подсесть к этому крепышу ближе, послушать, что расскажет он про жизнь знаменитого на Балтике гранинского лыжного отряда.
* * *
– Нас у Гранина было двое Богдановых, и оба Александра, – рассказывал матрос. – Разница между нами только одна: я, как видите, маленький. Зато мой тезка – ростом сто восемьдесят шесть сантиметров! А вес – девяносто четыре килограмма! Меня все звали Богданычем, чтобы не путать. Капитан Гранин как узнал, что нас в отряде двое Богдановых, приказал всюду отправлять вместе. Чтобы, говорит, никакой мороки с вами не было – когда кого награждать, кого наказывать. За все отвечать сообща. Для разведки это, между прочим, очень удобно. Друг мой высокий, все видит за три версты, белофинна с одного раза кулаком бьет наповал. Зато я уж проберусь туда, куда ему не пролезть. Вот вызывает нас капитан Гранин и говорит: «Живо, марш, отправляйтесь на лыжах вокруг острова и смотрите не прозевайте финнов, а то ночь такая поганая, что нас окружат и порежут, как цыплят…». А надо вам сказать, финны все время искали секретную базу нашего отряда и не могли обнаружить, хотя мы сидели под самым городом Хельсинки. На необитаемом островке. Оттуда и нападали на их коммуникации. Идти с моим тезкой на лыжах одно мучение. Он как шагнет – метров на пять вперед ушел. Я за ним жму, как наш буксир сейчас за караваном. Все пары развел. Давление на пределе. А все-таки отстал. Иду ощупью, по лыжне. Ветер баллов на пять. Заметает все начисто… Вдруг слышу – впереди очередью автомат: раз, два, три!.. С разбегу налетел я на моего Сашку – он лежит, стонет. «Богданыч, говорит, наскочили мы на финнов. Скорее доложи капитану…» Халат у него в крови – ранен в плечо. Поднял я его, отвел в сторону. На лыжах он шел еще неплохо. Только автомат держать трудно. Стал я его под кустами перевязывать, в это время, откуда ни возьмись, целая цепь финнов. Все в маскхалатах. Лыжи, как наши, – с полужестким креплением. Не разберешь сразу, что чужие… Погодите, закурю…