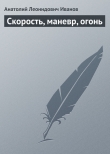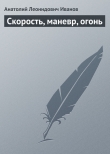Текст книги "Гангутцы"
Автор книги: Владимир Рудный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 47 страниц)
А Томилов язвил:
– Самого Гранина не признают! Знаменитого капитана Гранина хлопают по плечу и принимают за рядового матроса. Дожили, товарищ капитан! Все-таки придется нашивочки на китель нацепить. Может быть, устроим смотр всему отряду?..
* * *
На другой день состоялся разбор эльмхольмского боя. Он проходил так, как задумал Пивоваров.
Томилов на разборе критиковал оборону, которая до сих пор строилась с расчетом, что противнику не удастся зацепиться за наш берег. А если удастся? Надо подготовиться и к этому.
Щербаковского тоже пригласили на разбор.
Несмотря на шторм, Щербаковский выполнил поручение Гранина и доставил на Эльмхольм продукты. Теперь он шел на командный пункт, довольный собой, надвинув вязаную шапочку набекрень. Ему льстило приглашение на совещание. Но всем своим видом Щербаковский хотел подчеркнуть, что ничего-де от оказываемого почета и от назначения командиром взвода не изменилось: смотрите, мол, я такой же простой главный старшина, каким был, когда командовал отделением.
Войдя в командный пункт, Щербаковский увидел карты, схемы, развешанные по стенам каютки, взглянул на Пивоварова, казалось его не заметившего, перехватил хмурый взгляд Гранина, – во всем чувствовалась строгость настоящего воинского штаба.
Щербаковский быстро скрылся. Вязаная шапочка была тут же убрана в карман. Невесть откуда появилась старшинская фуражка. Брюки из сапог он выпустил наружу, послюнявил пальцы и что есть силы проутюжил морскую складочку.
Приведя себя в порядок, Щербаковский вторично появился на пороге командного пункта и попросил разрешения войти.
Пивоваров переглянулся с Томиловым: «Даже Щербаковского прошибло». А Гранин подумал: «Прав все-таки комиссар – надо и героев подтянуть и устроить вверенным войскам смотр».
* * *
После разбора на КП пришел Макатахин. Он дописал рапорт, начатый в ночь возвращения с Эльмхольма, и теперь принес его Гранину.
Гранину часто приходилось выслушивать прожектеров. То и дело ему предлагали сногсшибательные планы высадки на эстонское побережье или рейда до Хельсинки и обратно, – люди так жаждали большого дела, что готовы были, кажется, голыми руками увести из Турку чуть ли не миноносец, Гранин гордился этими наступательными стремлениями матросов и всячески их поддерживал.
Когда он прочитал над рапортом Макатахина два слова – «Совершенно секретно», он тяжело вздохнул: «Еще один фантазер в моем отряде».
Он подозвал к столу Томилова и стал читать вслух. На четырех вырванных из тетради страничках твердым почерком было написано следующее:
– «С целью еще более успешного проведения операций по занятию островов противника с наименьшим количеством бойцов и сокращением наших потерь прошу вас рассмотреть мой рапорт».
Гранин переглянулся с Томиловым и покачал головой: ну, мол, начинаются сказки Шехерезады. Но то, что он прочитал дальше, не было сказкой. Макатахин выносил и выстрадал каждое слово.
– «Я предлагаю, – читал Гранин, – из одиннадцати коммунистов и комсомольцев организовать диверсионную группу. Она явится авангардом отряда. В эту группу подобрать добровольцев, которых у нас привыкли называть героями, но мы назовем их сейчас просто отчаянными, ибо они должны уметь с врагами расправляться по-вражески. Эти бойцы должны хорошо владеть ножом, гранатой, огнестрельным оружием, быстро бегать по суше, ходить под водой, хорошо стрелять, грести, стойко переносить опасность, боль и самую смерть. В задачу диверсионной группы будет входить следующее…»
Гранин уже не обращал внимания на окружающих, на Томилова, взволнованного, как и он сам, на Макатахина, застывшего в тесной каморке командного пункта.
Гранин вытащил из кармана платок, вытер лысину и повторил:
– Так, значит, в задачу диверсионной группы будет входить следующее. Ну, что же ты тут надумал?
«До занятия острова, – продолжал читать Гранин, – провести туда под водой телефонный кабель и установить телефон.
Очистить десанту путь от мин и проволочных заграждений и с тыла подавить пулеметные точки противника.
Обеспечив высадку десанта, отступать вместе с противником в его тыл.
При этом – уничтожать штабы, пулеметные точки, все виды связи, боеприпасы, взрывать орудия, сжигать постройки, захватывать документы, создавать в тылу у врага панику, если нужно, угонять катера и по возможности отрезать отступление противника и подход подкреплений.
Командование этой группой прошу доверить мне».
Гранин быстро исподлобья глянул на Макатахина серьезно и немного удивленно. Голос его зазвучал глухо и вместе с тем взволнованно, когда он прочитал следующие строки:
– «Если среди нас найдутся единицы струсивших перед опасностью, не выполнивших приказаний, а также пытающихся сдаться в плен, – прошу разрешить мне расстреливать их собственноручно».
Дальше следовал раздел, озаглавленный Макатахиным так: «Подбор бойцов».
«Первое. Командир – радист-телефонист.
Второе. Разведчик. В скобках: кошачья ловкость, глаза и уши группы.
Третье. Два сапера с собачьим нюхом – проволоку и мины должны чувствовать в темноте.
Четвертое. Два моториста, хорошо знающие финские моторы на катерах.
Пятое. Рулевой, знающий острова и мины.
Шестое. Снайпер.
Седьмое. Корректировщик.
Восьмое. Артиллерист.
Девятое. Санитар».
«Всего, – заключил Макатахин, – одиннадцать человек. Кроме того, все должны уметь стрелять из финского оружия».
Под этим стояло, число, месяц и подпись: «Михаил Макатахин».
– Вот и все.
Гранин встал, подошел вплотную к Макатахину и взял его за плечи.
– Ведь каков, а?! Все обдумал. Скажи на милость: «сапер с собачьим нюхом»! – Гранин любовно и вместе с тем испытующе смотрел в синие глаза молодого матроса. «Нет, – думал Гранин, – это не фантазер». – Ты, наверно, командированного имеешь в виду? Думичева? Да?.. А в разведчики? Не иначе самого Богданыча метишь: глаза и уши нашего отряда! Только как же это: он твой командир, а ты его в подчиненные? Не пойдет!
Макатахин молчал. Он понимал, что шутки Гранина добрые, от ласки они. Макатахин умел себя сдерживать. Он долго тренировал волю, потому что разведчику, который готов собственноручно расстреливать струсивших, не выполнивших приказаний, а также пытающихся сдаться в плен, такому разведчику нужна крепкая воля, и ему негоже раскисать от ласки командира.
А Гранин, снова перечитывая рапорт, приговаривал:
– Санитар! Парамошкова бы, самый подходящий для тебя был бы санитар. Рулевой, знающий острова и мины. Кого же ты в рулевые надумал?
– Алексея Горденко, – тихо ответил Макатахин.
– Ишь ты! Орленка! А не молод?..
– Твердый он.
– Ну как, комиссар, думаешь?
– Пусть готовится, – сказал Томилов, пораженный невозмутимостью Макатахина. – Сам доложу командованию. Дивизионному комиссару позвоню. Думаю, поддержит.
Когда Макатахин ушел, Гранин воскликнул:
– Люди, люди у нас какие, комиссар! Видал?! Да с такими людьми мы до Берлина дойдем! Пусть Гитлеру не то что Маннергейм, пусть ему хоть буржуи всего мира помогают! Разобьем, комиссар, разобьем?!
– Разобьем, Борис Митрофанович! – с жаром отозвался Томилов.
Глава десятая
Бой в эфире
Капитан Халапохья, помощник Экхольма по разведке, тоже побывал ночью на острове Эльмхольм. Обыскав убитого русского солдата, он нашел ценный для характеристики морального состояния гарнизона Гангута документ.
С разведкой дело обстояло прескверно: ни пленных, ни перебежчиков, ни даже трупов, потому что обычно после атак русские уносили убитых с собой. В карманах убитых на Бенгтшере пограничников Халапохья не нашел и не надеялся найти и клочка бумаги, хорошо зная предусмотрительность людей в зеленых фуражках. А тех пятерых раненых, что захватили, так то были не «языки» – инвалиды. Один без руки, другой ранен в голову, третий – весь в осколках гранаты, собственной гранаты, четвертый контужен и лишился речи и слуха, а пятому, с пробитым животом и ногой, еще выбили глаз; добьешься ли путного от таких пленных, даже действуя лаской, – Экхольм охотно отдал их другому шведу, только из добровольцев, приехавшему из Турку, от морской контрразведки; тот швед доказывал, что дело на Бенгтшере выиграл морской флот и трофеи принадлежат морскому штабу; он промолчал про нелепые потери своего флота от горстки диверсантов и маломощных катеров, промолчал и про бессмысленную расправу гардемаринов, высаженных с канлодки на Бенгтшер, с самым главным из диверсантов – с русским обер-лейтенатом в годах, из этого волка Халапохья уж что-либо выжал бы… Тяжело ранен, беспомощен настолько, что даже застрелиться не смог, зачем же добивать, только потому, что, как говорит командир взвода Листер, проворонивший десант, этот русский пограничник, и лежа, продолжал командовать?! Значит, котелок варит, язык работает, такой язык при навыках капитана Халапохья превратился бы через неделю в послушного «языка» и, может быть, выступил бы перед полевым микрофоном, как выступает у русских лейтенант Олконнен с Моргонланда.
Упустили такую возможность. И все по милости этих чванливых молодчиков из шведского батальона, которые любят чужими штанами в огонь садиться. А все шишки валились на Халапохья – плохо работает, не дает полковнику Экхольму выслужиться перед его покровителями из высшего штаба, полковнику нужен материал для проницательных докладов, а лазутчики, которых Халапохья переправляет на полуостров, если возвращаются, то с такой мелочью, из которой трудно сочинить слона. В лучшем случае, они подслушивали разговоры, подключаясь к телефонной сети, или приносили газеты, оброненные в лесу. Газеты в разведке обрабатывались от строки до строки. Так Экхольм узнал о существовании «линии Репнина».
Халапохья высказал предположение, что это нечто вроде линий Зигфрида и Маннергейма. Экхольм настолько презирал своего помощника, считая его тупой скотиной, что не понял издевки и высмеял всерьез, ядовито напомнив, что Репнин – фамилия того лейтенанта, который провалил диверсионные замыслы Халапохья. «Я думаю, что Репнин есть условное обозначение минных полей, которыми русские опоясали полуостров», – заключил Экхольм. Имена Репнина, Гранина, Сукача, Щербаковского и какого-то Васи Шлюпкина перекочевали со страниц газеты в картотеку разведки для дальнейшего пополнения и выяснения.
Но то, что принес Халапохья с острова Эльмхольм, на взгляд знатока русского языка и быта Экхольма представляло интерес, хотя это была всего-навсего бумажка, вырванная из ученической тетради.
Внимание Экхольма привлекли следующие строки:
«…Сегодня очень темная ночь. Холодно, начинается ветер. Негде укрыться. Финны стреляют и стреляют. Много их ходило вчера по той стороне. Присматривались. Впечатление такое, что они собираются сюда с десантом…»
Отметив это место, Экхольм решил при докладе командующему «Ударной группой» указать на беспечность штаба подваландетского сектора.
«Прибегал Степа Сосунов, – читал дальше Экхольм. – У него всегда новости. Обрадовал. Беда, говорит, к нам придет. Скорей бы! Встретим Беду с радостью и почетом. Мы уже привыкли: „Беда – избавление для нас от всяких неприятностей…“»
Синим карандашом полковник подчеркнул все сказанное про Беду.
Как начальник разведки и контрразведки, Экхольм часто имел дело с нелегальной солдатской литературой, распространяемой в финской армии, и знал, что такое иносказательность.
– Вы знаете, что означает в русском языке слово «беда»? – спросил Экхольм капитана Халагюхья. – Несчастье!.. Русские устали, ждут избавления. Недаром тут это слово пишется через прописную букву. Это иносказание. Автор дневника хочет сказать, что солдаты готовы к любой беде, лишь бы выйти из войны…
Экхольма вызвали к командующему «Ударной группой». Он не удивился, встретив там своего старого покровителя – генерала, представителя генерального штаба. «Прибыл из Хельсинки наводить порядок!» – с тревогой подумал Экхольм. Генеральный штаб имел основания быть недовольным «Ударной группой Ханко». Значительные силы, стянутые сюда с других фронтов, топтались перед узким перешейком, проваливая уже третий срок, назначенный Маннергеймом для захвата полуострова. В ночь на 1 сентября после длительной артиллерийской подготовки штурмовые батальоны снова двинулись к перешейку и опять не смогли захватить даже небольшой плацдарм на той стороне.
Генерал не придал значения разведывательным открытиям Экхольма.
– Где ваши данные о русской обороне? – настойчиво требовал он. – Нам, в Хельсинки, известно о том, что на Ханко идет усиленное строительство подземных сооружений и возведение отсечных позиций. Теперь, когда Таллин пал и их флот понес такие деморализующие потери, это очень важно уточнить. Мы ослабляем состав «Ударной группы», но не ослабляем натиска. Придет час штурма, а вы слепы, не имеете точных данных даже о двух первых линиях обороны противника.
– Но, господин генерал, я уже докладывал командованию о плотной линий минных полей, опорных пунктов, противотанковых препятствий, рвов и надолб на большую глубину за линией границы, называемых русской пропагандой «линия Репнина», – сказал Экхольм. – Принимал меры для уточнения, но противник крайне насторожен. В его боевых порядках действуют пограничники, и проникнуть по суше чрезвычайно трудно. Парашютиста в наших условиях не сбросишь. Население мы, как вам известно, вывезли, и опоры у нас нет. Единственный путь для проникновения – морское побережье. Но и оно плотно охраняется.
– Может быть, вы предпочитаете другой район, полковник, где разведчику, очевидно, легче действовать, Карелию, например?
– Мы делаем все возможное, господин генерал, – растерялся было Экхольм, но тут же овладел собой. – Капитан Халапохья сам высаживался ночью в районе казино и установил место нового командного пункта базы Ханко – за парком, под скалой.
– Хорошо. Это место следует пробомбить. Пошлите самолет их типа и с их опознавательными знаками. Дальше?
– Капитан подслушал ряд телефонных разговоров. Установлены часы начала киносеансов в здании ратуши.
– Передайте это артиллеристам. Дальше?
– Обнаружены странные надписи на деревьях. – Справясь в записной книжке, Экхольм прочитал: – Линия Сокура… Линия Симоняка… Предполагаю, что это новые…
– Сокур – это сержант, а Симоняк – командир части. Разведчику надо читать сообщения Информационного бюро противника. Дальше?
– Халапохья принес несколько номеров русских газет.
– Обработали их?
– Да. Ничего существенного. Десяток фамилий рядового и унтер-офицерского состава. Переписка наших солдат с тылом. Оскорбительные выпады по адресу фюрера и маршала. И радиосводки.
– Какие?
– Передовые статьи московской «Правды». Военные и политические сообщения. Комментарии по поводу предисловия нашего посланника в США Прокопе к опубликованной в Вашингтоне финской «Бело-синей книге».
Генерал задумался.
– Прокопе делает нужное дело. Как видите, посол Соединенных Штатов все еще сидит в Хельсинки и будет сидеть, хотя Рузвельт и присоединился к так называемой антигитлеровской коалиции… Вы, Экхольм, занимаетесь мелочами, не понимая величия происходящего. Прочитайте вот его, – генерал пододвинул полковнику секретный приказ начальника штаба военно-морских сил Германии «О будущем города Петербурга».
«Фюрер решил стереть Петербург с лица земли, – читал в этом приказе Экхольм. – После поражения Советской России нет никакого интереса к дальнейшему существованию этого населенного пункта. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города Петербурга непосредственно вблизи ее границ».
– Фюрер Германии, кажется, хотел отдать этот город нам? – осторожно спросил Экхольм.
– Не будьте сентиментальны, полковник, я тоже старый петербуржец. Для того чтобы покорить этот очаг всемирной смуты, его надо разрушить, вы это прекрасно понимаете. Иначе он всегда останется базой для проведения политики, начатой Петром Великим. Вы понимаете, Экхольм, в каком мы сейчас положении? Ревель оккупирован германской армией. Дивизии фюрера на левом берегу Невы под Петербургом. А мы все еще топчемся на месте. Маршал в начале нашего славного белого движения настаивал, что при содействии германских войск, тогда войск кайзера, мы способны сами справиться с боевыми задачами большого масштаба. Это был предмет его главных разногласий с политиканами. А теперь вы не можете одолеть тридцатитысячный гарнизон Ханко. И это в то время, когда армии Гитлера стремительно наступают на восток, через несколько дней штурмом возьмут Эзель и Даго и уже держат наготове возле Аландских шхер линкоры и крейсера. Маршал требует, чтобы германская эскадра смогла пройти в Порккала. Это вопрос большой политики и нашего с вами будущего. Фюрер с нами вежлив, но у него есть основания сомневаться в нашей боеспособности.
– Мы успешно блокировали русских с трех направлений, – вмешался командующий «Ударной группой».
– Нужно четвертое: эфир.
– Это профессия господина Таннера, – сказал командующий «Ударной группой».
– У Таннера много внешних и внутренних забот. Вы знаете, как трудно примирить наших крутолобых с союзниками по борьбе. Надо блокировать русских в эфире, и этим займетесь вы, Экхольм. В вашем распоряжении радиостанция Лахти. Вам выделят нужное количество часов и сил. Подберите людей, хорошо знающих русский язык. Используйте благоприятную ситуацию – они подавлены падением Таллина и потерями при прорыве Балтфлота в Кронштадт. Вот и пользуйтесь этим для разложения войск противника. Американцы считают черную пропаганду одним из успешнейших средств войны. Учитесь.
– Они, кажется, мало верят нашей пропаганде.
– Они верят Москве?
– Да.
– Так говорите от имени Москвы. Голосом Москвы. На волне Москвы. Говорите от имени шведов, от имени Штатов, от имени президента Рузвельта, наконец. Вы поняли?
Экхольм все понял. Но из приличия он счел нужным спросить с невинным видом:
– Но американский посол?
Генерал рассмеялся:
– Американский посол не ваша забота. Вы к первому октября – не позже – должны быть на Ханко. Внушайте противнику, что помощи ждать неоткуда. Они в их положении обречены, их главному командованию не до Ханко. Действуйте энергичнее. Не мне учить вас, Экхольм, методам разложения противника. Топите в эфире их корабли, их флот, запутывайте и запугивайте их. Сейте панику, неверие, страх, – не железные же они в конце концов?..
«Старая школа фон дер Гольца! – думал Экхольм, слушая наставления своего шефа. – А ведь Вальтер был его ровесником…» Вспомнив о погибшем от рук большевиков брате, Экхольм вздохнул: нет, не удалось ему отсидеться в своем маленьком замке возле Таммисаари, в стороне от войны, от бурь. Опять опасности и волнения впереди. И это в его-то годы!..
Экхольм немедленно исполнил приказ начальника. Офицеры контрразведки, знающие русский язык, обосновались на радиостанции города Лахти. Отныне радиостанция должна была вести специальные передачи для гарнизона Ханко.
Первый удар Экхольм готовил в спешке. В его распоряжении находилось чрезвычайное сообщение из Берлина о «гибели» советского Балтийского флота. Неблагодарный материал для начала. Сообщение это уже неоднократно мусолилось на всех языках, но вряд ли в него верили. Балтийский флот, прорвавшись из Таллина, блокированного германской авиацией, подводными и надводными силами, занял позиции на рейде Кронштадта, и силу его огня испытали на себе многие германские и финские части на подступах к Ленинграду. Но начальник генерального штаба требовал действий, и Экхольм спешил действовать.
* * *
Не хуже других радист Сыроватко знал, что творится на белом свете. Самое горькое он узнавал и записывал первый. На передовой, на скалах, на деревьях в эти ненастные осенние дни появились гневные призывы: «Ни шагу назад! Презрение к смерти даст нам победу! Совершенствуйте оборону! Берегите оружие! Каждая пуля, каждый снаряд – только в сердце врагу!»
Эти слова жгли радисту душу: люди как люди, все воюют, а он даже на улицу, обстреливаемую снарядами, редко вылезает из своей рубки. Вечно он торчит у приемника в наушниках, слушает, слушает, пишет без конца, так много, что Фомин, принося ему остро очинённые карандаши, шутит:
– Не напасешься на тебя, Гоша. Хоть бы ты принял что-нибудь повеселее.
Как хотелось Георгию Сыроватко исполнить эту просьбу, всех порадовать добрым известием!
С каждым днем и передовые «Правды» и сводки становились суровее, грознее. Сыроватко не верил ушам своим, когда диктор монотонно диктовал: «После многодневных запятая ожесточенных боев наши войска оставили город Киев точка». Неужели это правда?.. С такой недоброй вестью он тихо заходил к Фомину, виновато клал на стол запись и быстро убегал. В эти времена он больше любил записывать то, что шло в сводках на втором месте, после трех звездочек.
– Товарищ политрук! – спешил он поделиться с Фоминым. – А северяне-то потопили немецкую подводную лодку!.. Ельню отбили, товарищ политрук!.. А французы-то молодцы! Бьют вишистов! Забастовка в городе Аррас. Через два эр пишется Аррас, товарищ политрук…
Много все же было и хороших вестей.
Однажды Сыроватко ворвался в редакцию сам не свой от радости и возбуждения.
– Читайте, товарищ политрук. Вот!
Он с нетерпением следил за Фоминым, читавшим сообщение о беспощадной борьбе гдовских партизан с оккупантами.
– Ну и что? – недоумевал Фомин.
– Как что? Это же Гдовщина, товарищ политрук. Видите, партизанский отряд под командой члена правления колхоза товарища О.? Это же наш полевод Остапенков, из Великого Лога, товарищ политрук… Поставьте в номер.
– А ты разве гдовский?.. Сыроватко – это же украинская фамилия?
– Мамаша гдовская. Батя с Киевщины в Питер на заработки приезжал. Мостовые мостил. Ну, с матерью и познакомился. Переехал на Гдовщину.
С тех пор Сыроватко ловил в эфире каждое слово про родную Гдовщину и всегда умоляюще просил «поставить в номер». Фомин над ним шутил:
– Можно подумать, что одна Гдовщина воюет! Подумаешь, Гдовщина – лапти!..
– Как лапти? А спички? Лучшие в Союзе.
В очередную вахту радиста Сыроватко на волне Москвы кто-то запел:
Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый…
– Проклятая Лахти, – вслух обругал Сыроватко финскую радиостанцию, – пластинку запустила…
Он крутил, вертел ручки, долго колдовал над приемником, стараясь отделаться от «чубчика» и пробиться к станции имени Коминтерна. Наступал час диктовки материалов для фронтовых газет. Неужели сорвется прием?
Вдруг исчезли все помехи и совсем близко возник голос диктора. Сыроватко стал лихорадочно записывать:
«От Советского информбюро. Вечернее сообщение от…»
Он записал первую фразу: «…вели бои с противником на всем фронте». Поставил под фразой три звездочки и приготовился писать дальше.
«Гитлеровское радио, – продолжал все тот же голос, – распространяет лживое сообщение о захвате Краснознаменного Балтийского флота в Таллине…»
Сыроватко насторожился: важное сообщение! Надо предупредить об этом Фомина, чтобы оставил место, если не удастся записать все сразу.
Диктор продолжал, произнося каждое слово и все знаки препинания медленно, старательно.
«Смехотворность этих измышлений очевидна для каждого, – записывал Сыроватко, согласно кивая головой. – Балтийский флот действительно был отрезан от своих баз и не смог пробиться в Кронштадт. – Сыроватко почувствовал, что по носу катится капля пота, вот-вот она упадет на лист радиограммы; он смахнул ее, едва не пропустив несколько слов. – Однако, – продолжал диктор, – ни один советский корабль не сдался врагу. Герои матросы в последнюю минуту открыли кингстоны, и весь наш славный флот ушел на дно Балтики».
Не может быть! Сыроватко обломал карандаш и схватил новый.
Дальше все шло как обычно. О партизанах. О героизме ленинградских рабочих. О злодеяниях фашистов в селе Семцах Почепского района.
Закончив прием, Сыроватко побежал к телефону.
– Товарищ политрук, – вызвал он Фомина. – Зайдите скорее в рубку.
Фомин прибежал и прочитал запись.
– Ложь! Не может быть. Ложь!
– Диктовка правильная, обычная, без акцента. И время передачи – по расписанию. Но голос чужой диктовал. И помех не было.
– Финны? – взволновался Фомин.
Сыроватко съежился:
– Неужели финны?.. Буду дежурить. Должен быть повторный сеанс.
Всю ночь он искал в эфире Москву. Пищали морзянки. Гнусавила какая-то дама из Хельсинки. Лаял фашистский диктор из Таллина. Стонал джаз в нейтральном Стокгольме. И откуда-то из-за океана донесся залихватский фокстрот, такой беспечный, будто нигде на земле не лилась кровь и не плакали над похоронками вдовы и матери.
А радист Сыроватко опять крутил, крутил ручки приемника, шел из страны в страну, переходил с волны на волну – по всей шкале, потом возвращался к ее началу и медленнее, настойчивее искал голос, который должен был сказать ему и всем гангутцам правду – пусть жестокую, пусть безрадостную, но правду.
Когда сквозь хор врагов и равнодушных прорвался наконец знакомый и родной голос Москвы, Сыроватко вскочил, что-то крикнул и заплакал. Слезы падали и растекались по сероватым листкам газетной бумаги, на которую он наносил строку за строкой.
– Ах, подлые твари… – шептал Сыроватко. – Обмануть думали. Меня обмануть!..
«Береговые батареи и корабли Краснознаменного Балтийского флота, – перечитывал он, – потопили один крейсер и один миноносец противника и два миноносца повредили…»
– Жив, жив флот! – повторял Сыроватко, мчась в редакцию.
Когда он показал записанное сообщение Фомину, во всем схожее с принятым раньше, кроме лживых строк о гибели кораблей Балтийского флота, тот сказал радисту:
– Ну, Гоша, держись. И тебя штурмуют!
* * *
Григорий Беда, имя которого вызвало такой переполох в финской разведке, жил в доме отдыха на Утином мысу и ежедневно ездил на гранинском мотоцикле в парк, в подземный госпиталь на перевязку.
Однажды он уговорил водителя завернуть на аэродром. Его удивила пустота на летном поле. Только дежурные машины на старте. Все остальные в подземных укрытиях. За это время на аэродроме построили подземные ангары.
Летчики замучили Беду, заставляя рассказывать про бои на островах и про его подвиги. Беда смущался и гордился. Раньше рядовой техник, прославленный лишь полетом за спиной Касьяныча, он чувствовал себя теперь героем дня. Летчики, как своему, сообщали матросу новости: Бринько под Ленинградом, Семенов, Дорогов и Творогов воюют над Эзелем, Белоус нашел возле озера новую запасную площадку, два раза сел на ней удачно, но при третьей посадке повредил машину; все же он упорно ищет места, где гангутские самолеты по крайности могут садиться.
Беду интересовала машина Антоненко: растет ли ее боевой счет?
Было что рассказать о машине Антоненко и Белоусе.
По ночам к Ханко повадился ходить тяжелый торпедоносец, похожий по типу на наши машины. Его стерегли, пытались догонять; он неожиданно появлялся из-за леса, огибал полуостров вдоль береговой черты, сбрасывал бомбы на порт, парк, госпиталь и, не принимая боя, уходил к морским аэродромам Ботнического залива. Но вот он прилетел не ночью, а утром, когда комиссар Игнатьев стоял возле дежурной машины Белоуса. Из штаба противовоздушной обороны передали: «Летит свой самолет. Дает наши позывные». Свой? Но силуэт чужой, и с Большой земли не поступало оповещения о вылете какого-либо самолета. А на Гангуте действовало все то же железное правило: всякий без оповещения летящий самолет сбивать. Дали ракету – ответил правильно: знает наши позывные. Самолет подбирался к району, где находился ФКП. Белоус вопросительно смотрел на Игнатьева: «Решайте же!» «Нет, ночной гость, – подумал Игнатьев и скомандовал: – Старт!» Пять минут спустя Белоус еще над Ханко настиг незнакомца, вогнал его в скалы. Вернувшись, он тревожился: «Ну как, товарищ комиссар?» Игнатьев ответил не сразу. Он спросил: «Чужого сбили?» – «Конечно! – убежденно сказал Белоус. – Он шел без опознавательных! Он отстреливался!» – «Ничего, товарищ Белоус, мой приказ – отвечаю я! Не волнуйтесь». Легко так сказать, но Игнатьеву страшно было подумать, что опять могла произойти ошибка, как когда-то с Иваном Козловым или с экипажем Сыромятникова. Он послал другого летчика на «У-2» разыскать в скалах обломки сбитого самолета и внимательно осмотреть с воздуха. Летчик доложил, что на самолете нет ни одного опознавательного знака. Наши так не летают. Самолет пиратский. И вскоре это подтвердилось: посещения неуловимого пирата прекратились…
Но все это было долго рассказывать. Беде просто сказали:
– Бьем, моторист, врага, как Антон наказывал. По-снайперски. Может быть, ты останешься, поможешь нам?
Беда отказался: нет, счет Антоненко он еще не закрыл!
– Гордимся тобой, Григорий, – пожал ему на прощанье руку Игнатьев. – Только мало сбивать самому, учи других. Взял бы, пока есть время, да написал в газетку «Советы снайпера». И пуля, мол, не дура…
Беда повстречал в госпитале Фомина – тот тоже ходил на перевязку. Поговорили. Посоветовались. Вскоре в газете появилась заметка «И пуля не дура».
Беда писал, что если Суворов и сказал когда-то, что пуля дура, то это объяснялось главным образом примитивностью оружия того времени. Оптики не было, и мушка не та. А сейчас наше оружие совершенное. Правильно применяешь винтовку – пуля в сердце врага. Беда рассказывал про товарищей, которые всегда умели перехитрить врага, стреляя по-суворовски: редко, да метко.
А на другой день в доме отдыха его навестил Петро Сокур, Герой Советского Союза. Сокур разыскал белую двухэтажную дачу за палисадником; вывески на ней не было, но по занавескам на окнах и доносившимся оттуда звукам патефона Сокур без вывески определил, что это и есть дом отдыха.
На опрокинутом посреди веранды ящике четверо матросов забивали «козла». Сокур поздоровался и спросил, не с Хорсена ли они.
– Дети капитана Гранина, – назвался один из матросов и, оглушительно стукнув косточкой домино об ящик, крикнул партнеру: – Вот мы твоего Маннергейма и отрубим! – Он имел в виду шестерочного дупля, в разные годы и в разных местах именуемого матросами то Чемберленом, то Маннергеймом, то Гитлером.
– Большие у Гранина детки! – одобрил Сокур. – А есть ли среди вас Беда?
– С бедой не водимся, а Григорий Беда здесь…
Сокур познакомился с хорсенским снайпером.
– Хорошо вы придумали: «дети капитана Гранина», – сказал он, сидя с Бедой на лавочке возле дачи. – У нас тоже очень хорошие командиры. Вот капитан Сукач, например. Ему финны персональные листовки пишут. Или лейтенант Хорьков, командир нашей роты. Храбрейший воин. А наш полковник Симоняк – он соратник самого Кочубея!..
– Золотую Звезду еще не получили? – спросил Беда.
– Уж больно далеко до Михаила Ивановича Калинина, – улыбнулся Сокур. – Мы уж с вами вместе получим, Григорий, хорошо?
Беда смутился и отмахнулся: