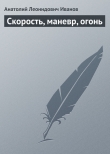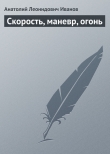Текст книги "Гангутцы"
Автор книги: Владимир Рудный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 47 страниц)
– Так точно, – после некоторого колебания подтвердил Беда.
Гранин взял винтовку, вынул затвор, проверил на свету ствол, буркнул что-то одобрительное, провел ладонью по ложу винтовки, по прикладу и воскликнул:
– Ого! Зарубки уже есть? Сколько?
– Шестнадцать.
– Молодец! Где настрелял?
– То не мои. То капитана…
– А у тебя сколько на счету?
– Никого. – Беда потупился.
– Хорош снайпер! Со счета не сбился. У меня каждая такая винтовка на вес золота, а там всучили такую драгоценность первому попавшемуся матросу. Ты что, курсы кончал?
– Оружейник я, товарищ капитан. С аэродрома.
– Сам вижу, что не с подплава, – Гранин кивнул на ленточку бескозырки Беды. – Там таких хлипких не держат… Ну, вот что… командиру Кугхольма прикажу проверить тебя – снайпер ты или нет. Если врешь, винтовку отберу…
Командир Кугхольма сказал Беде:
– Каждое утро от Эльмхольма во-он в ту бухточку ходит шлюпка. Надо ее отвадить.
Перед рассветом Беда забрался на высокую скалу. Он еще днем присматривался к окрестным островкам, хорошо запомнил, где находится этот самый Эльмхольм, где та бухточка, и прикинул, откуда удобнее сторожить шлюпку. Беда облюбовал подходящую расщелину, залег было в ней, но вспомнил, что со светом его легко будет обнаружить. Он пробежал в соседний лесок, наломал еловых лапок, вернулся на свою позицию и елочками себя замаскировал. Бескозырку с ленточкой «Военно-Воздушные Силы КБФ» Беда припрятал, надел каску, а к каске прикрепил пучок травы. Он выследил шлюпку еще до того, как полностью рассвело. Шлюпка стояла далеко от скалы, там, вдали, на берегу Эльмхольма, шевелились какие-то тени. Беда видел, как шлюпка отошла от берега и направилась к соседнему острову. Когда она приблизилась и стала поворачивать к бухточке, Беда прищурил глаз, поймал переднего гребца в перекрестие прицела и плавно нажал спуск.
Беде показалось, что гребец качнулся. Нет, это вся шлюпка качнулась. Финны налегли на весла, рулевой погрозил в сторону скалы кулаком.
«Промазал!» Беда знал, что весь гарнизон Кугхольма видел его промах, и в ушах его снова прозвучал насмешливый голос Гранина: «Со счета не сбился».
Беда вспомнил, что воздух над водой плотнее, вода всегда притягивает пулю – и надо делать на это поправку. Он снова прицелился и сделал подряд два выстрела.
Гребцы уронили весла. Рулевой вскочил, нагнулся за веслами, но Беда даже не позволил ему сесть на банку, сделать гребок. Рулевой взмахнул руками, может быть, пытался устоять в шлюпке, но тут же кувыркнулся в воду.
– Аккуратненько! – прошептал Беда; полежал немного, достал нож с ручкой из цветного плексигласа и нанес на ложе винтовки первые три зарубки под шестнадцатью зарубками в честь капитана Антоненко.
Волна понесла неуправляемую шлюпку по заливу.
Из расщелинкы своей Беда не ушел. Туда ему принесли котелок с кашей, хлеба вдоволь, баклагу не пустую, банку мясных консервов из энзе, а под вечер сам командир острова приказал доставить Беде на позицию шинель. Беда тут и переспал, а с рассвета опять занялся Эльмхольмом. Уж очень донимали наших «кукушки» с этого острова.
По лощинке шел финн. В руках котелок. «Тоже кашу несет, – догадался Беда. – „Кукушку“ кормит?» Финн перебежал лощинку и исчез. Беда терпеливо ждал. Финн бежал с котелком обратно. «Покормил». Беда выстрелил. Котелок покатился по берегу. «Кого же он кормил?» Беда искал, шарил глазами по берегу. Недалеко от того места, где лежал убитый, покачивалась сосна. Ее подножие заслонил большой валун. «Обязательно бы я устроился на этой сосне…» Беда не сводил с сосны глаз. Сосна бросала на валун тень: ветер шатал сосну. Тень то укорачивалась, то удлинялась. Другая тень метнулась по камням, черная, будто птица махнула крылом. Может, это ветер так резко качнул сосну?.. Тень отделилась от камней и поползла по валуну вверх. Живая тень: хозяин ее движется рядом. «Пообедал! Поднимается. А про кашевара своего забыл…» Крона на сосне сразу стала плотнее, а по валуну шастала мохнатая тень. Беда сравнил сосну с ее сестрами, рассчитал, выстрелил. По камням снова метнулась тень, и Беда снова достал нож, чтобы сделать пятую зарубку.
На другой день Беде сказали:
– Собирайся на Хорсен. Гранин приказал. Будешь теперь служить в «особом соединении»…
Каждую ночь из узкой бухты Хорсена тихо выходила маленькая шлюпка. Она прижималась ближе к нашим берегам, юрко обходила мели и банки, бесшумно скользя к чернеющему в стороне холмику суши. Из шлюпки на скалу прыгал матрос в черном бушлате, в низких сапогах с напуском черных брюк на голенища и в вязаной шерстяной шапочке. В его руках винтовка с оптическим прицелом, каска в матерчатом чехле и какой-то сверток. Островитяне тут же сообщали ему, что нового на финском берегу, советовали, где лучше избрать позицию, как выгоднее замаскироваться, укрыться от обстрела. Матрос развертывал свой сверток, надевал на себя пятнистый балахон – зеленый маскировочный халат. В этом халате он шел по берегу островка. Финны метрах в ста. Матрос ночью знакомился с позициями, чтобы с утра лежать и выжидать. Это был снайпер из «особого соединения» при командире отряда. Каждый снайпер действовал самостоятельно, переходя с острова на остров. Снайперов уважали и оберегали. Их специально приглашали командиры островных гарнизонов. В это «соединение» Гранин назначил и Беду.
Беда день ото дня все лучше изучал и свой и вражеский берег. Его глаза, как фотографическая камера, отмечали каждую перемену в пейзаже. Чуть толще станет дерево, появится куст там, где его не было, – Беда настороже.
Товарищи предлагали Беде соорудить специальные маски, сделать фальшивые пни, валуны, под которыми он мог бы укрыться. Он все отвергал. Кроме маскировочного халата, винтовки, фляги и ножа, он носил с собой только большой красный кисет с набором патронов. Тут были трассирующие с зеленым ободком, были утяжеленные с желтым венчиком на пуле и несколько черных, бронебойных, которые он приберегал на случай, если доведется бить по финскому катеру.
Беда был способен много часов обходиться без пищи, лежать без движения, чтобы обмануть противника, вызвать его из укрытия.
Однажды он лежал так весь день и сильно устал. Обидно было уходить, никого не выследив, а у Беды уже разболелись глаза, особенно левый.
Беда теперь знал, что у снайпера всегда больше устает не тот глаз, которым он смотрит, а тот, который он зажмуривает. Ему уже трудно становилось смотреть на зеленый берег, на солнечные блики, пляшущие по волнам. Он отдыхал, закрывая ненадолго глаза или поглядывая на небо, чистое и такое просторное, что Касьяныч наверняка сказал бы: «Миллион высоты!»
Сегодня только летать и летать! Беда закрывал глаза и вслушивался, как бывало, когда ждал возвращения Антоненко, – ему очень хотелось услышать сейчас пение мотора. Но в небе было тихо, только из-за скалы доносилось пыхтение какого-то буксира да изредка гудели снаряды, проносясь к Ханко.
Может быть, они бьют по аэродрому и Колонкин носится на машине и засыпает свежие воронки?
Беда снова всматривается в лесок на финском берегу, не теряя надежды дождаться сегодня цели.
Финны давно охотились за неизвестным снайпером.
Хоть и не знали они, что зовут этого снайпера Беда, но руку его они всегда отличали. Где он появится – нет финнам житья. Это он запретил движение по лощинке к мыску острова Эльмхольм, где у финнов стоял пулемет; это он бил сквозь зеленую изгородь, поставленную вдоль этой лощинки; это он потом выследил другие подходы к мыску и зажигательными пулями поджег моторку, которая шла к пулеметчикам; это он разбил в лесочке стереотрубу.
А сейчас Беда вдруг заметил на том же месте в лесочке блеск стекла. Опять стереотруба?.. Беда уже учел направление ветра, достал свой кисет и зарядил винтовку патронами с утяжеленной пулей.
Стекло поблескивало, словно кто-то поворачивал трубу из стороны в сторону. Уж очень бойко вертят эту трубу. Не ловушка ли? Беда ждал.
Из финского блиндажа за леском вышел солдат и скрылся в кустах. Беда не стал стрелять. Вскоре солдат снова появился – Беда опять не стал стрелять.
Темнело. К трубе никто не подходил. Беда уже надумал было уйти со своей позиции на отдых. Но тут ему показалось, что возле стереотрубы шевельнулись кусты. Возможно, что там кто-то сидит и поджидает, когда снайпер выйдет из укрытия. Беда выстрелил по кустарнику. Оттуда сразу ответили пулей. Пуля царапнула рядом гранит, загудела – ушла рикошетом. «Ас, а нервишки-то у тебя слабоватые». Беда медленно сползал со скалы.
У подножия он вскочил и быстро перебежал на новое место. Надо бы уйти. Но ему хотелось найти засаду и помериться с противником силами. С новой позиции Беда хорошо видел кустарник и стереотрубу. Финн, очевидно, предполагал, что снайпер на старом месте. Он часто стрелял по скале. По вспышкам Беда точно определил, где он скрывается. Беда прицелился и послал три пули. Финн замолчал. Беда подождал некоторое время, пошевелился – молчит. Беда вынул нож, но раздумал: рано, пожалуй, зарубку делать. «Может, я его только погонял, а не сбил. А Касьяныч говорил: гонять или сбивать – разница». Недоволен был собой в тот день Беда. Сбивать надо!.. А он возвращался на Хорсен без новой зарубки. Сорок восемь зарубок уже сделал Беда на своей винтовке, но ни одной он не поставил зря. Если уж ставил, так знал, что враг убит наверняка. Так Антоненко рукой своего оружейника продолжал бить врага.
Первого августа истек второй срок, назначенный Маннергеймом для захвата Ханко. Битва за полуостров шла в эфире. Радиостанция Лахти сообщила, что Ханко взят. На следующий день радиостанция поправилась, передав, будто финские войска отошли на прежние позиции. Гангутская газета высмеивала эту радиостратегию. Успехи гангутцев, день за днем отмечало Советское информбюро. Появились сообщения о потопленном эсминце, о десантах. Гангутцы не выпускали инициативу из рук. Пришлось Маннергейму поставить своей «Ударной группе» новый, «последний» срок захвата Ханко – 1 сентября.
Сводный артиллерийский полк «Ударной группы» день и ночь вел по Ханко огонь. Пламя и дым пожарищ душили город. Горели дома. Но в домах уже никто не жил. Пылало здание вокзала. Но Гангут теперь в нем не нуждался. Полукольцо костров бушевало в шхерах, на рубежах базы. Все было в огне: острова, полуостров, скалы, лес. Гарнизон строил убежища и уходил под землю. Всё прятали под землю: самолеты, автомашины, госпитали, хлебопекарни, жилища и штабы. А когда фашисты, мстя за поражения, стали разрушать улицы городка, Кабанов приказал: на каждый снаряд по Ганге отвечать двумя по Таммисаари.
Стало трудно, очень трудно жить под огнем, но гарнизон не чувствовал себя в окружении. Каждый, кто пришел сюда служить, заранее знал, что в случае войны он остается в тылу маннергеймовской Финляндии, в блокаде, возможно под огнем, и что база на Гангуте должна стоять и выстоять.
Гангут вместе с Таллином, Эзелем, Даго и Осмуссааром сковал германский и финляндский флоты, закрыл им путь на Ленинград. Захват островов, успех в морском сражении, потопление подводной лодки, миноносца, торпедных катеров, удары по «Ильмаринену», разгром дальних авиабаз и финских аэродромов, победы в воздухе, на море и на земле – все это укрепило наступательный дух гарнизона.
Как боевой корабль на минном поле выставляет по бортам щупальца-параваны, так и Гангут ощетинился штыками островных гарнизонов и отсекал любой удар, нацеленный с флангов на материк.
Гангутские десантники сметали со скал вражеские гарнизоны и, захватив один остров, рвались к следующему. Матросы ныряли на дно залива за пистолетами, автоматами, брошенными противником при отступлении. Они сами раздобывали себе шлюпки и мотоботы, с каждым днем укрепляя свои отряды. Летчики, батарейцы и катерники охраняли коммуникации базы в водах Финского и Ботнического заливов. На узком двухкилометровом пространстве Петровской просеки пехота полковника Симоняка отбивала штурм за штурмом и господствовала над передним краем врага.
«Линия Репнина» выдвинулась далеко вперед. Снайперы превратили жизнь передовых финских постов в ад.
Финны опасались ходить по позициям даже ночью, потому что и ночью их подстерегали либо русская пуля, либо русский нож.
Финны видели, как яростно дерутся советские люди, с какой верой в победу, с какой стойкостью отстаивают они далекую балтийскую крепость, кажется оторванную от всего фронта. И все, кто помнил подвиг летчика Борисова в зиму сорокового года, кто видел или слышал о его мужественной смерти в пылающем самолете, теперь почувствовали, что подвиг Борисова не исключение. Вот и на Гунхольме русский матрос взорвал гранатой и себя, и врагов, захвативших было в плен его; вот и на Бенгтшере русские солдаты бились насмерть, и рядовые грудью заслоняли командиров, руку оторвало бойцу, а он другой рукой колол врага ножом, трижды ранило подрывника, а он швырял гранату за гранатой; а тот катер, который шел под огонь, под снаряды на помощь товарищам, уже не способным встать ему навстречу, как отважно погибал катер на минном поле, на виду у тех егерей на Бенгтшере, которым посчастливилось в этом жестоком бою уцелеть; по всем финским островам, а может быть и на материк, прошел слух, как легенда, о матросе-фанатике, который застрелился на носу гибнущего катера, раздевшись догола. Это и есть удивительный характер советского человека, о котором Маннергейм с ненавистью писал в приказе после своего мартовского поражения как о человеке с иными нормами культуры, вот как этот человек любит родину, он скорее погибнет, чем покорится врагу.
Слава Гангута росла. Имя Гангута стало страшным для противника. На полуострове знали, что родина следит за борьбой защитников Гангута и в трудную для себя годину волнуется за судьбу гангутцев, не забывая о них, переживая каждую их потерю и победу. Командира базы, комиссара, начальника политотдела правительство повысило в званиях и вместе со многими гангутцами наградило орденами. Петр Сокур получил письмо от жены: «Это ты Герой Советского Союза или твой однофамилец?..» Но как ответишь, когда Полтавщина уже под немцами, фронты уходят на восток и кому сейчас, кажется, дело до писем с Гангута?!..
Тяжелый бой на Бенгтшере и гибель Антоненко случились в День Военно-Морского Флота. Не до праздника, но газета печаталась под огнем с праздничным поздравлением главного командования. Никто не ждал этого поздравления, особенно в эту пору. Но оно пришло, подписанное двумя членами правительства, и было личной наградой каждому гангутцу.
«Начавшаяся Отечественная война, – писали Ворошилов и Жданов, – показала, что за истекший период бойцы, командиры и политработники Военно-морской базы Ханко являли собой образец настоящих большевиков и патриотов социалистической Родины, честно и беззаветно выполняющих свой долг.
Отдаленные от основных баз, оторванные от фронта, в тяжелых условиях и под непрекращающимся огнем противника, храбрые гангутцы не только смело и стойко держатся и обороняются, но и смело наступают и наносят финнам ощутительные удары, захватывая острова, пленных, боевую технику, секретные документы.
Ваша активность – хороший метод обороны. Смелость и отвага гарнизона – лучший залог успеха в окончательной победе над врагом.
Передайте геройским защитникам Базы от Главного Командования Северо-Западного направления нашу благодарность и искреннее восхищение их мужеством и героизмом.
Главком: Ворошилов, Жданов».
Трудный был для родины год. Все глубже забирался в нашу страну враг. «…Бои на Ново-Ржевском, Смоленском, Житомирском направлениях», – с болью слушал, читал боец. Топчет, разоряет, жжет нашу землю враг. Борется в кольце Одесса. Отбивает штурмы Таллин. Под угрозой Ленинград.
С каждым днем Гангуту становится труднее, но родина приказывает выстоять. Выстоять, какие бы испытания ни ждали впереди. Выстоять!
Часть III
Выстоять!
Глава первая
Политруки
В начале августа пришла радиограмма из Москвы: при первой возможности откомандировать слушателей академии для продолжения учебы.
«Для продолжения учебы», – перечитывал Расскин, Эти три будничных слова говорили ему больше многих сводок, статей и корреспонденции. Как хорошо, что продолжает работать академия! А ведь на первый взгляд кажется странным, что в дни, когда все, буквально все в стране мобилизовано, чтобы остановить, задержать, обескровить врага, там, в сером корпусе академии, где совсем недавно учился и Расскин, молодые слушатели будут заниматься, составлять конспекты по истории суворовских походов или разбирать тактику сражения, гул которого еще не смолк и смолкнет не скоро!..
«При первой возможности откомандировать», – перечитывал Расскин, и мысль возвращалась к насущным делам, к сегодняшнему, практическому значению радиограммы: вернуть четырех политработников в Москву. Но как отпустить кого-либо из политических работников сейчас, когда гарнизон понес уже немало потерь, а пополнения нет и ждать неоткуда, потому что фронт все дальше уходит от Ханко? Сейчас, когда, несмотря на полную блокаду, надо выстоять под ударами врага!
Расскин вспомнил, как четверо политруков пришли во время обстрела в старое здание штаба на улице Борисова, в его кабинет, где теперь сквозь пробитый снарядами потолок видно гангутское небо, то облачное, то задымленное.
Там, в подвале, работает Фомин, – каждую ночь Расскин его видел, заходя в редакцию. После просмотра полос очередного номера начиналась ночь воспоминаний и рассказов. Художник показывал наброски рисунков. Поэты читали стихи. Разъездной корреспондент, безбожно приукрашивая и привирая, описывал поход на острова – на зависть корректорам, редактору, секретарю, всем, кто безвылазно находился в подвале. В эти ночные часы Расскин отдыхал. Ему нравились газетчики, влюбленные в героев своих заметок. Они знали уйму нового.
Комендора Фокина на операционном столе хирург спросил, как он умудрился столько крови потерять, Фокин прошептал: «А про миноносец в сводке читали? Он крови стоит…» Думичев при своем малом по сравнению с Репниным росте сумел вытащить оглушенного взрывом Репнина с финской территории, где саперы минировали хоженую тропу… У Сокура в секретном окопе печка… Григорий Беда сделал шестьдесят третью зарубку на винтовке… Гранин отпустил бороду… Девушки в госпитале шьют кисеты и фотографируются, чтобы послать свои карточки бойцам… Кабанов перевел подвижную батарею из района госпиталя, чтобы не накликала на раненых снаряды… Какую батарею?.. Нет, не Волновского и не Жилина, «Неуловимого Митрофана»… «А вы разве не знаете этого прозвища Митрофана Шпилева, товарищ дивизионный комиссар?.. Его еще – „Истребитель змей“, „Спереди не возьмешь, сзади не догонишь…“ Летчики, наверно, придумали, здорово он их прикрывает… А про его корректировщика знаете?.. Ну, того, что на трубе хлебозавода торчит… Он наверх лезет по скоб-трапу внутри трубы, вниз спускается в саже, как негритенок из кинофильма „Цирк“, умора… Не смешно?.. Как же не смешно, товарищ дивизионный комиссар? Девочки на хлебозаводе прямо из трубы его окунают в бак: чтоб, говорят, фамилии соответствовал… Беляков его фамилия, честное слово, не придумали: старшина Беляков». Так шли и шли «последние известия». А потом: «Товарищ дивизионный комиссар, разрешите слетать с Белоусом на штурмовку?» – «Да место же в самолете одно». – «Как-нибудь пристроимся…» Расскин хитрил, сам начинал жаловаться, что Кабанов не пускает его в десанты. Но все равно в конце концов к нему подходил Фомин: «Разрешите на денек отлучиться на Хорсен?»
И вот Фомину предложить покинуть полуостров! Уйти с Ханко? Да кто из гангутцев на это согласится?!..
Расскин позвонил в политотдел и попросил вызвать на ФКП всех четверых слушателей академии.
– Гончарова сразу не найдешь, – пожаловался ему Власов. – Вечно носится с поста на пост, даже похудел.
– Надо найти, Петр Иванович, Тут есть радиограмма армейского комиссара – вернуть их всех в Москву.
– Что? В Москву? – возмутился Власов. – Их отсюда силой не выгонишь! Не поедут. Да и я не пущу.
– Не пустишь? Вот всыплет нам с тобой армейский комиссар, тогда пустишь! Представь себе, академия продолжает занятия. Пришли их ко мне, только не говори, зачем вызываю…
Фомина Власов нашел быстро – за стеной, в редакционном подвале. Тот обрадовался:
– Наверно, дивизионный комиссар пошлет на передовую.
– Твоя передовая – передовая «Правды», – осадил его Власов. – Если только не обеспечишь мне в «Красном Гангуте» передовую очередного номера «Правды», перестану считать тебя фронтовиком…
Булыгин и Гончаров тоже оказались недалеко. Дальше всех был Томилов, ныне комиссар артиллерийского дивизиона.
* * *
Звонок из политотдела застал Томилова на брагинской батарее на Утином мысу.
Томилов вспомнил о Прохорчуке: вероятно, вызывают из-за него.
Ох, уж этот лейтенант Прохорчук! Томилов узнал его в день своего вступления в должность комиссара, приехав во время боя на батарею.
Незнакомый лейтенант управлял огнем. Даже вражеские снаряды, падавшие на позиции батареи, не мешали лейтенанту с артиллерийским шиком скандировать, командуя: «Шаг один больше – ба-а-тарея!..» Лейтенант напомнил сынишку командира на черноморской батарее, где Томилов проходил академическую практику. Мальчонка с таким же задором забегал в орудийные дворики, забирался на бруствер, приставлял согнутые трубочкой ладошки, как бинокль, к прищуренным глазам, вглядывался в безбрежное море и, подражая отцу, надувал щеки, выпячивал губы и картаво выкрикивал: «Ба-ат-тагея – залп! – Потом притопывал, как отец, ногой и от себя добавлял: – Огонь! Огонь! По когаблям пготивника – огонь!»
«Вот это настоящий артиллерист!» – подумал Томилов, здороваясь с лейтенантом.
– Здравствуйте, товарищ Прохорчук.
– Здравствуйте, товарищ старший политрук, – ответил лейтенант. – Только я не Прохорчук, я Сидоров, помощник.
– А где командир батареи?
От Томилова не ускользнуло смущение лейтенанта.
– Он на капэ. Разрешите позвать?
– Ничего, я сам пройду.
Прохорчук, обросший щетиной, прятался во время боя в землянке. От него разило спиртом.
– А, новый комиссар… Садись, налью… Слышь, как дает? – В землянку донесся вой пролетевшего снаряда, где-то далеко грохнул разрыв, качнулась тусклая лампочка над столом. Прохорчук вобрал голову в узкие худые плечи, рука его, наливавшая из фляги спирт, дрожала. – Вот она, жизнь, комиссар. И пить – помереть, и не пить – помереть. Лучше пить… Пей, комиссар, не стесняйся…
Томилов взял заодно с протянутым ему стаканом и тяжелую, почти полную флягу. Он выплеснул спирт из стакана, опрокинул флягу; спирт, булькая, долго выливался на земляной пол. Мутными глазами Прохорчук следил за льющимся спиртом, за тем, как растет лужица, как медленно впитывает ее каменистая земля. Он так и не поднял взгляда: то ли не мог оторваться от исчезающей лужи, то ли не посмел смотреть комиссару в глаза.
– Приведите себя в порядок. Я зайду через десять минут!.. – Томилов вышел, не обернувшись и хлопнув дверью.
Раньше, у зенитчиков на даче Маннергейма, Томилов понял, что такое благодушие. Теперь – впервые на войне – он увидел труса. Прохорчук только мешал воевать батарее. Все держалось на хорошем помощнике и боевом активе. Кто-то сказал Томилову, что Прохорчук слыл до войны ханковским щеголем. «Наверно, еще звонко говорил!» – подумал Томилов. Он решил заняться батареей в ближайшие же дни.
Но батарея считалась тыловой, и Томилов все откладывал дело Прохорчука, занятый другими делами. Томилов уехал на Утиный мыс, где строили укрытия в скалах, и не вспоминал о Прохорчуке до того дня, когда его вызвали в политотдел.
– Что у вас там, Прохорчук все еще сосет водку и прячется в землянке? – спросил Томилова начальник политотдела Власов, даже не здороваясь. – Трусит он, шкуру бережет. Надо своевременно информировать политотдел о таких чрезвычайных происшествиях. Почему же я должен узнавать об этом помимо вас?..
Томилов, краснея, сказал:
– Руки не дошли, товарищ бригадный комиссар. Не успел…
– Не успел?! Новичок?! – возмутился Власов. – А война будет ждать, пока Томилов раскачается и войдет в курс дела? Обязанностей своих вы не поняли, вот что!.. Подумаешь, неразлучная пара – Томилов и Тудер! Кому это нужно, чтобы командир и комиссар вместе торчали на одной батарее, да еще на Утином мысу, где есть Брагин и Рыжов? Вас послали комиссаром в дивизион. А вы превратились в политрука батареи. И даже не в политрука – в прораба строительства. Вот и просмотрели Прохорчука. Это прореха. А в нашей обороне не может быть прорех. Слышите – не может быть.
Томилов пробормотал:
– Придется его снимать.
– Конечно, придется. Снимать и судить за трусость в бою. Но раньше, может быть, и не пришлось бы. Потеря человека – наше с вами поражение. Вы все храбритесь, лезете туда, где жарче, шумнее. Лихость хороша в атаке, а не в повседневной политической работе. Политическому работнику не всегда надо быть там, где опаснее для него лично, а там, где намечается слабина, где возникает какая-нибудь угроза. Вот какое дело, дорогой, – завершил Власов, сразу меняя тон. – Иди, комиссар тебя вызывает… Только помни, в академии не всему можно научиться. Здесь сейчас главная академия!
Томилов шел к Расскину, вновь ожидая неприятного разговора о Прохорчуке. «Такие-то дела, Степан, отличился в дивизионе, хлебнул позора!»
Но Расскин, едва Томилов переступил порог, огорошил его вопросом:
– Вы, говорят, обратно в Москву собираетесь?
– В Москву? – остолбенев, переспросил Томилов. О какой Москве может идти речь, когда он считал, что еще не был на фронте?! – Разве мы здесь не защищаем Москву? – тихо, подавив обиду, спросил он и подумал: «За что? За Прохорчука!»
Следя за лицом Томилова, Расскин показал ему радиограмму:
– Читайте. Доучиваться вызывают.
Томилов прочитал радиограмму и расстроился:
– Значит, откомандируете?
– А вам разве не хочется получить диплом?
– Наша академия сейчас здесь, – повторил Томилов слова начальника политотдела. – Довоюем – недорослями не останемся.
– Диплом есть диплом, – сказал Расскин. – Меня взяли из академии досрочно. Так и остался без диплома. А хотелось бы, эх, как хотелось бы учиться!
– Я тоже мечтал раньше об академии, – сказал Томилов. – Долго рвался в академию! Но сейчас не смогу уйти с фронта. Очень прошу оставить меня здесь.
– Как же я вас оставлю? У меня приказ откомандировать!
– Так тут ведь сказано: «при первой возможности». Разрешите подать рапорт, что старший политрук Томилов просит разрешения продолжать учебу после победы, а сейчас желает идти на политическую работу в десант?
– Ах, вот как: условие на условие. – Расскину понравился ответ Томилова, и на душе стало как-то очень светло. – Если армейский комиссар не откажет нам с вами в этой просьбе, придется ваше желание удовлетворить. Данилина мы собираемся перевести из отряда в соединение, а вас пошлем на Хорсен.
– К Гранину? – обрадовался Томилов.
– Да. Опять смените Данилина.
Расскин вспомнил зиму сорокового года, когда штаб флота не разрешал ему покидать линкора и не отпускал на фронт. Он все же добился своего и побывал в лыжных матросских батальонах. Но потом ему попало за задержку сверх положенного срока. Адмирал сердился: «Вы не политрук в морской пехоте, вы комиссар эскадры!»
…Пожалуй, и этого надо предупредить.
И Расскин, внутренне улыбаясь, строго сказал:
– Только прошу запомнить, товарищ Томилов: посылаем вас не командиром штурмовой роты, не разведчиком, а комиссаром отряда.
Расскин подчеркнуто добавил:
– И не политруком одной батареи. Надеюсь, вы меня поняли?
Томилов смутился: «И дивизионный уже знает о Прохорчуке».
А Расскин, сказав это, подумал, что подобный же упрек должно адресовать и ему самому. Имел ли он право идти на Моргонланд или на Бенгтшер с десантом, который является для полуострова лишь частной боевой операцией, а можно ли считать отвагой то, что по существу есть нарушение долга? Кабанов прав: то, что похвально для бойца, бывает пагубным и недопустимым для командира. Это не значит, что он должен сидеть под землей! Нет! Он комиссар. Его должны видеть и чувствовать в частях как комиссара, храброго человека и руководителя.
– Вы идете в бой, в десант, когда это политически необходимо для успеха дела, – продолжал Расскин. – Но вы все время должны помнить, что на наших плечах отряд. Вы отвечаете за весь отряд в целом…
– Все будет в порядке, товарищ дивизионный комиссар, – обещал Томилов.
– Тогда ждите сигнала. Сегодня же радирую в Москву.
* * *
В ожидании вызова на скамеечке возле ФКП сидели Фомин, Гончаров и Булыгин.
Булыгин нашил на китель голубые просветы и нацепил огромный летный планшет с картой полуострова.
– Знаете, что произошло у нас с одним летчиком? – говорил Булыгин. – Не разобрался, взлетел по тревоге и давай бить по «чайке»…
– Ну и что? – перебил Булыгина Гончаров.
– Я просто рассказываю. А все ты виноват, Гончаров. Поздно даешь оповещение о вражеских самолетах. Вот нам и приходится бросаться на каждый самолет над аэродромом.
– И все не так, Булыгин, – возмутился Фомин. – Летел без оповещения самолет. Дежурный летчик атаковал его. И правильно сделал, потому что над Ханко все время летает фашистский разведчик на машине, очень похожей на «чайку» и с намалеванными нашими опознавательными. А в финскую войну такой разведчик с красными звездами на плоскостях неожиданно бомбил «Ермака». Что же, зевать, по-твоему, надо?
– Раз ты такой мудрый, Фомин, скажи при Гончарове, каков финал и почему Бринько пришлось улететь от нас? – произнес Булыгин с вызовом.
– Противно слышать такое, – рассердился Фомин. – Распалась пара – Антоненко и Бринько, вот и улетел. Гибель Козлова – то трагедия, это знают все, но языком треплешь только ты. А при нем небось помалкивал или митинговал: сбивайте, мол, так молниеносно, как Антоненко и Бринько. Никто не перемывает зенитчикам косточки за сбитый эсбэ Сыромятникова: не было оповещания, что со стороны Турку придет наш самолет, и сбили. Будут у нас рации – будет порядок. Противно, Булыгин…
– Как ты все дотошно знаешь, Фомин? Интересно, кто из нас служит в авиации – ты или я?
– Конечно, Булыгин. – Фомин смотрел на него зло. – Но летать товарищ Булыгин до сих пор не научился, хотя и нашил авиационные просветы на китель.
Гончаров насмешливо сказал:
– Опасно, сбить могут.
– Поживи с мое на аэродроме, узнаешь, что опаснее – летать или обеспечивать на земле, – обиделся Булыгин. – Вам хорошо на постах СНиС или в редакционном подвале: не дует. А у нас сами летчики говорят, что даже в воздухе лучше, чем на земле.
– Потому ты и остался птицей без крыльев, – язвительно заметил Фомин.