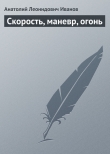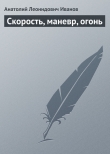Текст книги "Гангутцы"
Автор книги: Владимир Рудный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 47 страниц)
В гарнизоне Бенгтшера должно быть человек десять маячников и наблюдателей и человек пять артиллерийских корректировщиков, о которых рассказывал лейтенант с Моргонланда.
Не знали десантники, что после разгрома на Моргонланде противник высадил на Бенгтшер взвод егерей под командой лейтенанта, пушку зенитную с прислугой и пулеметчиков, расположенных на террасе у входа в маяк. На них-то и напоролась лобовая группа, тотчас вступившая в рукопашный бой; застрочил с террасы пулемет, пал, убитый насмерть, Андрей Румянцев, тяжко раненный Курилов бросился на террасу, уничтожил пулеметчиков и погиб. Ветеринар Малярчиков повел оставшихся в живых бойцов этой группы на штурм маяка, а лейтенант Кагалов с Пашей Кострицей помчались на западный берег, где открыла огонь зенитка; там, у проволочного заграждения, уже были убитые и раненые, где наши, где враги – трудно разобрать: на Кагалова налетел верзила с ножом, Кострица перехватил его, спас лейтенанта, они бросились с гранатами к орудию, побили артиллеристов, Кагалов видел, как погиб вместе с артиллеристами на своей же гранате Кострица, и сам упал, теряя сознание…
А на восточной части острова истекали кровью бойцы Кибиса; склад они взорвали, но огонь с маяка прижал их к скале…
Катер Ефимова ждал в расщелине сигнала. Всего двадцать минут длилась тишина, а когда начался бой, катер открыл по маяку огонь из носовой пушки.
Снаряды разрушили вершину башни, где стояла маячная аппаратура и рация. Смолк финский пулемет. Опять настала внезапная тишина. Взвилась зеленая ракета.
«Двести двенадцатый» задним ходом выбирался из расщелины, освобождая место «Триста одиннадцатому» с взрывчаткой. Крепко он засел в каменной бухточке – выдрался с оборванным, давшим течь форштевнем, пришлось заводить пластырь, закрывать пробоину.
«Триста одиннадцатый» подошел к западной части острова, скатил там глубинные бомбы и сразу отошел, ведя по маяку огонь.
На острове гремели взрывы. С финских островов открыли огонь дальнобойные – то по острову, то по подходам к нему.
В стороне от Бенгтшера ждал красной ракеты «Двести тридцать восьмой». Лежепеков видел бой, видел отход одного катера, заход с запада другого, зеленую ракету на Бенгтшере и тут же, далеко-далеко, в районе шхер Хегсора, тоже зеленую, словно ответную – там у финнов стояли корабли, и Лежепеков подумал: уж не совпали ли сигналы?.. У наших зеленая «дайте взрывчатку», но у них она может означать вызов помощи, вызов кораблей…
Всю ночь «Двести тридцать восьмой» патрулировал вдоль острова, ожидая красной ракеты. В стороне ходили два других катера.
Красной ракеты не было.
На маяке зажегся прожектор, и острый дрожащий луч пронзил черное облачное небо.
Луч исчез, снова вспыхнул, замигал, забарахтался, упал с маяка вниз, уставился в бело-синий флаг с красной звездой, вытянутый ветром на гафеле, вздрогнул, погас, опять зажегся, ослепляя команду «Двести тридцать восьмого», затанцевал по мокрой палубе и снова пропал. В эти несколько секунд катерники представили себе картину того, что произошло на башне: картину отчаянной борьбы пограничника с финским прожектористом. У маяка замелькали огоньки выстрелов. Освещая залив, взметнулось дымное пламя. Маяк горел. Но как ни старались сигнальщики «морского охотника», они не могли разглядеть, что же происходит на острове. Бой шел в тени пылающей башни.
Ветер нес на катер сажу, гарь. Что-то взрывалось на берегу. Что-то гремело.
Красной ракеты все не было.
Занялось утро, такое пасмурное, какое случается внезапно в разгар лета только на Балтике, промозглое, ветреное, местами еще оставался туман, – никак не поверишь, что накануне стояла августовская жара. Рассвет даже нельзя было назвать рассветом: что-то робкое, серое расползалось с востока по безнадежно низкому небу, а море, особенно на юго-западе, там, где сейчас так необходим был свет дня, стало еще чернее, и на него утомительно было смотреть. А смотреть надо, смотреть, следить за каждым гребешком на горбатой волне, за малейшим буруном, подобным вспышке белого огня, за смутно, почти условно возникающей полоской берега, где бьются – побеждают или погибают – товарищи. Смотрели все: не только командиры, односложно разговаривающие на мостике, не только сигнальщик на рубке, нахохлившийся в своей отсыревшей ватной куртке, – пулеметчики, комендоры, потанцовывая на мокрой палубе от холода, поглядывали то на небо, то на море, а больше всего на этот чужой остров; мотористы высовывались из люка, их лица поблескивали от масла и подпалубного зноя.
Но красной ракеты все не было.
«Двести тридцать восьмой» снова отошел подальше от маяка. Лежепеков хотел видеть весь остров: может быть, диверсионная группа или ее остатки выйдут на другую сторону?
Но и там такое же серое утро, и там не загорался красный цвет.
Когда сквозь завесу мелкого дождя сигнальщик различил позади острова силуэты каких-то кораблей, он хрипло выкрикнул:
– Зюйд-зюйд-весте корабли противника! – Все как-то приободрились, будто тревог не прибавилось, а стало меньше: самый жестокий бой лучше томительного и неопределенного ожидания.
– Точнее докладывать: какие корабли? – Лежепеков схватил бинокль. Сомнений не было – миноносец и две канонерские лодки.
– От миноносца отваливают барказы курсом на остров! – докладывал сигнальщик.
– Радист, передайте в базу: с миноносца противника подбрасывают на маяк подкрепление.
– Корабли противника повернули курсом зюйд-ост. Обходят острова.
– Отрезают, сволочи, наш десант. Сигнальщик! Передать семафор: «Триста одиннадцатому» и «Триста двенадцатому» подойти ко мне!
По всем выработанным историей морских сражений правилам «морской охотник» перед такими превосходящими силами должен отступить. Но как можно уйти, бросив на острове товарищей!
– Сигнальщики! Не прозевать ракету!
– Есть не прозевать, товарищ командир!
– Не моргать, сигнальщики! Смотреть за островом!
– Есть не моргать, товарищ командир!
Сдержанно звучала эта перекличка. Только одно чувство знал сейчас экипаж катера – чувство долга перед товарищами, попавшими в беду.
Между катерами и островом рвались снаряды. Противник огнем отжимал катера от Бенгтшера. Они все еще держались своего места.
Разрывы близились. Валы, поднимаемые снарядами, перекатывались через рубки. По палубам стучали осколки.
Кто-то застонал. Кому-то бинтовали рану. Ждать стало невмоготу. Тогда Лежепеков приказал повернуть навстречу противнику, и все три катера легли на боевой курс.
* * *
В бухте Пограничной на Густавсверне лейтенант Терещенко ожидал приказа выйти в море. В черном блестящем дождевике он сидел в кают-компании на диванчике под портретом Ильича, рассеянно листал затрепанный томик рассказов Станюковича, время от времени вскакивал, выбегал в коридорчик, высовывался из люка и окликал вахтенного:
– На зюйде?..
– Тихо, товарищ командир. Ничего не видать.
«Двести тридцать девятый» теперь редко покидал район Ханко. Он большей частью крутился в ближних шхерах, к западу и к востоку от полуострова, высаживал десанты, подобные гранинским, поддерживал эти десанты огнем своих пушек и пулеметов и только раз воевал по-настоящему, как и положено «морскому охотнику»: акустики услышали в районе Руссарэ неизвестную подводную лодку, и Терещенко сериями глубинных бомб до тех пор пропахивал квадраты моря, пока на поверхности не появились пятна соляра, синие пилотки и бескозырка с готической надписью на ленте: «Кригсмарине».
Всю ночь однообразно гудели снаряды над Ханко. Шумело за островом море. Но с далекого Бенгтшера не доносилось ни звука, хотя сигнальщик Саломатин уверял, будто он слышит на зюйде взрывы.
Луч прожектора блеснул в той стороне подобно молнии, потом на юге возникло красноватое облачко, которое легко было принять и за отблеск пожара и за ночной мираж.
Радист подтвердил, что на Бенгтшере начался бой. Но и радист ничего не смог к этому добавить; он всю ночь не снимал наушников, однако рации ушедших катеров отмалчивались.
Под утро из взвода связи погранотряда сообщили, что есть радиограмма от Николая Мелихова с Бенгтшера. Сам он ранен, дополз до рации и отстучал: Курилов и Румянцев убиты, идет рукопашная у маяка, фашисты засели на верхнем этаже; подходят корабли с вражеским десантом; к нам не пробиться, прощайте…
На этом связь оборвалась. Больше с острова известий не поступало. Значит, и радист погиб.
Известие о подходе к Бенгтшеру чужих кораблей приняли сразу и на катерах и в штабах на полуострове. Со скалы, нависшей над бухтой, бегом спустился командир дивизиона Полегаев. На «Двести тридцать девятом» запустили моторы, и скалистые берега Густавсверна наполнились гулом.
Полегаев, плотный, крепкой кости человек, поднялся на мостик, и Терещенко, работая ручкой машинного телеграфа, то и дело задевал локтем его кожанку. Терещенко любил на мостике простор. Он стоял хмурый, замкнутый, недовольно топорщил черные, коротко стриженные усы; но хмурым был сегодня и комдив, обычно добродушный и словоохотливый. Грозно гудели под палубой моторы, катер поминутно вздрагивал от ударов встречных волн. Он мчался к Бенгтшеру, зарывая в волны нос и отбрасывая назад пену, белую, почти снежную в утреннем полумраке.
Далеко в сетке дождя три наших катера огибали Бенгтшер, идя наперерез кораблям противника.
– Десант сняли. Зачем же лезут в драку? – проворчал Полегаев. – Сигнальщик! Вызвать катер командира отряда.
– Есть вызвать катер командира отряда!
– Передать Лежепекову: катерам вернуться в базу. Дробно стучала шторка сигнального фонаря.
На «Двести тридцать восьмом» мигал ответный светлячок.
– Десант на острове, – читал вслух сигнальщик. – Вернуться без него не могу.
Все невольно уставились на смутно видимый скалистый Бенгтшер.
– Ваше решение? – запросил Полегаев.
Сигнальщик возбужденно прочитал ответ:
– Атаковать корабли. Снять десантников.
– Пиши, сигнальщик: Лежепекову перейти на «Двести тридцать девятый». Он будет головным. «Двести тридцать восьмому» подойти к Бенгтшеру и снять людей…
Звон машинного телеграфа. Сдержанный рокот моторов, работающих на малом ходу. Катера сблизились бортами. «Двести тридцать девятый» принял Лежепекова и с места взял полный ход. Матросы на катерах молча переглянулись, проводили друг друга строгими взглядами. Два катера пристроились в кильватер к головному. На мостике Лежепеков тихо рассказывал о событиях ночи. Терещенко слушал, мрачнел и вел свой корабль в обход Бенгтшера.
Теперь между катерами и морским отрядом противника находилась лишь неширокая полоса бесноватого моря.
Внезапно Терещенко свернул с курса и скомандовал поставить дымовую завесу. Грязно-серое облако окутало корму и поползло над водой позади катера, клубясь, разбухая и вытягиваясь зыбкой стеной. Два других катера уплотнили завесу – она стала непроницаемой. Тогда катера повернули «все вдруг» и сами окунулись в едкий, отяжелевший от сырости дым.
Надо полагать, что на фашистских кораблях дымовую завесу расценили как знак отступления. Да, пожалуй, каждый грамотный моряк предположил бы, что под прикрытием дыма катера удирают.
Однако недаром в этих же водах возле Ханко русские моряки однажды уже опрокинули установившиеся понятия о соотношении морских сил, атаковав гребными галерами шведские фрегаты. Три советских катера внезапно вынырнули из черной густой стены дыма и строем фронта пошли в атаку.
Командир фашистского миноносца, возможно, рассуждал так же, как в свое время шведский адмирал Эреншельд, который думал одним залпом орудий фрегата потопить весь русский гребной флот. Атака катеров казалась несерьезной; подпустив их на близкое расстояние, миноносец дал залп.
«Морские охотники» ускользнули от снарядов, упорно сближаясь с противником. Когда до миноносца и канонерских лодок было уже совсем близко, командир дивизиона взмахнул рукой, и «Двести тридцать девятый», а за ним и остальные «охотники» открыли огонь из своих малокалиберных пушек. Они стреляли в упор по палубам, по мостикам.
Конечно, снарядом катерной пушки не повредишь серьезно даже старый, допотопный миноносец или канонерскую лодку. Но людям на любом корабле опасны осколки и пули.
Когда на палубах канонерских лодок упали первые убитые, пренебрежение к огню «морских охотников» исчезло. Катера находились в мертвой зоне, неуязвимые для пушек крупного калибра. Тогда фашисты навели на катера жерла зениток и спаренные пулеметы.
Море покрылось фонтанами и фонтанчиками. Зеленые смерчи, белые обвалы пены, бурые пороховые дымы, черные клочья дымовой завесы, разорванной порывами ветра и гонимой на корабли; треск дерева, скрежет искореженного металла, частая дробь скорострелок, надрывные голоса пушчонок, которым так сейчас не хватало басовитой солидности и мощи; посвист осколков и звенящий вой катерных моторов – все это создавало картину большого сражения, а сражались между тем против миноносца и двух канонерских лодок только три катера из гангутской «эскадры Полегаева». Катера юлили, вертелись, беспрерывно вели огонь, умело используя свою маневренность.
Снаряд разрушил на «Двести тридцать девятом» кают-компанию. В пробоины ворвалась вода. Корма катера быстро осела, и Терещенко почувствовал, что кораблик, всегда послушный его руке, выходит из повиновения.
К борту подошел другой катер – он прибыл из бухты Пограничной; на него перебрались Полегаев и Лежепеков, чтобы руководить боем. А Терещенко занялся спасением своего корабля. Ему не пришлось указывать, где сейчас место того или другого матроса. Каждый знал свое место и свои обязанности.
В кормовом отсеке работала большая часть команды. Завели пластырь. Откачали воду. Катер болтался на волне, не стреляя.
К катеру повернула канонерская лодка.
Чего стоило ей раздавить эту побитую скорлупу – один удар форштевнем!
– Нахимовцев хотят потопить! – Голос Терещенко, все утро глухой, подчеркнуто солидный, наконец зазвучал молодо, с веселой силой, какая всегда наполняла его в минуту опасности. – К орудиям!
Но другой командир повел свой катер наперерез канонерской лодке, готовый сам лечь под ее форштевень, чтобы спасти товарища. И канонерка изменила курс.
А катер Терещенко вел огонь. Катер Терещенко жил. Он потерял маневренность и быстроходность, но пушки остались в строю. Комендоры, мокрые от захлестывающих палубу волн, работали так отчаянно, что из трюмов едва поспевали подавать снаряды. Механики у моторов глохли от грохота. А в кают-компании все еще откачивали воду. Пронесли первых раненых. Осколками убило прислугу носового орудия. На две пушки остался один комендор – с кормы. Терещенко приказал ему командовать обеими пушками. Комендор перебегал от пушки к пушке и стрелял.
На мостике стало просторно. Штурвал был в крепких руках Андрея Паршина – первого среди рулевых. А его друг Саша Саломатин стоял на рубке, оберегая в бою корабельный флаг.
Терещенко не сразу заметил, что его ранило. Осколок угодил в руку, пониже плеча. По рукаву клеенчатого дождевика стекала кровь. Терещенко вытер рукавом мокрый лоб, и тотчас Андрей Паршин испуганно крикнул:
– Саша! Командир ранен!
Саломатин оглянулся, увидел потеки крови на лице командира, спрыгнул с рубки, на ходу разорвал индивидуальный пакет и длинными руками потянулся к лицу Терещенко.
– Да нет. Рука…
Саломатин рванул пробитый рукав, клеенка раздалась с сухим треском. Саломатин обнажил рану и тугим жгутом перехватил руку Терещенко.
В этот миг смолкли оба орудия. Терещенко взглянул на корму – на корме пусто. Возле рубки у борта ничком лежал комендор.
– Оставьте! – Терещенко вырвал из рук Саломатина бинт. – Вызовите из машины заменяющих. И проверьте, как там латаются в кают-компании…
Саломатин в три прыжка достиг люка кают-компании и скрылся в нем. А Терещенко наспех замотал руку бинтом и окликнул комендора. Тот, раненный в ногу, ухватился за леер, подтянулся на руках и встал.
Он сделал только два шага и опустился на командирский трапик.
– Сможете себя перевязать? – склонился к нему Терещенко, левой рукой протягивая индивидуальный пакет.
– Мне уже полегчало, товарищ командир, – вяло произнес комендор, взял пакет, разорвал его, засучил правую штанину, но перевязать не смог – потемнело в глазах, когда нагнулся.
– Погодите, Саломатин поможет…
Саломатин бежал с кормы.
– Заделали пробоину, товарищ командир.
– Молодцы! – Лицо Терещенко просияло. Он звонко и протяжно выкрикнул: – Нахимовцы! По ко-о-о-ням!..
Даже комендор встрепенулся и поднял голову, с решимостью глядя на Терещенко.
– Перевяжите его и помогите вести огонь.
– Командуй, – сказал Саломатин, перевязав комендору рану. – Там еще Кузнецов у носового.
– Становись к кормовому, – приказал комендор, ковыляя к своему орудию.
У орудий снова стояли мотористы и с ними Саломатин. Первый же выстрел вернул комендору силы. Держась за леер, он прыгал на одной ноге от орудия к орудию, руководил огнем и ко всему еще шутил, подбадривал помощников.
– Веселей поворачивайтесь! – кричал он мотористам, прыжками приближаясь к орудию. – Это вам не у дросселей стоять. Саломатин, голову спрячь – отшибут…
Над головой прогудел снаряд, он окутал, канонерскую лодку черным дымом. Комендор удивленно оглянулся: таких у катеров не было. Сообразив, что это снаряд береговой артиллерии, он воспрянул духом.
– Видали, братки, бога войны! Огонь!..
На миноносце, на канонерской лодке что-то горело. Каждому из комендоров на катерах хотелось верить, что эти поражения врагу нанесла именно его пушка.
Время шло, а утро все еще оставалось серым, будто и не рассвело до конца, и тяжелые облака спустились так низко, словно они причалили к корабельным мачтам.
И все же Терещенко с надеждой поглядывал на небо, в сторону Ханко – не появятся ли оттуда самолеты. Самолеты появились – и наши и немецкие. Где-то над облаками шел воздушный бой. Из облаков вывалились наши морские бомбардировщики; они бомбили миноносец, и Терещенко видел, как тот зарылся носом в море. А под облаками кружила «чайка» – это Белоус направлял огонь Утиного мыса по канонерской лодке; она уходила, раненная. Третий корабль удирал, преследуемый нашими самолетами и катерами.
Бой уходил все дальше от Бенгтшера. Катера повернули назад, предоставив самолетам преследование противника. Все, кто был на палубах, смотрели теперь на Бенгтшер, возле которого маячил «Двести тридцать восьмой».
Так и не дождавшись красной ракеты, «Двести тридцать восьмой» медленно шел вдоль острова; он приближался к разрушенному маяку.
Саломатин снова стоял на рубке, не отнимая бинокля от глаз. Он различил у подножия маяка тела убитых, а на берегу солдат: они махали фуражками, подзывая «Двести тридцать восьмой».
– Наши, товарищ командир!
Терещенко левой рукой схватил бинокль. «Наши?..»
«Двести тридцать восьмой» подходил к маяку.
– Назад! – страшно закричал Саломатин, будто на «Двести тридцать восьмом» его могли услышать. – Ошибка, товарищ командир!.. Эх… ловушка…
Его голос звучал так виновато, словно это он подвел «Двести тридцать восьмой» под огонь.
Финны, переодетые в нашу форму, в упор расстреляли катер. Он медленно тонул. От берега к нему спешила финская шлюпка.
Но катер не сдался врагу.
Те, кто еще остался на нем в живых, повели тонущий корабль в сторону, на минное поле. Там, не спуская флага, катер затонул.
С палуб других «охотников» видели, как взорвался «Двести тридцать восьмой» и скрылся под водой, не став добычей врага.
В тумане утра корабли приспустили флаги.
Катера возвращались в базу. У одного пластырь закрывал пробоину на борту. У другого поредела команда. У третьего накренилась мачта, но флаг на гафеле развевался гордо.
«Двести тридцать девятый», который в бою был головным, едва поспевал сейчас последним.
С головного катера Полегаев запросил лейтенанта Терещенко:
– Нужна ли помощь?
Терещенко, все так же прижимая левой рукой правую на перевязи, повернулся, бросил быстрый взгляд в ту сторону, куда уходили вражеские корабли. Миноносец уже скрылся под водой. А та канонерская лодка, которая недавно грозила раздавить форштевнем катер Терещенко, теперь беспомощно плелась на буксире у другой лодки.
И Терещенко ответил:
– Дойду сам.
Глава одиннадцатая
Трудные дни
Расскин проснулся поздно. Он вскочил, глянул на часы – уже было утро. Удивленный и рассерженный проступком вестового, он вышел из каютки, наткнулся на опешившего часового – тот не знал, как быть: выпускать комиссара или нет.
Сообразив, в чем дело, Расскин громко позвал:
– Сергей Иванович, выручай…
Серое, осунувшееся лицо Кабанова поразило Расскина. Кабанов затянул его в каюту, сел на кровать возле маленького столика, расстегнул ворот кителя, словно освобождая себя от давящей тяжести, сложил на столе огромные руки – ладонь в ладонь – и, ничего не сказав, отвернулся.
– Плохо на Бенгтшере? – встревожился Расскин.
– Плохо. Маяк взорвали, но весь отряд погиб.
– Не успели снять?
– Совпали сигналы. У нас зеленая ракета – подать взрывчатку. У них – окажите помощь. Ночью с тыла они подбросили на миноносце и канлодках десант и отрезали нашу группу от материка. Ввели в бой даже авиацию.
– Корабли ушли?
– Ушла одна канлодка. Вторую повредил Кобец. Вряд ли дотянет до берега. Но миноносец потоплен. Два самолета сбито. Нет, не два, а три. Еще один сбил Бринько…
Кабанов словно искал утешения. Он понимал неизбежность потерь, но всегда болезненно переживал их.
– Увлеклись мы баталиями, Сергей Иванович. Я сам виноват, горячусь. Надо нам всю работу просмотреть с этой точки зрения. Все подчинить главной цели.
– После об этом поговорим, – махнул рукой Кабанов. – Наверху тебя ждут. – И словно выдавил из себя: – Погиб Антоненко.
– Сбит?
Расскин, не выслушав ответа, выбежал наверх, где у выхода из скалы сидели подавленные горем Игнатьев и Белоус. Они рассказали ему все, что произошло.
Антоненко под утро сидел на КП и писал письмо жене и сыну. «Ты, поди, уже беспокоишься за своего Лешу, – писал он. – Пока преждевременно. Будь уверена во мне, как в себе. Ты вовремя уехала с Ханко. Что творилось, когда начался артобстрел, тебе трудно вообразить. Семьи укрывались в подвале, где хранились наши дрова. Теперь всех вывезли под Ленинград. К вам мне не попасть до конца войны. А когда она кончится, сказать трудно. Можно лишь сказать, что война большая и жестокая. Виленька, чувствуй себя спокойнее. Вся твоя помощь в моей работе, не легкой, – это одно: береги себя, сына и в своем сердце меня. Это мое желание. А если что случится со мною, ни ты, ни сын не будете за меня стыдиться, а лишь гордиться. Вот и вчера досталось четырем фашистам от меня. На дне морском доживают свой век».
В шесть часов утра в тумане над морем появился «юнкерс-88». Он шел курсом на аэродром. Антоненко все еще находился на командном пункте, и Бринько взлетел один. Впервые Антоненко отстал от товарища.
Бросаясь к груженной щебнем полуторке коменданта, Антоненко крикнул:
– Успею!
– Не успеешь, он уже прошел! – кричали ему вслед, но Антоненко уже вскочил в кузов грузовика и барабанил по кабине шофера:
– Скорее, Ваня, скорей!
Он взлетел, как всегда, быстро, не надев шлема и не привязываясь. Но в ту минуту, когда Антоненко набирал высоту, Бринько уже сбил «юнкерс» над самым командным пунктом и садился на аэродром.
Туман густо окутал аэродром в это печальное утро. На посадочной полосе горели костры. Антоненко привык садиться при любой видимости. Но упал снаряд, и на полосе, перед самым самолетом, внезапно возникла воронка. Самолет еле перескочил через яму. Антоненко, непривязанного, выбросило из кабины.
Удар головой о пень был для Антоненко смертельным. Он умер на руках у Григория Беды, и его последними словами были:
– Мало… Мало сбил…
За сорок дней войны Антоненко сбил шестнадцать самолетов. В трех войнах – на Халхин-Голе, на финской и, наконец, за этот месяц на Балтике – Антоненко не знал ни одного поражения. У Антоненко летчики учились тактике молниеносного воздушного боя. Никто на Ханко не оповестит заранее о противнике. Противник всегда появлялся внезапно. Минуту промедлишь – ушел, не догнать его. Единственный шанс на успех – молниеносный взлет, стремительный бой, иногда тут же, над аэродромом, или дальновидный расчет, хитрость, разгадывание маршрута врага, и тогда внезапный перехват врага на возвратных курсах. В этом он был мастером и учителем. Антоненко был смел, любил машину и хорошо знал ее. И вот погиб – по оплошности.
* * *
– Дисциплина, железная дисциплина, – выслушав летчиков, жестко, страдая от боли и сухости своих слов, произнес Расскин и поежился: какое промозглое утро, а ведь еще только начало августа…
Тело Антоненко перевезли в Дом флота.
У гроба сменялся почетный караул.
Девушки из госпиталя принесли цветы.
За стеной рвались снаряды.
Похоронили, под обстрелом, на площади Борисова. Рядом с Иваном Борисовым в братскую могилу лег его боевой друг Алексей Антоненко.
После похорон к Игнатьеву подошел Григорий Беда.
– Разрешите обратиться, товарищ комиссар? – Беда протянул Игнатьеву рапорт.
Игнатьев мельком взглянул на листок.
– К Гранину в десант? Не могу. У нас на счету каждый оружейник и моторист. А у Гранина хватает солдат и без вас.
– Я прошу, товарищ комиссар, – тихо, едва не плача, сказал Беда. – Я же охотник.
Но Игнатьев сурово сказал Беде:
– Идите на аэродром и готовьте в бой машину Антоненко. О готовности доложите мне.
* * *
Григорий Беда не находил себе места. Он замкнулся, ни с кем не разговаривал, работал с какой-то злостью, а отдыхал один, вдали от товарищей, лежа под плоскостью белокрылого «ястребка».
Этот истребитель перешел теперь в надежные и умелые руки Белоуса, еще хранившие следы ожогов. Беда знал, что Белоус летал в паре с Борисовым, он помнил, как почтительно говорил о нем Касьяныч, наконец он видел, как огорчены все в эскадрилье «чаек» тем, что их командир перешел на «ястребок».
Но Беде все теперь казалось не так: и взлетал Антоненко быстрее, и из самолета выскакивал как-то более лихо. Беда не хотел замечать никаких достоинств своего нового командира, потому что никто не мог заменить ему Антоненко.
Касьяныч от самолета не отходил. Тут же, под плоскостью, поставит патефон и говорит Беде: «Закурим, механик». Беда знал: надо заводить «Махорочку». Прослушает Касьяныч, скажет: «И верно закурить бы… Эх, отдежурим – покурим. Давай плясовую». И спляшет. Так спляшет, что от других самолетов техники сбегаются посмотреть. Обстрел, а он внимания не обращает, пока не дадут команду: самолеты в воздух или в укрытия. Любил Касьяныч поговорить с Бедой про сына. Как же это получилось – не встретились они?.. А жене сообщать – вот горе! Одна, с ребенком… Знать бы адрес, самому надо написать ей. «На моих же руках кончился…»
Беда снова и снова вспоминал последние минуты жизни Касьяныча, последний вздох. Тело стало тяжелое и тихое. Беда тряс его, тряс и кричал: «Касьяныч!.. Это я, механик…» Беде даже показалось, будто шевельнулись губы Касьяныча, будто снова повторил он: «Мало… Мало сбил». Потом подбежал Бринько, оторвал Беду от Касьяныча…
Беду не узнавали на аэродроме – совсем другой стал человек. Только Бринько подходил к нему поговорить – ведь Бринько боевой друг Касьяныча. Бринько ласково звал его Антоном.
Бринько собрался на другой берег залива, в Таллин, чтобы ремонтировать потрепанную в боях машину. Его предупредили, что из Таллина он, возможно, полетит в тыл за истребителями новой конструкции. Бринько сказал Беде:
– Летим, Беда, со мной?!
Он показал на бронеспинку, за которой Беда висел, когда летел через залив с Антоненко.
Но Беда отрицательно покачал головой. Нет, с Ханко – никуда. Он должен воевать здесь.
Уж кому-кому, а Бринько трудно было отказать. Беда знал, почему улетает Бринько: ему совсем тяжело теперь без Антона. Бринько сбил недавно Ивана Козлова на «чайке», у финнов «чайки» подкрадываются, обманывают, нет оповещения – привыкли тут же взлетать и бить. Семенов летел – шасси выпустил, Антон не сбил его. А Бринько своего товарища сбил. «Чаечники» не могли ему этого простить, хоть и понимали, что произошло. И он не мог себе этого простить. Озверел, лез на рожон. Антон его сдерживал, оберегал. И нет Антона.
Но Беда даже с Бринько не мог отсюда улететь. Только здесь бить их за Антона. Здесь.
Из Таллина на другой день сообщили о новом бое Бринько. На неисправном самолете он пересек залив, сел на таллинский аэродром, зарулил в указанное комендантом место и пошел в мастерские договариваться о ремонте. Он отошел от самолета десятка два шагов и услышал выстрелы зениток: «юнкерс-88»! Бринько взлетел так, как взлетали Борисов, Антоненко, – быстрее всех летчиков на аэродроме. С места он набрал высоту и одновременно вышел на курс атаки.
Это был единственный раз после гибели Антоненко, когда расправил плечи и улыбнулся Беда: Бринько сбил пятнадцатого!
Только Игнатьев знал, как помочь Беде. Он решил отпустить Беду на острова.
– Идите и бейте бандитов так, чтобы они думали, что это бьет их Касьяныч, – напутствовал Беду Игнатьев. – Но не горячитесь. Будьте хладнокровным. Тогда вы станете сильным бойцом…
* * *
Беда давно хотел летать. Он мечтал стать стрелком-радистом. Но врачебная комиссия нашла когда-то, что зрение у Беды не в порядке: левым глазом он видит хуже, чем правым. Его обидело заключение врачей. Беда вырос в сибирской тайге, с детства был приучен к охоте и даже не подозревал, что левый глаз, который он зажмуривает, когда целится и спускает курок, у него с изъяном. Пришлось подчиниться врачам. Но Беда все же выбрал себе дело по сердцу: он стал оружейником, благо еще на родине, в деревушке на берегу Томи, в своей МТС он слыл хорошим слесарем и механиком. Ему не довелось летать стрелком-радистом, но зато на земле, в тирах аэродромов, никто не мог равняться с Бедой в меткой стрельбе.
Теперь Беда надумал стать снайпером. Он начал с того, что отправился к знакомому оружейному мастеру.
Беду хорошо знали все оружейные мастера на Ханко: во-первых, он оружейник Антоненко, а во-вторых, любитель оружия и сам редкий стрелок, а таким людям оружейные мастера всегда готовы услужить.
Один мастер подобрал для Беды снайперскую винтовку с оптикой.
Мастеру жалко было расставаться с хорошим оружием. Он погладил винтовку, подержал ее в руках и вручил Беде.
– Чистая. Как стеклышко. Смотри, глубоко не руби – дерево испортишь. А зарубок чтоб был полный счет!
– Для того и беру, – сказал Беда.
Он пристрелял винтовку в тире аэродрома и с очередным пополнением прибыл в гранинский отряд. Там его назначили в гарнизон острова Кугхольм, что левее Хорсена.
Гранин, провожая на Кугхольм пополнение, увидел у Беды винтовку с оптическим прицелом.
– Снайпер? – обрадовался Гранин.