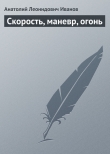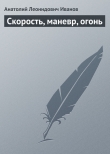Текст книги "Гангутцы"
Автор книги: Владимир Рудный
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 47 страниц)
– Смотрите, «Киров»! – подтолкнул Томилов товарищей.
Солнце било в глаза и мешало следить за крейсером. Вскоре силуэт его слился с берегом. Томилов стал смотреть на север, где должен открыться полуостров. Его товарищи говорили о будущей жизни на Ханко.
– С нами такой полководец, как Александр Гончаров, значит, не пропадем, – поддевал политрук Булыгин грузного, глубокомысленно настроенного товарища. – Все-таки тезка Суворова. Ведь Александр Суворов не проиграл ни одного сражения!
– Болтун ты, Булыгин, – сказал Гончаров, которого в академии прозвали тюленем за неповоротливость на занятиях по физкультуре.
– Бросьте переругиваться, – вмешался Томилов. – Разбросают нас по частям, будем друг друга вспоминать…
– Некогда будет и вспомнить! – горячо сказал Фомин. – Там, на Ханко, такая, брат, война – держись! Даже наш начальник курса поймет, что там за война…
– А я все-таки прямо в глаза сказанул ему про кители, – похвастал Булыгин. – Таскайся теперь с чемоданами!
– Наступать будем – брошу, – сказал Томилов. – Победим – новое сошьем.
– А все-таки хорошо, что мы попросились на Ханко, – продолжал Булыгин. – Все ребята в Таллине нам завидовали. Неделя войны, а о гангутцах уже говорят.
– К ним такое отношение, потому что Ханко на отшибе.
– Теперь не к ним, а к нам! – вставил Булыгин.
– Ты все спешишь, Булыгин, – не вытерпел Томилов. – Сперва повоюй, а потом уже называй себя гангутцем.
Он поднялся на мостик и встал рядом с Терещенко.
– Ну как, украинец? Лихо бьете фашистов?
Быстрым взглядом Терещенко ощупал Томилова и, видимо, почувствовал к нему доверие.
– Тебя куда пошлют – к береговикам или к нам, на катера?
– Куда пошлют, туда и пошлют, – рассмеялся Томилов. – Может быть, и в пехоту.
– Ну да, в пехоту! Ты разве не из плавсостава?
– А ты что? От пехоты нос воротишь?
– Пехоте сейчас достается, – серьезно сказал Терещенко. – Вся тяжесть на ее плечах. Мои братья, отец – все, наверно, в пехоте.
– Правильно ты сказал, командир. Кланяться надо солдату в ноги…
– Вот воды многие боятся. – Терещенко усмехнулся, вспомнив десантные походы в финскую войну. – Но уж за берег зацепятся – будь здоров…
Его прервал возглас сигнальщика:
– На горизонте дым! Горит за причалами в порту!
– Бомбят? – спросил Томилов.
– Саломатин! Что там за дым?
– Мазут горит, товарищ командир.
Дым над берегом стоял густой и черный, с желтизной. Где-то далеко бухнуло орудие. Свист – в стороне от катера упал снаряд.
– Боцман! Убрать всех лишних с палубы!
Терещенко глазами показал Томилову, что он может остаться на мостике.
«Двести тридцать девятый» шел мимо финского маяка на Бенгтшере. Маяк словно вымер. Но снаряды падали все ближе к катеру.
– Корректируют. – Терещенко кивнул в сторону Бенгтшера, и пулеметчик дал по маяку очередь. – Придется ходить ночью….
Порт и город обстреливала финская артиллерия. Терещенко высадил пассажиров на внешнюю стенку и ушел в бухту Густавсверна.
Поднявшись по веревочному трапу наверх, Томилов и его товарищи укрылись за развалинами какого-то пакгауза. Июльский полдень от гари и дыма стал пасмурным. Чадил мазут в подожженных снарядами цистернах. Гарью, жаром несло от города. Политруки перебежками поднимались в гору.
Томилов с каждым шагом все сильнее чувствовал, что воздух в городе накаленный, душный. Горели целые кварталы домов, в огне рвались новые снаряды.
В городе на берегу бухты матросы цепляли к мощному тягачу сваленный с пьедестала серый гранитный обелиск – памятник солдатам фон дер Гольца, душителя финской революции.
– Куда вы его тащите? – полюбопытствовал Томилов.
– Маннергейму на могилу, – сказал низенький крепыш с медалью «За отвагу» на фланелевке. – Старик еще в восемнадцатом году заказал себе надгробный памятник.
– Предусмотрительная бестия! – рассмеялся Томилов и почувствовал, как полегчало на душе: «Оказывается, можно привыкнуть и к снарядам». Он спокойнее зашагал с товарищами по горящему городу к штабу базы.
За городским парком в глубокой воронке, вырытой бомбой, спешно строили флагманский командный пункт, или, как его называли на Ханко, «фэкапэ». Воронка примыкала к громадной, шлифованной ветрами скале, отлогой и складчатой со стороны суши и крутой, обрывистой над водой. Скала, как гранитный щит, закрывала строительство от посторонних глаз, строители углубляли ее естественные морщины, превращали их в ходы сообщения… Командный пункт прятали под камень. Бетон и сталь. Но пока шла вся эта работа, пока под землей отделывали каюты для жилья, служебные комнаты и обеденный салон, штаб оставался в угловом доме против вокзала, куда каждый час падали десятки снарядов.
Расскин обрадовался новому пополнению. Вспомнились годы, проведенные в стенах Военно-политической академии, товарищи по морскому факультету, разбросанные по флотам страны, шлюпочные походы, планы, проекты, которые Расскин называл «студенческими увлечениями». К числу таких увлечений он причислял теперь и фантастическую идею о переходе на шлюпке через Атлантический океан, идею, которую он вместе с товарищами отстаивал после похода на шлюпке из Москвы в Севастополь.
– Как там в Москве? – жадно расспрашивал он политруков. – Как началась война? Народу много в военкоматах?..
Возле штаба рвались снаряды. Горел какой-то дом напротив. При каждом разрыве Томилов и его товарищи умолкали. Булыгин нервно улыбался, бледнел, косился на окно.
Томилов старался понять: бравирует Расскин или владеет собой так же, как матросы, сваливавшие под обстрелом германский обелиск? Скорее бы получить назначение в часть, к делу! Томилов вспомнил: «Тебя куда пошлют – к береговикам или на катера?» Уж лучше бы на катера.
– Был только что на аэродроме, – неторопливо рассказывал Расскин. – Летчикам труднее всего: взлетают под огнем и садятся под огнем. В автобусе возле аэродрома партийная комиссия оформляла документы вступающих в партию. В автобусе безопаснее, чем в любом доме. Летчики утверждают, что в воздухе им спокойнее, чем на земле…
– Понятное чувство, – подхватил Томилов. – Когда человек воюет, ему не страшно. А служить мишенью для врага – удовольствие маленькое.
– Надо привыкать к огню, – поняв его, усмехнулся Расскин. – Нас будут обстреливать день и ночь. Не прятаться же все время в убежище. Вот достроим новый командный пункт, поспокойнее будет беседовать с приезжающими…
– А с непривычки действительно страшновато, – признался Томилов. – Мы сошли с катера – сразу же попали в переплет. Два часа просидели на карачках за какой-то стеной.
– Боевое крещение, – вставил Булыгин, укоризненно взглянув на товарища: зачем, мол, позоришь перед бригадным комиссаром?
Расскин листал документы политруков.
– Вы все, конечно, рветесь в бой? Задерживать вас не стану. Только пока придется заняться будничными делами. Для нас сейчас главное – подготовить гарнизон к нормальной жизни под огнем.
Он прочитал документы Булыгина и спросил:
– Вы летчик?
Булыгин смутился.
– Нет. До академии служил в политотделе авиационной части.
– Жаль, что не летаете… – с досадой сказал Расскин. – Представьте себе в пехоте комиссара, который не умеет стрелять, окапываться и бить врага. Как же он в трудную минуту поведет солдат в атаку?.. Приказываю вам научиться летать, товарищ Булыгин. Пойдете на аэродром к Игнатьеву. Он научит вас летать.
Гончарова назначили в участок СНиС; Расскин сказал, что в условиях Ханко наблюдение и связь дело первостепенное. Получалось, что второстепенных дел на полуострове нет. Назначенный в газету Фомин обиженно возразил, что хотел бы попасть в действующую часть. Расскина это рассердило.
– Давайте, друзья, условимся, что на Ханко все части действующие. И не считайте меня тыловиком, если я служу в штабе базы. Редакция – самая действующая из всех частей на полуострове. Без газеты мы не можем воевать. Каждый день гарнизон получает газету с полной сводкой Советского информбюро, телеграммами из-за границы и с передовой «Правды» за предыдущее число. Разве такая боевая работа вас не удовлетворит?
– Готов выполнять ваше приказание, товарищ бригадный комиссар! – вскочил смущенный Фомин.
– Я хочу, чтобы вы не только выполняли приказание, а просились в редакцию. Вы знаете, куда на полуострове угодил первый снаряд?.. В здание газеты пехотинцев «Защитник родины». Там все сгорело: комплекты, архив. Даже шинель редактора. А теперь они переехали в лес, к переднему краю, выкопали землянки и под огнем выпускают газету.
Фомин обрадовался:
– В такую редакцию я с удовольствием пойду.
– Вы пойдете в базовую газету «Боевая вахта». Здесь внизу, в подвале. Не беспокойтесь. – Расскин заметил кислую гримасу Фомина. – Здесь тоже люди воюют. Вчера погиб наш редактор, ранило лучшего печатника. Газете трудно, нет людей, знающих дело. Будь кто-либо из вас печатником, пришлось бы поставить на эту работу, не считаясь с командирским званием. Словом, политруком роты я вас не пошлю. Все. Удовлетворены?
Фомин вздохнул:
– Есть.
А Томилов, чувствуя, что Расскин уже не в духе, теперь с тревогой ждал: «Куда он меня пошлет?»
– Вас пока оставлю при политотделе, товарищ Томилов. А потом подберу вам самое боевое место.
Томилов, расстроенный, пошел с товарищами в политотдел.
* * *
Политический отдел занимал подвал под зданием штаба. Окна-отдушины, выходившие на тротуар улиц Борисова и Вокзальной, замуровали кирпичом; вентиляция в клетушках была неважная, но подвал надежно защищал от снарядов, и, кроме политотдела, в нем разместились редакция, типография и офицерская кают-компания.
Рядом с письменными столами и книжными шкафами стояли железные койки, застланные солдатскими одеялами. Никому не пришло в голову перенести в подвал из опустевших квартир мебель. Всех устраивала скромная солдатская обстановка.
Койки чаще пустовали: политотдельцы находились в частях.
Редакция размещалась в глухой кладовой без окон. Прежде, вероятно, это было картофелехранилище; сыровато, тесновато, но чисто и прохладно. Посредине стояла «буржуйка», которую, несмотря на жаркое летнее время, приходилось протапливать, чтобы хоть немного просушить могильный воздух подвала. Тусклая электрическая лампочка питалась током от типографского движка. При этом свете корректор Карапыш, матрос из бригады траления, читал ежедневно гранки, четыре полосы очередного номера, листовки и памятки политотдела, стихи, брошюры, наставления – все, что печатала типография.
Типография ютилась рядом, за стеной. День и ночь там стучала печатная машина. Наборщики работали вручную, набирали по рукописному тексту: пишущей машинки в редакции не было.
На редакторском столе горела настольная лампа под пластмассовым абажуром – мечта Фомина. Он считал, что настольная лампа незаменимый источник вдохновения журналиста.
Редакторский стол пустовал.
Накануне у порога политотдела разорвался снаряд.
Осколки залетели в раскрытую настежь дверь типографии – как раз против входа в подвал. Ранило печатника Бориса Суворова, одного из двух бесценных гангутских печатников. К нему подбежал второй печатник, Костя Белов, щуплый, слабогрудый юноша. Суворов тихо сказал:
– Не надо… Я сам… Там проходил редактор… посмотри.
Белов выбежал из типографии. На пороге подвала лежал раненый редактор – батальонный комиссар Федор Зудинов.
Обстрел продолжался. Во двор еще залетали снаряды. Белов взял редактора на руки и понес в укрытие. Очнувшись, редактор сказал:
– Милый мальчик, как ты меня нес?.. Ведь я тяжелый…
Редактор умер от ран. Суворова увезли в госпиталь. Белов остался у машины еще на одну ночь, а потом и на день: ведь надо вовремя дать гарнизону тираж газеты и тысячи экземпляров листовок. Все в редакции работали круглосуточно – от наборщика до корректора, и Белов просто не мог и подумать об отдыхе.
В узкой каморке рядом с типографией находилась мастерская недавно приехавшего из Москвы художника Бориса Пророкова. Цинкографии на Ханко не было. Пророков набрал в разрушенных домах запас линолеума, чтобы вырезать на нем клише.
И еще один человек каждодневно решал судьбу не только газеты, но и всей политической работы. Это матрос-радист Сыроватко. Он дежурил у радиоприемника и фразу за фразой записывал важнейшие сообщения. Иногда Сыроватко прибегал в редакцию опечаленный:
– Абзаца не записал. Помешали, проклятые…
Он дежурил после этого ночь напролет в надежде, что незаписанный им абзац будет повторен. Если так случалось и ему удавалось абзац полностью записать, он радостно кричал:
– Принял, все принял!
А на следующий день солдат на самой передней линии обороны, читая свежую газету или листовку, узнавал, что делается на родине. Одного он, конечно, не ведал: того, что этим он обязан рядовому матросу-радисту Сыроватко.
Знакомясь с редакцией, Фомин уже покорился участи тылового, как он считал, работника. Новым редактором назначили работника политотдела Аркадия Эдельштейна.
В аппарате не было ответственного секретаря и разъездного корреспондента. Фомин до академии работал разъездным корреспондентом в московской газете; на это он рассчитывал и сейчас.
Политруки прошли к заместителю Расскина – полковому комиссару Власову. Он уже успел переговорить с Расскиным, но и виду не подал.
– Михаил Фомин! – воскликнул Власов. – Как же, читал, читал когда-то. «Мих. Фомин», если не ошибаюсь, вы подписывались? Ну вот и отлично: есть чем порадовать редактора – настоящий ответственный секретарь для газеты…
Зная, что эта должность связана с сидением в типографии или за редакционным столом, Фомин побледнел.
– Значит, на фронт не попаду?
– Не попадешь! – подтвердил Власов. Но тут же смягчился: – Ну ладно, возьму тебя сегодня с собой. На остров Куэн. Вручать партийные билеты.
Томилов подумал: «Вот и Фомин сразу же попадает в часть. А я куда?»
– Гранаты у тебя есть? – неожиданно спросил его Власов.
– В академии не выдавали, – смутился Томилов. – Пистолет есть…
– Мало ли что в академии не выдавали! А вот на Ханко дадим. У нас все политотдельцы вооружены гранатами. Засиживаться здесь не позволю. А на передовой без гранаты ты не боец. Главное – чтоб был личный пример. Чтобы боец знал, кто такой политический работник. Политический работник – самый бесстрашный на полуострове человек!..
Заметив, как блеснули глаза Томилова, Власов усмехнулся:
– Ну, не горячись. На передовую все равно пока не пошлю. Иди-ка в городской парк на зенитную батарею и покажи им вот эту штуковину. – Власов протянул Томилову кусок металла. – Знаешь, что это такое?
– Обломок самолета, – догадался Томилов.
– То-то, обломок самолета… Это броня, броня «юнкерса». Антоненко прислал, ас Балтики. Не от какого-нибудь самолета, учти, а от лично им сбитого! А зенитчики стреляют из пушек по воробьям. Не могут прошибить немецкую броню. Вот и объясни им, что не так страшен черт, как его малюют. Уж больно мирно эти зенитчики живут. Надо ожесточить их, подстегнуть. Чтобы, как увидят в воздухе самолет, вскакивали, будто одно место им горчицей смазали. Понял, как у нас на Ханко надо работать?
«Понял, понял, – с улыбкой думал Томилов. – Любо будет с тобой работать. Хоть и продраишь, так с пользой».
Власов участливо посмотрел на политруков.
– Как же вы, други мои, найдете свои войска? На Ханко вы впервые. Отдохнуть мы вам еще не дали… Ну хорошо. Через полчаса всех развезу по местам. А сейчас кто хочет отдыхать – за мной. Прослушаем, что приготовила наша актерская бригада.
Выйдя вслед за Власовым во двор, политруки не сразу поняли, в чем дело.
Вдоль стен, в воротах сарая, на ступеньках высокой пожарной лестницы – всюду, где можно было сидеть или стоять, пристроились матросы, солдаты, официантки, повара, какие-то люди в штатском.
Посреди двора разостлали громадный ковер. Два аккордеониста в матросских форменках аккомпанировали певице в пышном белом платье. Она пела:
Я вам пишу, чего же боле?..
Политотдел слушал репертуар актерской бригады Дома флота. Певицу сменили скрипач, клоун, акробат.
Когда на эту своеобразную эстраду вышел матрос, исполнитель песенки Максима из кинофильма «Юность Максима», начался очередной артиллерийский налет. Где-то бухали орудия, высвистывали снаряды – «входящие» и «исходящие».
Певец запел:
Крутится, вертится шар голубой… —
и невольно присел.
Впрочем, присели все, кто стоял: снаряд со свистом пролетел над головами в порт.
Певец выпрямился и продолжал:
Крутится, вертится над головой…
Снова снаряд. Но и он шел по другому адресу.
Крутится, вертится, хочет упасть…
– Ну, дьяволы, хорошо придумали! – хохотали зрители этого необычного концерта, отлично, впрочем, понимая, что это совпадение чисто случайное.
Власов одобрил:
– Так держать! Это будет наш коронный номер. Всюду исполняйте в той же режиссерской разработке. Что касается артиллерийского сопровождения, можете не беспокоиться, отказа в нем не будет…
Глава пятая
Всюду фронт
Политотдельский автобус, рыча, взвизгивая на ухабах и лавируя между воронками, мчался по дымному городу.
Томилов, сидя рядом с Власовым, слышал, как тот сказал шоферу:
– Не гони. Все снаряды не обгонишь…
Томилов сразу вспомнил все переживания дня – от первого снаряда на подходах к Ханко до только что прослушанного концерта во дворе политотдела – и понял, что деление на фронт и тыл для Ханко звучит нелепо. Да и не только для Ханко. Вот он едет в действующую часть, к бойцам, на которых там, на материке, смотрят с истинным преклонением; а ведь весь путь от столицы до гангутских скал – это путь через передовую, по настоящему фронту, и все советские люди, которых он встретил за минувшие дни, – это фронтовики.
– Здесь тебе слезать, Томилов. – Власов остановил машину возле парка. – На островочке у бывшей дачи Маннергейма батарея. Главное – внуши им: фронт не курорт. На фронте надо воевать. Пока нет сбитых самолетов – нет войны. Собьете первый самолет – пошлю тебя к Гранину… Не слыхал? Ну так услышишь, бойцы расскажут. А мы забросим товарищей и двинем с Фоминым к катеру. На Куэн. Пусть посмотрит, как у нас краснофлотец получает партийный документ. Э!.. Смотри, смотри! Что за красавица такая?
К машине бежала Катя – в синей юбке, в матроске, в синем берете, из-под которого торчала белая ленточка; две косы толстым жгутом лежали на ее голове.
– Не к аэродрому, товарищи? – кричала Катя, боясь, что автобус уйдет без нее.
– А ты что здесь делаешь, стрекоза-егоза? – набросился на нее Власов. – Почему отец не отправил тебя в тыл? Ох, нагорит ему, что не бережет красавицу с такими косами.
– Здравствуйте, товарищ полковой комиссар! – официально и независимо поздоровалась Катя. – Разрешите с вами следовать до аэродрома. Имею увольнительную из госпиталя на сутки.
– Вон как – увольнительную! Вы уже служите, Екатерина Леонидовна? В каком же вы, позвольте полюбопытствовать, звании?
– Пока вольнонаемная, – покраснела Катя. – Учусь на курсах медсестер.
– Ну-ну, садись, подвезем, – вздохнул Власов. – Политрук Булыгин тоже у аэродрома сойдет. Проводит. Чтобы в целости доставить! – рассердился он вдруг на Булыгина, повернулся к шоферу и крикнул: – Ну, чего дожидаешься? Снаряда? Погоняй, погоняй, погоняй! Не молоко везем…
Вдогонку высвистывал очередной финский снаряд.
Сойдя с политотдельского автобуса, Томилов зашагал по парку к зенитчикам. Его остановил низенький крепыш, назвался комендором Богдановым с зенитной батареи и сипловато спросил:
– Вы из политотдела?
– Из политотдела.
– Приказано встретить и проводить к командиру.
Томилов шел за комендором, искоса на него поглядывая: знакомое лицо. И медаль на фланелевке та же.
– С могилой барона справились? – Томилов вспомнил, где он видел этого крепыша.
Богданыч удивленно на него посмотрел, тоже узнал, в глазах блеснул и спрятался смешок.
– Ах, это вы, товарищ старший политрук, тогда мимо торопились?
– С непривычки заторопишься.
– А мы плиту эту, гранитную, на дот сволокли.
– Что ж львов оставили?
– Нельзя: львы британские. Да и толку от них…
– Все равно им компанию расстроили: охранять-то теперь им некого!
– Они теперь вроде враги. Вроде воюют.
Томилов засмеялся:
– А вы вроде дипломат?
– Вроде, – и Богданыч засмеялся.
– Медаль у вас за финскую? – спросил Томилов.
Богданыч подтвердил.
– Самолет сбили?
– Нет, я тогда зенитчиком не был. В разведке получил, в отряде Гранина.
– А-а… – протянул Томилов, и Богданычу послышалось в этом возгласе разочарование.
Богданыч спросил:
– Верно, слух идет, что Гранин снова собирает десант?
– Ловили бы вы лучше не слухи, а самолеты! – Томилова раздражало это бесконечное упоминание о незнакомом Гранине. Но тут же он пожалел: за что, собственно, он оборвал комендора? Разве он сам не мечтал о десанте? Томилов поправился: – Будет десант, вам первому сообщу. А до меня вот дошли слухи, что зенитчиков мимометчиками называют. Верно это?
Богданыч обиделся:
– Зенитчики сбивают не меньше летчиков.
– Сколько же ваша батарея сбила?
– «Бристоль-бленхейм» сбили. Бомбардировщик такой, английский.
– И все?
– «Юнкерсов» гоняем.
– Гонять или сбить – разница!
– А попробуй сбей его. Тут один «И-16» за ним гонялся – и пропал. Не вернулся на аэродром. Каждую ночь этот «юнкерс» приходит. Пробомбит и уходит.
– Заговоренный?
– Бронированный, – хмуро ответил Богданыч. – Не верят бойцы, что можно сбить. У него броня, говорят, с бревно толщиной. Стреляешь, так кажется, что снаряды отскакивают.
– И вам кажется?
Богданыч молчал. Томилов достал из кармана кусок брони.
– Видали?.. С «юнкерса». Сбил над Наргеном летчик Антоненко.
Богданыч недоверчиво разглядывал, вертел, щупал обломок. Казалось, сейчас попробует на зуб.
– Тонкая… Каждому бы пощупать… Разрешите, покажу бойцам?
– Только верните. Не потеряйте.
– Что вы, не потеряю. – Богданыч спрятал обломок брони в карман и сказал: – Народ у нас молодой, необстрелянный. Еще не понимаем своей силы…
Он произнес это между прочим, но Томилов почувствовал, что Богданычу надо поговорить с ним по душам. Только подхода ищет – как начать. А Томилов будто не хочет помочь: пусть сам начнет, пусть сам себе дорогу пробивает – так будет лучше.
Богданыч спросил, нет ли в политическом отделе специальных разъяснений о ходе войны.
– Специальных нет, – усмехнулся Томилов.
– Может, что по радио передавали, а мы тут пропустили?
– Сводку передают каждый день.
– Да нет. Я не про то. Может, кто из правительства выступал, Сталин или Ворошилов?.. У нас тут приемника нет, а по боевой слушать не дают. Все боимся пропустить. Душой болеют люди. Молчат-молчат, а иногда и подойдут: «Богданыч, ты партийный, скажи – почему отступаем?»
Он замолчал, ожидая, что скажет Томилов.
– А ты боишься ответить прямо, как думаешь.
– Не боюсь, а сам не знаю. «Заманиваем, говорю, как заманивал Кутузов Наполеона».
– Ты так думаешь? – добивался Томилов.
Богданыч ответил не сразу.
– Когда я был мальчишкой, четырнадцать держав против нас шло, атаманы, банды, Деникин подходил к самой Туле. Мой батька с тульским рабочим полком гнал их до самого Крыма. Так то в революцию, теперешней силы у нас не было. И то гнали. А сейчас не могу понять: вторую неделю война, а немцы так далеко зашли. Почему? Мы же на их земле должны воевать!
Томилов остановился:
– Тебя из-за угла ударят – на ногах устоишь?
– Смотря какой удар.
– То-то. А мы под сильнейшим ударом устояли.
– Устояли, а почему же отходим?! Города почему отдаем, наши города? Разве нашей силы мало?..
– Сил много. Но ты вот сам говоришь, что народ на вашей батарее молодой. Силу свою еще не понял. Брони на «юнкерсе» опасается. Вот ты, коммунист, и помоги каждому в нашу силу поверить. Ты думаешь, я, старший политрук, все знаю, что на фронте происходит? Все разобрал, по полочкам разложил, да? Ошибаешься. И для меня многое непонятно. Обидно и больно слышать про успехи врага. Но самое страшное сейчас – паника. Руки опускать нельзя. Я верю, что все по-другому пойдет. Я только одно твердо знаю: есть у меня кому доверить все на свете. Наше с тобой дело – выполнять солдатский долг. Так, чтобы партия знала: дан приказ – мы с тобой умрем, а выполним. Согласен?
– Так, товарищ комиссар.
– А раз так, то и объяснять надо так. Правду говорить бойцу. Не выдумывать и не вилять. Гитлер начал, он и наступает. А цыплят еще по осени считать будем. Молотов сказал: наше дело правое, победа будет за нами. Вот и добывай каждый победу. Мы сильные, прошибем всякую броню, будь она и верно с бревно толщиной… Ну, пойдем. Мы еще с тобой встретимся и потолкуем…
Они прошли по мостику на островок к даче барона.
– Да, погоди, – вдруг вспомнил Томилов. – А самолет кто у вас сбил?
– Мой расчет сбил.
– Вот оно что! Это, конечно, хорошо, что твой расчет. Коммунист должен подавать личный пример. А другие? Говоришь, не сбивают? Много необстрелянных? Молодых? Ну ладно. Потом приду к тебе. Расскажешь, настоящий ли ты коммунист, как этим молодым помог. Хорошо?
Томилов почувствовал, что обижает Богданыча; тот, конечно, болел за успех своей батареи. Не зря он схватился за кусочек немецкой брони. «Ничего, злее будет», – подумал Томилов и простился с комендором.
* * *
Командира батареи Томилов нашел на втором этаже дачи Маннергейма. В хорошо обставленной комнате лейтенант под руководством матроса возился с гитарой.
– Обучаемся, – здороваясь, сказал он. – Никак не одолею этот цыганский инструмент.
– Шикарно живете, – заметил Томилов.
– Отдыхаем между боями, – подтвердил лейтенант. – Такое наше дело, старший политрук: ночью воюем, днем спим, вечером поем.
– Днем противник не беспокоит?
– По пляжу стреляет. Но нашу дачу не тронет. Она баронская…
– Значит, в полной безопасности?
– В полной. Для финских артиллеристов мой командный пункт – табу.
– Снаряд может и не уважить адресата.
– Эх, старший политрук… – лейтенант рассмеялся. – Ты здесь новичок и потому о снарядах разговариваешь. Мы уже к войне привыкли. Обжились.
Томилов нахмурился: развязность лейтенанта ему не понравилась. Он вспомнил: Терещенко тоже заговорил с ним, старшим по званию, на «ты». Но у Терещенко это прозвучало задушевно и даже доверительно. А тут снисходительность и высокомерие без году неделя фронтовика. «Одернуть?» Но Томилов тут же раздумал: «С этого не стоит начинать».
– А я вот все не привыкну к войне. Никак не привыкну, – усмехнулся Томилов. – Меня от каждого немецкого самолета кидает в дрожь.
– Боишься?
– Боюсь ли? – Томилов насмешливо смотрел на лейтенанта. – Вот на том берегу на станции «мессер» расстреливал толпу женщин с ребятишками, и зенитчики ему не помешали, это действительно было страшно. А тут – чего бояться, тут же дом отдыха.
Лейтенант швырнул в сторону гитару.
– Можете идти, – резко бросил он матросу. – Пусть политрук батареи придет. Скажите ему – из политотдела ждут.
Матрос выскочил из комнаты. Лейтенант захлопнул за ним дверь и повернулся к Томилову:
– Посидите тут ночь, увидите, что это за дом отдыха. Утюжат бомбами справа налево и слева направо. А я и сам с удовольствием ушел бы на фронт. В пехоту. Чтобы первые встречные не упрекали меня в безделье…
– Зря грубите, лейтенант. Разве вы не на фронте?
– Двадцать километров до передовой!
– Вот те на! А на Большой земле всех гангутцев уже авансом зачислили в герои!.. Бежать от неудач даже на передний край – невелика доблесть, – серьезно продолжал Томилов. – Давайте бросим эти разговоры, займемся делом…
В поздний час Томилов вышел подышать свежим воздухом. Почти сутки он не спал. Но сейчас, в эту первую для него боевую ночь, спать не хотелось: все бодрствовали, пора и ему переходить на новый режим.
Светила луна. По узкой тропинке Томилов поднялся на длинную скалу, нависшую над пляжем, как корабельный «выстрел» над морем. Он вспомнил, что еще не успел разглядеть, какое здесь море, не видел побережья. Сутки пронеслись быстро, но он уже на месте, в воюющей части. С чего начать? Как ко всему подойти? И имел ли он уже право так строго разговаривать с фронтовиками?.. Чушь! Восторженность, с какой он смотрел на каждого человека войны, когда был на пути к Ханко, прошла. Пора самому становиться фронтовиком.
Он думал о людях, с которыми успел познакомиться, о Богданыче, о командире батареи – беспечном лейтенанте. Когда Томилов заикнулся об учении по отражению десанта, лейтенант поднял его на смех. «Какое, говорит, учение, когда идет настоящая война!..» А разве в войну учеба отменяется? Разве люди и сейчас не должны обучать друг друга, делиться опытом, знаниями, указывать на ошибки? Разве для него, Томилова, за порогом академии кончилась учеба? Нет, вот здесь и начинается настоящая учеба, здесь и завершит он свой академический курс… Томилов не считал, что он должен показать себя на батарее начальствующим лицом и учинять проверки и разносы. Когда он в раздражении бросил лейтенанту: «Займемся делом», он имел в виду именно дело, а не болтовню и не обследование. Он не стал попрекать политрука батареи за то, что тот плохо работает, хотя знакомство с Богданычем убедило его, что политрук не умеет разговаривать по душам с людьми. А какой же он тогда политрук, если он не способен разъяснить бойцу суть происходящего, политику государства!
Томилов был убежден, что сейчас главное – это помочь людям познать свою силу, поверить в себя, тогда они легко преодолеют подавленность, вызываемую горькими, недобрыми вестями с фронтов. Врать нельзя, нельзя приукрашивать, нельзя искать ложные оправдания и объяснения тому, что оправдать и объяснить нелегко. Надо говорить правду, а самая большая, самая великая правда в том, что врага мы все равно разобьем, – иначе нет нам жизни на земле. Вот эту убежденность, твердую, железную, люди должны чувствовать в каждом слове и политрука к командира, и даже не в слове, а в каждом поступке. Да, именно в поступках – в порядке прежде всего, в подтянутости, в строгом отношении к себе… Томилов понял теперь, почему он так взъелся на лейтенанта за его возню с гитарой: он почуял в этом признак какой-то бесшабашности, почти расхлябанности, столь опасной в тяжелые для родины дни, когда надо каждому собрать все, что есть в тебе живого, чтобы одолеть беду.
«А лейтенант все-таки послушался, – с удовлетворением подумал Томилов. – На утро назначено учение по отражению десанта…»
Томилов прислушался. Рядом находилась орудийная позиция, и оттуда донеслись голоса. Выделялся сипловатый голос Богданыча:
– Всю артиллерию позорим! Прозвали нас на Ханко мимометчиками. А все из-за чего! Из-за этого «юнкерса». По нашей милости он безнаказанно две бомбы в пирс всадил! Подумаешь, броня! Антоненко эту броню пулеметами расколотил. Специальным человеком прислал нам образец. Вот: наглядное пособие для маловеров. Видите – жестянка. А у нас орудия, калибр!.. Чтобы ты у меня мух не ловил, когда «юнкерс» снова загудит! Бери его в перекрестье и режь!