Стихотворения и поэмы
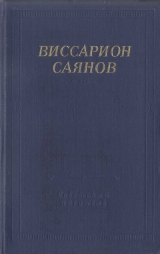
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Виссарион Саянов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
54. «Если нам суждено разлучиться…»
Если нам суждено разлучиться,
Я уйду на далекий Эльтон.
На заре перелетная птица,
Горбясь, мне просвистит о былом.
С первой зорькой пройдут деревеньки,
Где слепцы костылями стучат,
Старики давней песней о Стеньке
Там своих забавляют внучат.
Есть далекие заводи, тони,
Соляные дымят промысла,
В ломовые пласты на Эльтоне
Вся судьба молодая вросла.
Снова день закружил по болотам,
Лисий след за оврагом глухим,
От костров соколиной охоты
Подымается медленно дым.
Значит, надо, чтоб давнее было,
Чтоб разлука мучительно жгла,
Чтоб любовь наше сердце томила
И по тихому склону вела.
Пусть любовь отойдет, но старинной
Нашей дружбы забыть не смогу,
Часто снится мне город былинный,
Соколиный полет на лугу.
1930, 1937
55. «Так тихомолком, ни шатко ни валко…»
Так тихомолком, ни шатко ни валко,
Сонные сумерки встретили нас.
Тихо летит осторожная галка
В этот сквозной завороженный час.
Старого друга седеющий волос.
В темных лесах притаился посад.
Ветер – и с петель срывается волость,
Сумрак – и жалобно шурхает сад.
В севернорусском дорожном просторе
Тихая есть пред рассветом пора:
Что б ни томило – разлука иль горе, —
Всё позабудешь при свете костра.
1930, 1937
56. «Только с севера коршун сердитый…»
Только с севера коршун сердитый
Пролетит, нестерпимо дыша,
Снова в дом на реке позабытой
За тобой улетает душа.
Там раскольничьи бороды вьются,
Там нехоженых троп колея,
Расписного заморского блюдца
В пятерне остывают края.
По морям отходили поморы,
Отшумела по сходням вода,
Ты вела через степи и горы
Все мои молодые года.
Ночь пройдет, шелестя переправами,
Задыхаясь над каждым ручьем
От любовной немыслимой зауми,
Тихо дрогнувшей в горле моем.
Вот борта на высоком причале,
Мимолетный твой взгляд на мосту…
Ведь вчера еще чайки кричали,
Меркли скаты в далеком скиту, —
Но шумит золотая прохлада,
И вдали, за речной синевой,
Там, где стынет ночная громада,
Снова голос мне слышится твой.
1930, 1937
57. «На юге, среди гор, я заприметил вдруг…»
На юге, среди гор, я заприметил вдруг
Дрёму – кукушкин цвет. И сразу вспомнил луг
На севере, убогий хвойный лес,
Негромкий ручеек, рощицы навес,
Березку белую, в зазубринах полос,
Плетень убогий, тихий-тихий плес,
Сад белой ночи с призрачной луной, —
И милое лицо мелькнуло предо мной.
Так шел я по горам, а мне навстречу брел
По срезанной тропе медлительный орел.
Мы молча разошлись, и взгляд его упорный
Скользил, неумолим, над светлой кручей горной.
Он крикнул, полетел, и света полоса,
Немея, обожгла беззвучные леса.
Орлиный темный горб тонул в дыму заката…
Не так ли я опять ищу к тебе возврата?
1930
58. «Старый сон мою пытает душу…»
Старый сон мою пытает душу,
Ночь в саду сырою вешкой бьет, —
Спят просторы ста морей, и суша,
И тяжелый стан озерных вод.
Жизнь идет – и всё уносят годы,
Тяготят и тихо старят сны.
Полые, взметнувшиеся воды,
Дни моей неведомой весны.
Только разве памяти не стало
Помянуть минувшее добром?
Молния мне сердце рассекала,
И катил ко мне лафеты гром.
На полянах поднимались травы,
Судорогой сердце мне свело.
По степям форштадты и заставы
Небывалым снегом замело.
А от снега волосы седеют,
Редечка-ломтиха не горька,
Облака пролетные желтеют,
Как разводы твоего платка.
1931
59. «Искатели таинственных цветов…»
Искатели таинственных цветов,
Не вписанных в тома энциклопедий,
Во снах мы видим чашечки из меди,
Тычинки из литого серебра,
Ночных цветов зазубренные тени.
Мы видим сны, и сотни поездов,
Товаро-пассажирских и почтовых,
Всегда служить ботанике готовых,
Спешат к лесам, где бурые медведи,
К озерам, где разрезана жара
Грудными плавниками осетра,
Где волны моют белые ступени.
А жизнь пройдет по сотням переправ,
По мхам болот и по распутьям сопок,
Чтоб из безвестных человеку трав
Могли родиться каучук и хлопок.
1931
60. «Ты в светлые воды в то утро смотрелась…»
Ты в светлые воды в то утро смотрелась,
Сквозным отражением плыли леса,
И пламенем черным заря разгорелась,
И горькая сразу легла полоса.
Пусть годы проходят, – спокойная зрелость
Уже заглянула, туманясь, в глаза.
Пора расставанья – в холодной невзгоде,
В минуту последнюю только взглянуть
На лодку, что пляшет в родном ледоходе,
На пламя костра и на брошенный путь, —
Как лебедь на взлете, шумит половодье,
И тлеет в разводьях зеленая муть.
Услышать твой голос – на брошенных пожнях,
На злом ледоплаве, в разливе зари,—
Предвестьем разлуки и странствий тревожных
Недаром казалось мне время любви.
Неужто в горах, на распутьях дорожных
Померкнут печальные звезды твои?
Сады расцветут, – от трезвона черемух
Проснется до света твоя сторона,
Но встретит меня дымных гор окоёмок, —
И там в половодье шумит тишина,
И там, по названьям цветов незнакомых,
Узна́ю безвестных друзей имена.
Так! Быть однолюбом, не помнить невзгоды,
В заветную пору, в медвяных краях
Увидеть высот заповедные своды,
Окликнуть тебя – и услышать в горах,
Как ты отзовешься сквозь версты и годы —
Любовь, победившая горе и страх!
1932
61. «В цветах запоздалых нескошенный луг…»
В цветах запоздалых нескошенный луг,
Снопы выгорают на ниве,
Ты песню печальную вспомнила вдруг,
Предсмертную песню об иве.
Загадочна песня и странно-дика,
Бегут по раздолью обрывы,
Крылом лебединым мелькнула рука
Над веткой загубленной ивы.
Ты хочешь понять ее, смысл ее,
И муки ее, и надрывы,
О, как отразилось навек бытие
В значеньи Шекспировой ивы!
Ведь ветка прообразом жизни была
В ее нескончаемой силе,
И вот почему так печально-светла
Прощальная песня об иве.
Ведь ива от веку считалась людьми
Живучей, упорной, счастливой, —
И вот почему так рыдала, пойми:
Ведь с жизнью прощалась, не с ивой…
1932
62. «Как ты в жизнь входила?..»
Как ты в жизнь входила?
Весело? Легко?
Иль тоска бродила
Где-то глубоко?
Или просто – в светлом
Платьице своем
Шла ты вместе с ветром,
С песней о родном,
С зорькой золотою
На большой реке,
С ивовой простою
Веткою в руке?
1932
63. «Мы в зеркало ручья глядимся…»
Мы в зеркало ручья глядимся.
Вдали зарницы на лугу.
Лишь в целостном его единстве
Я облик полдня сберегу.
Он здесь во всем – в очарованье
Лесов и скошенных полей,
И в чистом, медленном дыханье
Суровой спутницы моей,
И в том стихе, что будет сложен, —
И он в единстве том живет —
Как это зарево тревожен
И светел светом этих вод.
1932
64. «Я жалобу всегда скрывал…»
Я жалобу всегда скрывал —
Мужское, властное начало
Мне вслух грустить не позволяло,
И, стиснув зубы, я страдал.
Так почему ж сейчас слеза
Какой-то странною напастью
От полноты земного счастья
Туманит медленно глаза?
1932
65. «Ты светла, словно солнцем ты вымылась…»
Ты светла, словно солнцем ты вымылась,
Где пройдешь – словно теплится свет.
Тонкой веткой дорожная жимолость
На заре тебе машет вослед.
1932
66. «Ты спросила меня, как зовется…»
Ты спросила меня, как зовется
Та звезда, – я не помнил, не знал,
Я в наплыве небесного воска
Глубь зрачков твоих ясных искал.
Знаю, там, в высоте, за оленем
Проскакал беспощадный стрелок.
Если б я неизбежным веленьем
В высоту сразу ринуться б смог,
Ты звезде мое имя дала бы,
До утра выходила смотреть
Над обрывом, где финские лайбы
Тянут к берегу редкую сеть.
И тогда не страшила б разлука,
Не томил наступающий день, —
Может, всё мое счастье, вся мука —
Этот скачущий звездный олень.
1932
67. ДУБ
Грозой расколот дуб огромный,
Она прошла, испепеля
Весь край той ветки, темной-темной,
Чуть ноздреватой, как земля.
Остался след в долине этой
Мелькнувшей молнии былой,
И пахнет воздух разогретый
Прогорклой северной смолой.
А где же молния? Сияньем
Уже вдали слепит она…
Пусть ты ушла, – а всё дыханьем
Твоим душа обожжена.
1932
68. «Море разделившая зарница…»
Море разделившая зарница
Зажигает реи кораблей…
Хочешь, расскажу я про синицу
Сказку самых ранних, детских дней?
Та синица за море ходила,
За морями города зажгла…
Как я ей завидовал, и сила
В этой сказке дедовской была.
«Да какая ж это вот синица?» —
Спрашивал у взрослых я не раз…
Увидал – безропотная птица,
А гляди ж, какой о ней рассказ…
1932
69. «Как темная даль беспредельна была…»
Как темная даль беспредельна была…
Вновь слышу твой медленный голос, —
Кубанская шапка с размаху легла
На русый седеющий волос.
Упрямые губы всё шепчут свое,
А сердце по морю тоскует,
По лесу, где ночью кричит воронье
И белая вьюга колдует.
Так на́чалось наше знакомство с того,
Что взводы сверкнули штыками.
На улице дымной – снегов торжество.
Высокое небо над нами.
В извозчичьи сани мы сели. Москва
Вся в оползнях зеленокрылых.
Какие тогда говорили слова —
Пожалуй, я вспомнить не в силах.
А щеки мороз одичалый дерет,
Сквозь зубы два слова процедим —
И снова в пролет Триумфальных ворот
На низеньких саночках едем.
Фофа́н с толокном да Иван с волокном,
А вьюга-разлучница пляшет…
В ту ночь непогода шумит под окном,
Широкими крыльями машет.
Последняя ночь в деревянной Москве.
Ночные луженые своды.
В коротком раструбе, как в злом рукаве,
Грустят москворецкие воды.
Нас время разводит, нас годы трясут,
Давно мы с тобою седеем,
Но диких степей молодую красу
Вовеки забыть не посмеем.
Ты был комиссаром – и вел наш отряд.
Я был ординарцем веселым.
Флажки золотые на солнце горят
По вольным станицам и селам.
1933
70–97. ЗОЛОТАЯ ОЛЁКМА
1. «Дай руку мне, пойдем со мною…»2. СТАРЫЙ ИРКУТСК
Дай руку мне, пойдем со мною
В тот вьюжный край,
Он полонил мне сердце тишиною,
И снегом зим, и свистом птичьих стай.
Там горбоносых желтобровых птиц
Эвенк охотник ждет, и на рассвете
Слепят огни бесчисленных зарниц,
И гнет пурга тяжелых кедров ветви.
Тайга бежит по белым склонам вдоль
Последних побережий,
Где по заливам высыхает соль
И где во мхах таится след медвежий.
Там сердца моего заветная отрада,
Край детских лет,
Родной страны холодная громада,
Я – твой поэт.
1933
3. ХОЗЯЕВА
На Дьячем острове боярский сын Похабов
Построил хижину, чтоб собирать ясак…
Прошли года в глухой тоске ухабов,
Века легли, как гири на весах.
Над летниками тесными бурятов
Сыченый дух да хмель болотных трав;
Сюда бежали, бросивши Саратов,
И вольный Дон, и старой веры нрав.
И город встал в пролете этом узком,
Суму снегов надевши набекрень,
И наречен он был в веках Иркутском,
Окуренный пожарами курень.
Вот он встает в туманах, перебитых
Неумолимым присвистом весны.
Немало есть фамилий именитых —
Трапезниковы, Львовы, Баснины.
Он богател. Его жирели тракты.
Делил полмира белыми дверьми,
И чай везли его подводы с Кяхты,
Обозы шли из Томска и Перми.
Он грузен стал, он стал богат, а впрочем,
Судеб возможно ль было ждать иных
От золотых и соболиных вотчин,
От ярмарок и паузков речных.
Он, словно струг, в века врезался, древний.
Рубили дом, стучали топоры,
Бродяги шли из Жилкинской деревни,
С Ерусалимской проклятой горы.
Он шлет их вдаль. Оборванные парни
Идут навстречу смерти и пурге,
Мрут от цинги в тени холодных варниц,
От пули гибнут смолоду в тайге —
Чтоб богател, чтоб наливался жиром
Купеческий, кабацкий, поторжной,
На весь немшоный край, над целым полумиром
Поставленный купцами и казной.
1933
4. РОМАНСЫ
Низко кланяясь, провожала управа,
Лошадь рванула – сойти с ума,
Налево – лабазы его, а направо —
Им же построенные дома.
А сбоку саней медленно едет,
Снегом и ветром обдавая на миг,
Весь мир, разбитый на «де́бет» и «кре́дит»,
Занесенный в рубрики бухгалтерских книг.
Купола церквей – как пробки графинов.
Зело выдыхается это вино.
Кладбище в жимолости и рябинах:
Здесь-де покоиться суждено.
Годы легли по откосам чалым,
Как козырные тузы крестей.
Души загубленных по отвалам
Изредка встанут во мгле ночей.
Души всех тех, кто погиб в юродстве
(Вниз пригибаются плечи их),
Тяжбы в старинных судах сиротских,
Торжище ярмарок площадных.
Сядет обедать – уха стерляжья.
Скучно идет с коньяком обед.
Сын-гимназист, бормоча, расскажет:
«Жил-де на севере людоед».
Покажется сразу: пельмени – уши,
Злобно мигают глаза сельдей,
В черном рассоле коптятся души
Всех позагубленных им людей.
В комнату бросится прямо с инею
И поясные поклоны бьет.
Ветер уходит в Китай да в Индию,
Неопалимой тропарь поет.
Церковь построит, на бедных тысячу,
Но не оставит сего в тиши,
Толстый бухгалтер на счетах вычислит
Цену спасенья его души.
Деньги дарит он теперь, раздобрясь.
Надобно всё ж искупить добром
Трупы шахтеров и брата образ.
(За ассигнации. Топором.)
Так бы и жил, да нежданно выплыл,
Всех сотрапёзников веселя,
Купчик из Питера – голос сиплый,
В кожаной сумочке векселя.
Месяц прошел, – прииска ему продал,
Тихо заплакал: «Что ж, володей»,
Но следом за купчиком шла порода
Совсем непонятных, чужих людей.
Никто из них не ел струганину,
Они и не знали, как водку пьют,
Когда баргузин вдруг ударит в спину
И дымный мороз невозбранно лют.
Они аккуратно носили фраки,
Души свои не трясли до дон,
Вовек никому не кричали: «враки»,
А всё по-французски: «pardon, pardon».
Их имя со страху едва лепечется,
Топырясь, идут упыри-года,
И стало подвластно им всё купечество,
Процентом напуганы города.
1933
5. В БЕГА
Есть один романс старинный.
На отверженной заре,
Ночью зимней, длинной-длинной,
Он гремел на Ангаре.
«Моего ль вы знали друга?
Он был бравый молодец,
В белых перьях штатский воин,
Первый в бале и боец».
В белых перьях ходит вьюга.
Зимний вечер хмур и тих.
Кто идет? Найду ли друга
У шлагбаумов пустых?
От него пришел гостинец,
И тоскуют на току
Сто дебелых именинниц
По Иркутску-городку.
Эти годы отступили,
Отстучали в барабан,
Колчаковцы прокатили
По Сибири шарабан.
То английский, то японский
Танец грянет на балах,
И поет правитель омский
В смуте виселиц и плах.
«Белы струги, белы перья,
Не хватает якорей,
Где дредноут твой, империя,
В глубине каких морей?»
А по Лене ходят паузки,
Бьет по отмелям весна,
В деревнях, в Тутурах, в Павловске
Не гуляют лоцмана.
Моего ль вы знали лоцмана
С красной лентой у штыка?
Вместе с ним дозоры посланы
Партизанского полка.
1933
6–7. БАЙКАЛЬСКИЕ ПРЕДАНИЯ
«В бега!» – закричали тебе снегири,
«В бега!» – громыхают на шахте бадьи,
«В бега!» – зарывается в гальку кайла,
«В бега!» – прижимается к локтю разрез,
Как ель, на костре придорожном сгори,
Хоть в дальней дороге без хлеба умри,
Послушай, что скажут ребята твои:
За прииском сразу – крутая скала,
За ней пригибается к северу лес,
Хоть из носу кровь, собирайся в поход
От этих гремящих без устали вод.
Нарядчик тебя в три погибели гнул,
Пять шкур барабанных с тебя он содрал.
Твой брат в дальнем шурфе навеки уснул,
Беги за Байкал и беги за Урал!
Глядит на тебя, не моргая, дупло,
И неясыть-филин дорогой кричит,
Уходит в тайгу отработанный штрек,
Бежит впереди он, и стало светло,
И сумрак широким крылом развело,
И прыгает белка, и коршун летит.
Тебя управляющий розгами сек,
Ты нож ему в сердце – он сразу упал,
Беги, задыхаясь, покуда живой,
Старинной, заветной, болотной тропой.
На небе сто звезд, словно сотни стрижей,
Дорожный кустарник рыжей и рыжей.
Ты счастья искал, – но к туманной стене
Приковано счастье цепями семью,
На семь завинчено крепких винтов.
Разрыв-трава и листок-размыкай
Напрасно тебе снились во сне,
Напрасно за ними ты шел по весне,
Покинув деревню и бросив семью.
Отвал отработан, ты тоже готов,
Ложись на дороге, ложись – умирай.
Дожди тебя били, слепили снега,
И кости твои обглодала цинга.
В последнюю вспомнишь минуту свою
Вашгерды, проселки, жену в шушуне,
Кушак кумачовый и шаль на груди,
И песню, которую нянчил якут,
И шаньги, которые девки пекут,
Березы и сосны в родимом краю,
Дороги, бегущей на юг, колею,
Реку при дороге, овраг при луне,
Кривые кресты на путях впереди.
Неужто всё запросто – сумрак и мгла,
И жизнь мимоходом, как шитик, прошла?
Мы едем тайгою. Валежника треск.
Век прошлый хрустит под копытом.
С твоей ли могилы разломанный крест
Нам знаменьем машет забытым?
1933
Ямская почта мимо проскакала,
Но всё, что пел ямщик, я сберегу.
Есть пегий бык на берегу Байкала,
Пасется он на синем берегу.
Есть пегий бык. Его зовут сохатый.
Большой нарост под горлом у него.
Шумит тайга. Вдали острог дощатый,
Проселок, ночь – и больше ничего.
Вдруг человека вынесло над бездной.
Минуту он стоит, оторопев.
Как глух и резок этот звон железный,
Стон кандалов, их яростный напев!
Как будто мир закрыт ветрами наглухо,
Пожаром вся земля опалена,
В тумане, будто наливное яблоко,
Едва блестит клейменая луна.
Он так стоит. Он с моря глаз не сводит,
Большие волны рушатся в дыму,
И пегий бык тогда к нему подходит,
Губой мохнатой ластится к нему.
Но дальний шум уже несется лесом,
Спешат враги на берег роковой,
И конь храпит, пригнувшись над отвесом,
Сечет в семь сабель сумерки конвой.
Мыча, подходит к берегу сохатый,
Садится беглый на спину к нему,
Прощай навек, прощай, острог проклятый, —
Они плывут, они уходят в тьму.
Они плывут, и ночь плывет, седея,
А в тихом Курске свищет соловей,
Руками машет теплыми Расея,
Своих зовет обратно сыновей.
Далекий путь, но смерть его минует,
Кругом враги, но жизнь его легка,
И в губы он мохнатые целует
Сохатого, спасителя, быка.
Когда зимой обледенеют кенди
И каторжане к Нерчинску бредут,
То молодым – потайно – о легенде
Бесписьменные в ночь передадут.
И может, всё, что в жизни им осталось:
Щедрота звезд падучих на снегу,
Разлучниц-волн нежданная усталость
И пегий бык на синем берегу.
1933
8. ЗОЛОТАЯ ОЛЁКМА
В забытые злые годы
Сибирью шел летний снег,
И с гулом вздувались воды
Ее ненасытных рек.
На берег реки покатый
Носило раскат глухой.
И долго стучал сохатый,
Вступая с врагами в бой.
И криком его сердитым
Гудела тайга в ночи..
Он выбил в ту ночь копытом
В промерзлой земле ключи.
Спасаясь от злой погони,
Ушел партизан в тайгу
И видит ключи на склоне, —
Не мерзнут они в снегу.
1936
9. СИБИРЯКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ С КАРПАТ В 1917 ГОДУ
Много было громких песен, токмо
Где же ты, заветная Олёкма,
Нищая, хоть оторви да брось,
Золотом прошитая насквозь?
В кабаках девчонки запевали,
Золота-де много там в отвале,
Мы с одной особенно сдружились —
Балалайки-бруньки жарок грай,—
Пожениться с ней мы побожились,
И ушел я в этот дальний край.
Я увидел там зарю из меди.
За гольцами бурые медведи.
Соболиных множество охот.
На траве испарина, как пот.
Небо там совсем не голубое.
Ночь длинна в покинутом забое.
Ворон – по прозванью верховой —
Пробегает мятою травой.
Я потом тебе писал без фальши:
Ты меня обратно не зови,
До жилого места стало дальше,
Чем до нашей прожитой любви.
По тайге, гольцов шатая недра,
Непокорней лиственниц и кедра,
Ходят зимы в быстром беге нарт.
Мне пошел тогда особый фарт —
Я нашел в забое самородок.
Разве жалко хлебного вина?
Весь в дыму и в спирте околоток,
Вся Олёкма в синий дым пьяна.
Самородок отдал я в контору.
Получил за то кредиток гору.
Деньги роздал братьям и друзьям.
Сшили мне отменнейший азям.
Шаровары сшили по старинке,
Блузу на широкой пелеринке.
Заболел потом я страшной болью:
Год лежал в бараке, чуть дыша,
Будто десны мне разъело солью,
От цинги спасала черемша.
Как прошла тайгою забастовка,
Я со всеми шел, а пуля ловко
В грудь навылет ранила меня.
Сто четыре пролежал я дня.
Пять годов прошло, как день. Как парус
Раздувают ветры средь морей,
Сердце мне тогда раздула ярость,
Дух недоли призрачной моей.
Хорошо потом я партизанил,
С боя брал я каждый шаг и дол,
Этот край под выстрелы я занял,
На Олёкму торную пришел.
Ты опять мне поднялась навстречу,
Как тугая вешняя гроза,
Пегий бык бежит в людскую сечу,
По реке проходят карбаза.
Ради старой ярости в забое
Я стою. Совсем не голубое,
Всё в дыму, как перегар пивной,
Небо распласталось надо мной.
Жизнь моя простая мимолетно
Не легла отвалом в стороне,
Ты меня прославила, Олёкма,
Сколько песен спето обо мне!
От гольцов до озера большого
Каждый знает деда Кунгушова.
Вот она, моя большая доля,
Под кайлой гудит моя земля,
Ветер вновь летит с ямского поля
На мои дозорные поля.
1933
Есть белый туман на малиновых взгорьях,—
Как скатертью белой покрыта скала,
И в губы отставших на утренних зорях
Впиваются черные когти орла.
Проходят солдаты дивизий сибирских,
Лавины летят, грохоча, с высоты,
Шинели трещат на плечах богатырских,
Пылают вдали ледяные мосты.
Идут впереди трубачи молодые,
Идут знаменосцы сибирских полков,
Идут позади ополченцы седые,
Возносятся к небу шесть тысяч штыков.
Идут молодые добытчики меди,
Крестьяне густых и могучих кровей,
Разведчики троп, где таятся медведи,
Лошадники из барабинских степей.
В тот час по Сибири у каждого тына,
Свистя, пробивается кверху репей,
Кончается день лисогона Мартына,
И ворон в раздел выпускает детей.
А тут затаили измену Карпаты.
Как гаубица грянет вдали с высоты —
Приходят саперы, приносят лопаты,
Копают могилы и ставят кресты.
Орел пролетит над обрывом зеленым,
Увидит – внизу, словно белый навес,
Кресты смоляные по кручам и склонам,
Огромный, негаданно выросший лес.
«Довольно!» – кричат, сатанея, шахтеры,
К словам прибавляя реченье штыка.
Корниловцы ринулись в дальние горы,
Но беглых настигла разведка полка.
И новый идет командир, запевая,
Кудрявоголовый казак с Иртыша,
И песня летит, на зубах остывая,
Двенадцатью тысячами легких дыша.
А знамя полка вверх стремится упрямо.
Что там нарисовано? Кони летят?
Снегов бесконечных блистанье? Иль мамонт,
Трубящий в зеленое небо Карпат?
Нет, в зареве войн и наставших усобиц,
С газетой, зажатой в тяжелой руке,
На знамени этом встает полководец
Не в форме военной – в простом пиджаке.
Он встретит солдат после долгих ненастий,
Веселый, с улыбкою доброй такой,
Он ласково скажет дивизии: «Здравствуй»,
Махнет, улыбнувшись, могучей рукой, —
И каждое слово, как пулю литую,
Немного прищурясь, стремит во врага,
И душу оно обжигает простую,
Волнует моря, зажигает снега.
1934








