Стихотворения и поэмы
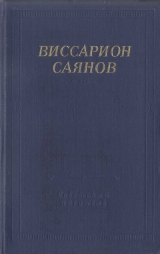
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Виссарион Саянов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
159. ПЕТР И АЛЕКСЕЙ НА СЕВЕРЕ В 1702 ГОДУ
После ночи двухмесячной заотсвечивало,
В монастырях стали воск белить,
А где ям над рекой, допоздна, до вечера,
Собиралися беглые брагу пить.
А и за зиму-то сердце у них подморозило,
Кудрявится пена, по усам течет,
От Пудожа-города до Белоозера
Кузнецам-устюжанам воздается почет.
А ветер? То шалоник, то галицкие ерши
(Откуда взялось-повелось сие прозвище?).
Вдруг судно плывет – паруса хороши,
И темная грусть в богатырском посвисте.
Да и в розовом отливе сосновых боров
Проплывала тогда знаменитая шнява,—
Сам Петр Алексеевич прохаживался, суров,
Алексей говорил нараспев, гнусаво.
Скоро лютые морозы, будто волчьи своры,
Побегут на Русь по вечному льду…
Аль холодно тебе, Алексей Петрович?
Аль чуешь сердцем какую беду?
По «российскому винограду» и «поморским ответам»
Староотеческих раскольничьих книг,
Семьсот кругозоров над краем этим,
И за каждым узорится путь на Выг.
И плывут берега, пахнет горьким вереском,
Пу́стынь за озером, – там в хлебне живет
Юродивый старец, с лицом предерзостным,
И в дождь привередные слезы льет.
Петр смотрит на пустынь – там души не согреешь,
Ладонь на грудь, – о, как сердце стучит.
«О чем ты задумался нынче, царевич?»
Но царевич нахмурился – и молчит.
А Петр чинит парус – никак не утешится…
А мстителен чаек низкий полет…
Государство Российское! Правда! Отечество!
К беззакатному солнцу судно плывет…
1939
160. ОКА
Ока – название реки
И человеческое имя,
Хранят речные тростники
Мечту, забытую иными,
О том, что может человек
Жить многократно, оживая
В названиях певучих рек,
Текущих по родному краю.
Живет певучая река,
И наудачу, как в былине,
В зеленом платьице Ока
Бежит по голубой долине.
Конец 1930-х годов (?)
161. СТЕПИ
Сокол злой кричит,
А костры горят,
А весной ключи
По степям кипят.
Я в степях тех был,
Тем путем скакал,
Из ключей тех пил,
Соколов пускал.
Ковыли да соль,
След моих охот.
Ты скажи, отколь
Старый друг придет?
Конец 1930-х годов (?)
162. «Есть поколенья…»
Есть поколенья,
Что горят в огне,
Живые звенья
Небывалых дней,
Они связали
Тысячью узлов
Былые дали
И заветный зов
Времен грядущих,
Чей придет черед…
Наш флаг не спущен,
Мы зовем вперед.
Уйдем из жизни,
В ад уйдем иль в рай,
На кладбищах рядами
В синий май
Уляжемся, а внуков наших дети
Всё будут ждать
И за чертой волнующей столетий
Припоминать,
Листая наши книги
В крови, в пыли,
Каких времен какие сдвиги
Тогда прошли.
И душам чистым, нежным
Я дать хочу
Ту силу, что влекла огнем мятежным
Меня к мечу,
Что победить дала мне силу смерти,
Вела нас в бой,
Что в будущем разметит и расчертит
Простор земной,
Чтоб мир цветущим садом стал…
И не моя вина, что не застал
Я тех времен безмерной синевы…
Но за меня прославьте землю вы.
Конец 1930-х годов (?)
163. «Есть страшный сон самоубийства: вдруг…»
Есть страшный сон самоубийства: вдруг,
Взглянувши вниз, увидеть сонный луг,
Где спит вьюрок и вьется горный щур,
Тропинку узкую, бегущих к дому кур,
Дымок далекий, бережок реки,
И – ринуться туда, ломая позвонки.
Но вот взгляни: тропа, по ней ты раньше брел,
Теперь идет по ней подстреленный орел,
Он выступает, крылья волоча,
Как гренадер, всё с правого плеча,
И смело смотрят в пропасть с высоты
Голубоглазые альпийские цветы.
Смертельно раненный навылет пулей в грудь,
Ты тоже должен так бестрепетно шагнуть.
Конец 1930-х годов (?)
164. «Что сделал я? Немного песен спел…»
…Что сделал я? Немного песен спел,
Измученный работою поденной, —
Негаданно мне выпавший удел.
Я так мечтал: вот напишу-де повесть,
В которой будет всё: и крупный план,
И мысль, и стихи, и вдохновенье – то есть
Подобие «Полтавы» и «Цыган».
Я оглянулся. Холодно и пусто.
Неужто ж, дело сделавши на треть,
Стать обреченным смертником искусства,
Навек в журнальной смуте умереть?
А может быть, довольно и того, что,
Своим старинным штемпелем гордясь,
Мои стихи пройдут в века, как почта,
Которую задержит наркомсвязь.
Историк сверит надпись на конверте,
Потом, письмо на время отстраня,
Разыщет дни рождения и смерти
И в свой некрополь занесет меня.
Конец 1930-х годов (?)
165. ПРЕДВЕСЕННЕЕ
На поляне прогалины черные,
Словно галки на мокром снегу,
Предвесенние тени узорные
Никогда разлюбить не смогу.
И на сердце так радостно, молодо,
Если слышу опять по весне
Чистый звон телеграфного провода,
Словно тихий твой голос во сне.
1940
166. ИЗ ПИСЬМА
Где теперь ты? В бегущих годах?
В реве ветра? Иль в зареве диком?
Иль в старинных родных городах?
В Белозерске? Ростове Великом?..
Вижу ветхий бревенчатый дом,
Где скрипят под ногой половицы,
Где в озерный большой водоем
На заре северянка глядится.
Там бегут по ложбинам ручьи,
И теперь на любом перекрестке
Суета – прилетели грачи…
Лишь вчера опушились березки.
В этом крае хозяйкою ты,
Край твой светел, и тих, и обширен,
Облака на рассвете чисты,
Словно говор московских просвирен.
А на тысячу верст – погляди! —
Голубеют озер перекаты,
Над дорогами пляшут дожди,
Плавят золото в небе закаты.
Я на дальней живу стороне,
Скоро год уж, как длится разлука,
Почему же не пишешь ты мне?
Что тебе моя песня и мука?
Завтра вечером в школу придешь…
География первым уроком.
И обступит тебя молодежь —
Всё расспросы о мире широком.
Будут спрашивать, где бы сейчас
Побывать ты хотела в России.
Устремишь ты в раздумье на класс
В этот вечер глаза голубые,
И украдкой покажешь ты им
Дальний остров на северном море,
Где навстречу огням штормовым
Парус мой промелькнет на просторе.
1940
167. ЛЕРМОНТОВ В ЧЕРКАССАХ
Что за феатр: об этом стоит рассказать.
Лермонтов
Провинциальный бедный городок,
И в нем – театр. Чадом свечек сальных
И контрабасом громким он привлек
Помещиков времен патриархальных.
На занавесе – горы в серебре,
А разговор идет о снах, о войнах,
О меделянских псах и об игре —
В тонах отменно ясных и пристойных.
А в полутьме пять ветреных Диан
Глядят на вас с улыбкою милейшей, —
Быть может, снова встретится улан
Здесь запросто с тамбовской казначейшей.
Какая скука! Скоро ночь придет…
Неужто снова вздорный сон приснится?
Но контрабас простуженно ведет
Смешной мотив, навеянный «Фрейшицем».
Слегка кривясь, заморенный скрипач
Пилить спешит на допотопной скрипке.
Он грустен, глух и жалостен, хоть плачь,
А всё смотреть не можешь без улыбки.
Оркестр молчит уже. А скрипачу
И невдомек. Он долго продолжал бы,
Но контрабас смычком бьет по плечу,
Кларнет сердито дергает за фалды.
И, разъяренный горем, глухотой,
Скрипач в ответ ударить хочет рьяно,
Но, верно, пьян – и падает, смешной,
Лицом пробивши шкуру барабана.
Вот занавес опущен. И оркестр
На съезжую отправлен. Шумно в зале:
Отцы велеречивые семейств
Другой развязки вечера не ждали.
…А ты глаза слезами затумань,
Чернавка-муза, девушка босая,
Не всё ль равно – в Черкассы иль в Тамань
Бросает царь, изгнанием пытая?
На севере, за много сотен верст,
Грустят места, с младенчества родные,
В безлюдье, в гибель, в горы, в Пятигорск
В июньский день везут перекладные.
«А коль решу – и всё переменю?
Нет, дальше в путь дорогой узкой, тряской…
Затем ли нынче еду я в Чечню,
Чтоб умереть на линии Кавказской?»
Он засыпает. Солнце греет. Вдруг
Во сне виденье. Голос громче, громче…
«Как? Умереть? Увижу ль Петербург?
Ведь „Сказку для детей“ еще не кончил…
Ведь жизнь в начале…»
Он проснулся. День,
Отягощенный злым великолепьем,
Еще пылал.
Ложилась рядом тень
Огромных гор на выжженные степи,
Поемный луг. Шлагбаум. Старый мост.
«Ну что ж, казак, далеко ль до станицы?»
– «Да не скажу… Не знаю этих верст…
Я тоже спал… А что во сне приснится?»
1941
168. МАКСИМ МАКСИМЫЧ
Среди родных героев прозы русской,
Максим Максимыч, памятен ты мне,
И твой сюртук, в плечах немного узкий,
И темный плащ, и шашка на ремне.
И смуглость щек, овеянных загаром.
Всё «да-с» и «нет-с» – твоя простая речь,
Твои рассказы громкие недаром
Сумел я с детства в памяти сберечь.
Я вижу вновь и этот сумрак шаткий,
И склоны гор, раскрашенных пестро,
И темный мех твоей черкесской шапки,
И кабардинской трубки серебро.
С художником великим мы не спорим…
Вся прямотой и ясностью дыша,
Легко владеет радостью и горем
Твоя простая, верная душа.
Прямое и доверчивое сердце
Гордыне чуждо помыслов пустых,
Звезде побед навеки разгореться
Велел народ для воинов таких.
Ведь в светлый час последнего сраженья
Их выбор был решителен и прост…
И в старости без головокруженья
Над крутизною шли на Чертов мост.
1941
169. НОЧЬ БЛОКАДЫ
В полночь Невский проспект стал безлюден, как снежное поле,
Заметают снега у заставы кирпич баррикад,
И гудит за окном настороженный, близкий до боли,
Как биение сердца, родной навсегда Ленинград.
Здесь прошла моя жизнь. В эти грозные ночи блокады
Он дороже мне стал, изувеченный, в дыме, в огне,
С опаленными порохом липами Летнего сада, —
Разлучения с ним никогда бы не вынести мне.
Не стихает метель, не смолкает теперь канонада,
Сын на фронте, а здесь над станком наклоняется мать.
Пусть сегодня темно на больших площадях Ленинграда —
Он в столетиях будет немеркнущим светом сиять!
Январь 1942
170. МАЙ, НОЧЬ БЛОКАДЫ И БЕСЕДА ОБ А. ИВАНОВЕ
…Чаёк мы ночью попивали,
Потом, художник и поэт,
Мы книги пухлые листали —
Былых годов забытый след.
Был месяц май и ночь блокады,
Редела сумрачная тьма,
И глухо падали снаряды
На отдаленные дома.
О живописцах шла беседа.
Как шла их жизнь, как шла борьба.
Что: поражение, победа —
Посмертной славы их судьба?
И вот, на дно стаканов глянув,
Почуя светлое тепло,
Мы имя вспомнили: Ива́нов —
И тут от сердца отлегло…
Иванов. Утро нашей славы,
Он нами сызмала любим,
Кремлей прославленные главы
И те склонялись перед ним.
Ведь выбрал он в искусстве русском
Путь самобытный, гордый, свой.
Не на проселке был он узком —
Он шел дорогой столбовой.
Нашел он высшую свободу,
Виденьем праздничным согрет,
«Явление Христа народу» —
Великий эпос давних лет.
Его пейзажи, самобытный
Язык портретов, весь порыв
Его души, могучей, слитной,
Горит, столетья озарив.
Вот почему мы в ночь блокады
Так пылко говорим о нем,
Пусть рядом падают снаряды —
Иванов жив, и мы живем.
16 мая 1942
171. «АРТИЛЛЕРИСТЫ-ГВАРДЕЙЦЫ»
В Колпино путь под обстрелом…
Юноша в цехе убит…
С горестью девушка в белом
В мертвые очи глядит.
Небо в сиреневых звездах,
Отблеск зари золотой.
Счастлив: я пил этот воздух,
Горький, как хвои настой.
Всё, что знавал понаслышке,
Я опишу – под огнем.
Только не в маленькой книжке —
В Библии Новых Времен.
1 ноября 1942
172. «В кругу друзей шутили долго, пели…»
В кругу друзей шутили долго, пели…
Вдруг взрыв – предвестьем смертного конца…
В глаза смертей сурово мы глядели,
Не отводили в сторону лица…
Пройдут года – и этот город снежный
Тебе приснится в давней красоте,
И бомбы, что упали на Манежный,
Вдруг загудят в безмерной высоте,
И дом качнется, гулко грянут взрывы,
Проснешься ты… Увидишь – вдалеке
Проходит девушка… И ветка тонкой ивы,
Как символ жизни, в девичьей руке…
27 января 1943
173. «Что мы пережили, расскажет историк…»
Что мы пережили, расскажет историк,
Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек.
Да что там! Сравнения ввек не найти,
Чтоб путь описать, где пришлось нам пройти!
Сидели в траншеях, у скатов горбатых,
Бойцы в маскировочных белых халатах,
Гудели просторы военных дорог,
Дружили со мною сапер и стрелок.
Ведь я – их товарищ, я – их современник.
И зимнею ночью и в вечер весенний
Хожу по дорогам, спаленным войной,
С наганом и книжкой моей записной,
С полоской газеты, и с пропуском верным,
И с песенным словом в пути беспримерном.
Я голос услышал, я вышел до света,
А ночь батарейным огнем разогрета.
Синявино, Путролово, Березанье —
Ведь это не просто селений названья,
Не просто отметки на старой трехверстке —
То опыт походов, суровый и жесткий,
То школа народа, – и счастье мое,
Что вместе с бойцами прошел я ее.
1943
174. В БРЕСЛАВЛЕ
Еще был бой не кончен. Издалече
Упрямо грохот кованый вставал,
И автоматчик вражеский под вечер
Всё так же бил, как утром, наповал.
За этот город долгое сраженье
Шло непрерывно день и ночь подряд.
Возьмешь ли камень – кажется, в каменьях
Еще раскаты выстрелов гудят.
Возьмешь ли ветку – кажется, что колет,
Как проволока, так она жестка,
Как будто листья съежились от боли,
Когда с них копоть счистила рука.
Пройдем вперед – и сразу перед нами,
Сквозь черный знак хвостатого клейма,
Откроется Бреславль с его домами,
Сады и замки, биржи и дома.
Конрад, Георгий, Сигизмунд и Фридрих —
Не счесть в Бреславль входивших королей,
Не счесть боев и договоров хитрых,
Восстаний, смут от самых давних дней.
А вот сейчас сержант двадцатилетний,
Родной боец с Печоры снеговой,
Ведет упорно, может быть, последний
В истории за этот город бой.
Берлин, Бреславль, Инстербург, Бунцлау…
Казачья шашка сквозь листву блестит…
Мы с дедами разделим честно славу,
Их старый марш еще в веках гремит.
1945
175. В СУДЕТАХ
Как только ручьи на весенних рассветах
Покатятся кубарем, ринутся с гор,
Ты встань на валунной вершине в Судетах
И крикни по-русски в безмерный простор.
И сразу же откликом радостным, резким
Не эхо откликнется гулко, а гром
Словацким, словенским, хорватским и чешским,
Болгарским и сербским родным языком.
Затем что отсюда, от снежной вершины,
До Чешского гребня, до склонов Карпат,
В сиянии ярком хребты-исполины
На страже славянского мира стоят!
1945
176. БЕРЛИНСКОЕ УТРО
Брезжит мутный рассвет над Берлином,
Мелкий дождь моросит по камням.
Как я счастлив, что с днем-исполином
В этот город вступаю я сам.
По развалинам зданий бетонных
Со ступени крутой на ступень,
Мимо парков, огнем опаленных,
Нас ведет разгоревшийся день.
Красный флаг над стенами рейхстага,
А в глазах нестерпимо рябит,
И от каждого быстрого шага
Здесь асфальт под ногами гудит.
Сколько пыли, как будто в пустыне,
Наметает – дышать тяжело,
Ведь с пылающих зданий в Берлине
Ту кирпичную пыль разнесло.
Вот пожарища банков, гостиниц,
Министерств, канцелярий, дворцов, —
И угодливо смотрит берлинец
На веселых советских бойцов.
1945
177. ДОМОЙ
Над Эльбою, в землянке обветшалой,
В тот час, когда мы кончили войну,
Впервые въявь услышав тишину,
Сказал мне тихо офицер бывалый:
«Как хорошо, что есть на свете дом
Вдали от мест печальных и суровых, —
Там наклонилась ива над прудом,
И ждут меня в краю лесов сосновых.
Теперь мы научилися ценить,
Что есть места, где так чисты криницы,
Где можно воду без опаски пить
И без нагана ночью спать ложиться.
Как хорошо, что есть одна душа,
Которой слово дорого простое,
Как встретимся мы с нею, не спеша
Ей расскажу в боях пережитое.
Но если годы болью старых ран
Об этом дне нежданно мне напомнят
И на заре предутренней в туман
Я выйду с ней из тихих-тихих комнат,
Вдруг тишина мне станет нелегка,
Покажется трудней того раската,
Что вот недавно шел издалека
И умирал при отблеске заката.
Нас чище сердцем сделала война!
Огонь! Огонь! А как мы шли спокойно.
И надо жизнь продумать, чтоб она
Всегда была прошедших дней достойна».
1945
178. СВЕРШЕНИЕ
Помню улицы города хмурые,
Злое небо десятых годов,
Всхлипы вальса «На сопках Маньчжурии»
В духоте постоялых дворов.
И рассказ, как заря над «Варягом»
Догорала в безвестном краю,
На корме, под простреленным флагом,
Умирали матросы в бою.
Не сдаваясь, открывши кингстоны,
В грозный час «Стерегущий» тонул,
С порт-артурских высот опаленных
Сквозь года к нам доносится гул.
Умирая, вы знали: потомство
Отомстит за Цусиму врагам,
И взошло беззакатное солнце,
Озаряя наш путь по волнам.
Так свершаются времени сроки,
И выходит наш флот молодой
На простор океанский, широкий
За туманной Курильской грядой.
1945
179–180. ИЗ ЦИКЛА «НЮРНБЕРГСКИЙ ДНЕВНИК»
1. СМЕНА КАРАУЛА У ЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА2. ГОЛУБАЯ ЛУНА
Среди сотен разбитых домов
Уцелел старый дом в Нюрнберге,
Он угрюм, неказист и суров,
Только люстры сверкают, как серьги.
Ветер узкую дверь распахнул,
За углом опрокинулись будки.
Четырех государств караул
Здесь сменяется каждые сутки.
По утрам – караула развод.
Еще улицы тонут в тумане,
А уже разводящий идет,
И дежурство сдают англичане.
Капитан – командиром у них,
Постучав по камням каблуками,
Он солдат заставляет своих
Для чего-то подрыгать ногами.
Очень странен подобный обряд…
Покричали они по старинке,
И повел их унылый солдат
Под неспешное пенье волынки.
Погляди на него, погляди…
Высоченнейший, в юбочке странной
И с цепочкой свистка на груди,
Он идет по дорожке туманной.
Ветер треплет флажки на столбах,
И сержант, коренастый, кудрявый,
С автоматом и с орденом Славы
Неподвижно стоит на часах.
Он родился в селе за Окой,
Издалече он шел, издалече,
И грустит на сторонке чужой
По покинутом милом заречье.
Как дороги войны далеки…
Как трудны отошедшие годы…
Он пешком сюда шел от Оки
И пришел под угрюмые своды.
Лишь воздвигнет рассвет города
Над плывущими вдаль облаками,
Нюрнбержцы приходят сюда
И глядят на сержанта часами.
И стоят, с него глаз не сводя,
Словно с витязя дедовской сказки…
Лиловатые струи дождя
Торопливо стекают по каске.
Мы легендою станем в веках,
Мы в былины войдем, в поговорки,
И простреленные гимнастерки
Разместятся в музейных шкафах!
1946
Начинается вечер – и джаз голосит монотонно,
Это – в сердце Баварии – американская зона,
И гавайской гитары поет, изловчившись, струна
Залихватский фокстрот: «Как смешно – голубая луна».
А луна в самом деле в разбитое смотрит окно,
Лейтенанты шумят в небольшом офицерском кино,
Хоть война отошла, но войны они въявь не видали,
Без боев, как в прогулке, примчались в баварские дали
И теперь по ночам за столами горланят и пьют,
И гавайской гитары пронзительно струны поют,
Как и пели тогда, когда мы по пылавшим долинам
Лунной ночью в огне наступленье вели под Берлином.
Да и что говорить – не подскажет солдату война
Этих слов никогда: «Как смешно – голубая луна».
1946
181. ПАМЯТИ СКАЗИТЕЛЯ
Низко клонится осинник,
И струятся родники,
Жил сказитель, жил былинник
В тесном доме у реки.
Говорливый, бородатый,
По прославленным лесам
Он ходил как соглядатай,
Где пройдет – не вспомнит сам.
От него зверью не скрыться.
Чутко ловит каждый звук,
Знает он, где лось таится,
Где живет язвец-барсук,
Где шипят лесные гады,
Где колдуют валуны,
И приманки, и привады,
И приметы старины.
Каждый день недаром прожит,
По-особому хорош.
То, что видит, в сказку вложит,
В сказке правда, а не ложь.
Про корабль, в пути текущий
С озорной командой пьющей,
Про укрытую в холстинку
Свинку – золоту щетинку,
Про скатерку-хлебосолку
И про раненую елку,
Из которой хлещет кровь,
Про Кащееву любовь.
Умер он, а сказка бродит,
Умер он, а нам не счесть,
Сколько россказней в народе
О его скитаньях есть…
Многим в жизни я обязан
Озорным его рассказам,
Побасёнкам и старинным
Богатырщинам былинным.
1946
182. В ПУТИ
Тишина здесь… леса да леса…
Ветер листья метет к перевозам…
Золотая бежит полоса
По молоденьким, тонким березам.
Синеватый дымок на земле,
Облака над березовой чащей,
И мальчишеский голос во мгле,
К вдохновенному счастью манящий…
Слышишь, песня несется с полей…
Чье же слово плывет над лугами?
Кто пускает в полет лебедей,
Осторожно взмахнув рукавами?
Я родные стихи узнаю,
Песни те, что давно прозвучали.
Как в далекую юность свою,
Я гляжу в эти светлые дали.
Разве могут стихи умереть?
Будет жить самобытное слово.
Только станут негаданно петь —
И поймешь свою молодость снова.
С молодою порою своей
Мы встречаемся снова под старость…
Что ж, во всем мы честны перед ней,
Сколько б лет еще жить ни осталось.
Всё равно наша кровь молода,
С каждым годом наш труд полновесней,
Нам родны, как в былые года,
Наши первые думы и песни.
Раскрывалися наши сердца
Для пленительной, радостной были.
Подмастерьями века-творца
Рано в жизнь мы с тобою вступили.
А дорога бежит вдоль реки…
Вновь разъезды в пути… перекрестки…
Серебрит незаметно виски
Опыт лет, вдохновенный и жесткий.
Вспомнят нас за чертой вековой,
Будет труд наш и подвиг наш признан,—
Ведь мы оба, товарищ, с тобой —
Люди первых годов коммунизма.
1948
183. ПРАЗДНИК
«Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов».
Белой ночью светел город,
На проспектах – тишина,
Ширь могучего простора
Вся в реке отражена,
И не меркнут над зализом,
Над свинцовою волной,
Голубые переливы
Этой ночи огневой, —
Не забыть ее сиянье
У гранитных берегов,
Словно легкое дыханье
Чистых пушкинских стихов.
Как светло в небесной шири…
Не шелохнется волна…
В старой пушкинской квартире
Книжных полок белизна.
Перед этими томами
Мы в волнении стоим:
Не состариться с веками
Песням вечно молодым.
Гениальные сказанья…
Их мечту, любовь и грусть,
Их высокое звучанье
Помним с детства наизусть.
И сроднились мы навеки,
Как с землей своей родной,
С гордым гимном Человеку —
С каждой пушкинской строкой.
Ведь поэт-языкотворец,
Несгибаемый борец,
С нами был всегда как совесть,
Спутник наш и наш отец.
Сколько лет его рассказам
Мир восторженно внимал!
Это он прославил разум,
Свет и солнце воспевал.
Он воспел предначертанье
Нашей русской стороны,
Словно северным сияньем
Им века озарены…
Сколько в нем, с народом слитой
Сердцем всем и всей душой,
Русской силы самобытной,
Русской мудрости большой.
И хранят его портреты,
И твердят его стихи
Лесорубы и поэты,
Моряки и пастухи.
Белой ночью над Невою
Проплывают облака,
И за дымкой голубою
Тихо катится река,
Лодка выплывет на стрежень,
Как певучая стрела,
Словно нож, волну разрежет
Взмах широкого весла.
Полной грудью город дышит,
Льется с туч веселый звон,
Ветер медленно колышет
Сотни флагов и знамен.
Выплывают из простора
Корабли, а за мостом
День и ночь стоит «Аврора»,
Как в дозоре боевом,—
Ведь на вечную стоянку
Здесь поставлена она…
Всходят зори спозаранку,
Даль огнем озарена,
И живет очарованье
Светлых невских берегов
В легком, радостном дыханье
Гордых пушкинских стихов.
«Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов».
1949








