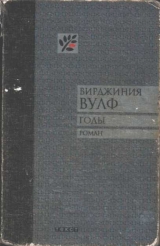
Текст книги "Годы"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Она почувствовала, что он посмотрел на нее и отвернулся. Обнаружил, что в ней что-то не так, она это знала. Руки? Платье? А, это из-за того, что она раскритиковала его. Ну, конечно, думала она, спускаясь на очередную ступеньку, теперь мне будут мстить, теперь жди расплаты за мои слова о том, что он будет писать «книжонки». Обычно на подготовку ответного удара уходит минут десять – пятнадцать. А потом вопрос потеряет актуальность, хотя и останется в разряде «неприятных», причем весьма неприятных, думала она. Мужское тщеславие не знает границ. Пегги подождала. Он опять посмотрел на нее. А теперь он сравнивает меня с той девушкой, которую я видела рядом с ним, подумала Пегги и вспомнила миловидное, но строгое лицо. Он свяжется с красногубой девицей и станет ишачить. Ему так полагается, а я так не могу, думала она. С моим вечным чувством вины. Придется платить, придется платить – я всегда так себе говорила, даже тогда, в римском лагере. У меня никогда не будет детей, а он будет плодить маленьких Гиббсов, еще и еще, думала Пегги, глядя на дверь в контору стряпчего, – если только она через год не уйдет от него к другому мужчине… Фамилия стряпчего была Олдридж, отметила она. Все, я больше не буду ничего замечать, буду радоваться жизни, вдруг решила она. Она взяла Норта за руку.
– Встретил тут кого-нибудь интересного? – спросила Пегги.
Он догадался, что она видела его с той девушкой.
– Одну девушку, – кратко ответил он.
– Я видела, – сказала она и посмотрела в сторону. – По-моему, милая, – добавила она, вглядываясь в раскрашенное изображение птицы с длинным клювом, висевшее на стене.
– Привести ее к тебе? – спросил Норт.
Так он, значит, ценит ее мнение? Она все еще держала его чуть выше локтя и чувствовала что-то твердое и тутое под рукавом; прикосновение к его телу вернуло ей ощущение близости других людей и их же отдаленности, так что желание помочь причиняет боль, и все же они зависят друг от друга; все это вызвало в ней такую бурю чувств, что она едва удержалась от того, чтобы закричать: «Норт! Норт! Норт!»
Все, нельзя опять выставлять себя дурой, сказала она себе.
– В любой вечер после шести, – произнесла она вслух, осторожно делая шаг на еще одну ступеньку вниз. Лестница кончилась.
Из-за двери комнаты, где был устроен ужин, гудели голоса. Пегги отпустила руку Норта. Дверь распахнулась.
– Ложки! Ложки! Ложки! – закричала Делия, по-ораторски размахивая руками так, будто обращалась к людям в комнате с торжественной речью. Она увидела племянника и племянницу. – Будь ангелом, Норт, принеси ложки! – крикнула она, выбросив руки в его сторону.
– Ложки для вдовы генерал-губернатора! – гаркнул Норт, имитируя ее интонацию и жесты.
– На кухне, внизу! – Делия указала на лестницу, ведшую в полуподвал. – Пегги, иди сюда, иди сюда! – Она поймала руку Пегги. – Мы все садимся ужинать!
Она ворвалась в комнату. Там яблоку негде было упасть. Люди сидели на полу, в креслах, на конторских стульях. Длинные конторские столы, столики для пишущих машинок были тоже пущены в дело. Они были усыпаны, завалены цветами. Гвоздики, розы, маргаритки были набросаны как попало.
– Садись на пол, садись куда угодно, – распорядилась Делия, неопределенно махнув рукой. – Ложки сейчас будут, – сказала она леди Лассуэйд, которая пила суп из кружки.
– Да не нужна мне ложка, – отозвалась Китти. Она наклонила кружку и сделала глоток.
– Тебе-то не нужна, – возразила Делия, – а другим нужна.
Норт принес пучок ложек, и она взяла их у него.
– Так, кому ложки нужны, кому нет? – спросила она, помахав ложками перед собой. Кто-то без них может обойтись, кто-то – нет, решила она про себя.
Те, кто сродни ей, думала она, в ложках не нуждаются, а вот другим – англичанам – они требуются. Она делила людей таким манером всю жизнь.
– Ложку? Ложку? – спрашивала она, с явным удовольствием оглядывая битком набитую комнату. Там были люди всех сортов. Она всегда к этому стремилась: перемешивать людей, избавляться от нелепых английских условностей. И в этот вечер ей это удалось, заключила она. Присутствовали и аристократы, и плебеи; кто-то был одет роскошно, кто-то – скромно; одни пили прямо из кружек, другие смирились с тем, что суп остынет, лишь бы принесли ложку.
– Мне ложку, – сказал ее муж, посмотрев на нее снизу вверх.
Делия наморщила нос. В тысячный раз он ущемил ее идеал. Она мечтала выйти замуж за смутьяна, а вышла за первейшего роялиста, страстного империалиста, респектабельного провинциального джентльмена – хотя и это сыграло роль, потому что даже сейчас он был еще весьма импозантен.
– Дай дяде ложку, – сухо сказала она Норту, вручив ему весь металлический букет.
После этого она села рядом с Китти, которая глотала суп, как девчонка на школьном пикнике. Китти поставила пустую кружку среди цветов.
– Бедные цветочки, – сказала она, подобрав со скатерти гвоздику и поднеся ее к губам. – Они же погибнут, Делия, им нужна вода.
– Розы нынче дешевы, – возразила Делия. – По два пенса за букет с тележек на Оксфорд-стрит. – Она взяла красную розу и поднесла поближе к свету, от чего цветок засиял полупрозрачными лепестками в прожилках. – Какая богатая страна Англия! – сказала она, положила розу обратно и взяла свою кружку.
– Что я тебе всегда и говорю, – вступил в разговор Патрик, вытирая рот. – Единственная цивилизованная страна в целом свете.
– Мне казалось, что мы на грани катастрофы, – сказала Китти. – Хотя сегодня в Ковент-Гардене особых признаков этого я не заметила.
– Увы, это правда, – вздохнул Патрик в тон каким-то своим мыслям. – К сожалению, должен признать, что мы такие дикари по сравнению с вами.
– Он не успокоится, пока не получит назад Дублинский замок [72]72
В Дублинском замке до 1922 г. располагалась британская администрация Ирландии.
[Закрыть], – съехидничала Делия.
– Вам не нравится свобода? – спросила Китти, глядя на чудаковатого старика, чье лицо всегда напоминало ей ягоду крыжовника с редкими волосками. Но фигура у него была великолепная.
– Сдается мне, что наша нынешняя свобода куда хуже, чем наше бывшее рабство, – сказал Патрик, тыкая в рот зубочисткой.
Как всегда, политика, деньги и политика, подумал Норт, который подслушал их разговор, разнося последние ложки.
– Неужели, Патрик, вы хотите сказать, что вся эта борьба была напрасна? – спросила Китти.
– Приезжайте в Ирландию, сами посмотрите, миледи, – мрачно ответил он.
– Еще рано – слишком рано судить, – возразила Делия.
Ее муж глядел мимо нее невинными глазами охотничьего пса, чьи лучшие дни в прошлом. Но эти глаза не могли долго удерживаться на чем-то одном.
– Что это за парень с ложками? – спросил Патрик, остановив взгляд на Норте, который стоял позади, как официант.
– Это Норт, – сказала Делия. – Сядь рядом с нами, Норт.
– Добрый вам вечер, сэр, – сказал Патрик. Они уже здоровались, но он позабыл.
– Что, сын Морриса? – спросила Китти, резко повернувшись. Она с чувством пожала Норту руку. Он сел и глотнул супа.
– Он только что из Африки. У него там была ферма, – сообщила Делия.
– Ну и как вам страна отцов? – спросил Патрик, приветливо наклоняясь к Норту.
– Здесь очень многолюдно, – сказал Норт, оглядывая комнату. – И все говорят о деньгах и политике. – Это была его дежурная фраза. Он произнес ее уже раз двадцать.
– Вы были в Африке? – спросила леди Лассуэйд. – А из-за чего же вы оставили вашу ферму? – Она смотрела ему в глаза и говорила именно так, как он ожидал: слишком властно, чтобы это пришлось ему по душе. Какое твое дело, старуха? – мысленно спросил он.
– Надоело, – сказал он вслух.
– А я отдала бы все, чтобы стать фермером! – воскликнула она. Это немного не укладывается в ее образ, подумал Норт. Так же, как и ее глаза. Ей стоило бы носить пенсне. – Но когда я была молодой, – сказала она с досадой – руки у нее были довольно натруженные, с грубой кожей, но ведь она занималась садоводством, вспомнил Норт, – это не позволялось.
– Да, – подтвердил Патрик. – И я считаю, – продолжил он, постукивая по столу вилкой, – что мы все были бы довольны, очень довольны, если бы все вернулось на круги своя. Вот что с нами сделала война? Меня, например, разорила. – Он покачал головой с видом меланхолического смирения.
– Мне печально это слышать, – сказала Китти. – Но для меня старое время было плохое время, злое, жестокое время… – Ее глаза стали голубыми от гнева.
А как же адъютант и шляпка с петушиным пером? – подумал Норт.
– Ты не согласна со мной, Делия? – спросила Китти, повернувшись к двоюродной сестре.
Но Делия, говоря со своим преувеличенно-певучим ирландским акцентом, обращалась к кому-то сидевшему за соседним столом наискосок от нее. Кажется, я помню эту комнату, подумала Китти; помню какое-то собрание, какой-то спор. Но о чем? О силе?..
– Дорогая Китти, – перебил ее мысли Патрик. Он похлопал ее по руке своей лапищей. – Еще один пример в пользу того, что я говорю. Теперь женщины получили избирательное право. – Он повернулся к Норту. – Стало ли им от этого лучше?
На мгновение во взгляде Китти проступила ярость, но потом она улыбнулась.
– Не будем спорить, мой старый друг, – сказала она, тоже похлопав его по руке.
– То же самое с ирландцами, – продолжал он. Он не может отвлечься от одних и тех же знакомых мыслей – бродит по кругу, как заезженная кляча, подумал Норт. – Они бы рады вернуться в Империю, уверяю вас. Я происхожу из семьи, – теперь Патрик обращался только к Норту, – которая служила королю и отечеству в течение трехсот…
– Английские колонисты, – сухо заметила Делия и отпила супа. Предмет их ссор наедине друг с другом, подумал Норт.
– Мы жили в этой стране триста лет, – не унимался Патрик, топая по своему кругу. Норта он держал за локоть. – И что поражает меня, старика, старого перечника…
– Глупости, Патрик, – вмешалась Делия. – Ты никогда еще не выглядел моложе. Ему можно дать пятьдесят, правда, Норт?
Но Патрик покачал головой.
– Мне давно за семьдесят, – просто сказал он. – Так вот, что поражает меня, старика, – он похлопал Норта по плечу, – жизнь так прекрасна, – он неуверенно кивнул в сторону плаката, приколотого к стене, – вокруг столько красоты. – Вероятно, он имел в виду цветы, просто его голова непроизвольно дергалась во время речи. – Так чего же ради эти люди стреляют друг в друга? Я не вхожу ни в какие общества, не подписываю никакие эти… – он показал на плакат, – как они называются? Манифесты. Я просто иду к моему другу Майку, или пусть это будет Пат – они все мои добрые друзья, и мы…
Он наклонился и потер свою ступню.
– Господи, эти туфли! – пожаловался он.
– Жмут, да? – сочувственно спросила Китти. – Сбросьте их.
Зачем они притащили сюда бедного старика, подумал Норт, напялили на него тесные туфли? Наверняка точно так же он беседовал со своими собаками. Когда он поднимал глаза, стараясь вспомнить, о чем он говорил, его взгляд был похож на взгляд охотника, который увидел птиц, поднимающихся полукругом над болотом. Но птиц было не достать выстрелом.
– …И мы говорим обо всем, – продолжил Патрик. – Сидя за столом.
Его глаза смягчились и опустели, как будто мотор выключился и его ум беззвучно плыл дальше по инерции.
– Англичане тоже говорят, – вскользь заметил Норт. Патрик кивнул и рассеянно посмотрел на группу молодых людей. Но его не интересовало, что говорят другие. Его сознание уже не могло воспринять что-то извне. Тело Патрика все еще сохраняло великолепные пропорции, постарело именно его сознание. Он мог только повторить уже много раз сказанное и после этого сидеть, ковыряя в зубах, уставившись перед собой. Он сидел, держа двумя пальцами цветок, безучастно, не глядя на него, а ум его плыл по инерции… Но тут вступила Делия.
– Норту надо пойти поговорить со своими друзьями, – сказала она. Как многие жены, она знает, когда муж начинает нагонять скуку, подумал Норт и встал. – Не жди, чтобы тебя представили, – сказала Делия, помахав рукой.
– Делайте, что хотите. Что хотите, – проговорил Патрик, постукивая стеблем цветка по столу.
Норт был рад уйти, но куда теперь направиться? Оглядев комнату, он опять почувствовал себя чужаком. Все присутствовавшие были знакомы между собой. И называли друг друга – он встал с краю небольшой компании молодых мужчин и женщин – по именам или прозвищам. Каждый принадлежал к какой-то группке, понимал Норт, прислушиваясь к разговору. Он хотел слышать, о чем они говорят, но самому в беседу не вступать. Он прислушался. Они спорили. Политика и деньги, сказал он себе, деньги и политика. Эта фраза оказалась очень кстати. Но он не мог вникнуть в спор, который уже был довольно-таки горячим. Никогда я не чувствовал себя таким одиноким, подумал Норт. Старая банальность об одиночестве в толпе верна. Холмы и деревья человека принимают, а люди отвергают. Он отвернулся и сделал вид, что читает описание дома с участком в Бексхилле, которое Патрик почему-то назвал «манифестом». «Водопровод во всех спальнях», – прочитал Норт. До него доносились обрывки разговора. Это Оксфорд, а это Хэрроу, узнавал он словечки и обороты, усвоенные в школе и колледже. Казалось, они по-прежнему обмениваются школьными анекдотами – о том, как Джонс-младший взял приз за прыжки в длину, о старике Фокси, или как там звали их директора. Беседа молодых людей о политике была очень похожа на разговор мальчишек из частной школы. «Я прав, а ты нет…» В их возрасте, думал Норт, я был в окопах, на моих глазах гибли люди. Но можно ли считать это хорошим образованием? Он перенес вес на другую ногу. В их возрасте, думал он, я оказался один на ферме со стадом овец, на шестьдесят миль вокруг не было ни единого белого… Было ли это хорошим образованием? Так или иначе, слушая издалека их спор, улавливая характерные слова, видя их жесты, он понимал, что все они – люди одного сорта. Он посмотрел через плечо. Элитарная частная школа плюс университет, без вариантов. А где же Дворники, Докеры, Доярки и Дровосеки? – подумал он, составляя список профессий на букву «д». Потому что, хотя Делия и гордилась своей неразборчивостью в знакомствах, к ней пришли одни Патриции и Пэры. Какие еще слова начинаются на «п»? – задумался он, опять уставившись на плакат. Потаскуха, Паразит?
Норт обернулся. На него смотрел симпатичный юноша со свежим лицом и веснушчатым носом, в будничной одежде. Если он не остережется, его тоже втянут. Нет ничего проще, чем вступить в общество, чем подписать то, что Патрик называет «манифестом». Норт, однако, не верил ни в общества, ни в манифесты. Он вернулся к восхитительному особняку с садом в три четверти акра и водопроводом во всех спальнях. Он делал вид, что читает, а сам думал: люди снимают залы, устраивают там собрания. Один из них выходит на трибуну. Жмет руки – характерно, крепко, будто нажимает на рычаг или выкручивает белье. Голос оратора, многократно усиленный громкоговорителем, обычно странно отделяется от его фигурки и гремит, сотрясая зал: «Справедливость! Свобода!» Конечно, когда сидишь, стиснутый с боков чужими коленями, по коже может пробежать дрожь, душа может приятно затрепетать, но на следующее утро – думал Норт, глядя на плакат с рекламой недвижимости – не остается ни единой мысли, ни единой фразы, которые хоть чего-нибудь стоили бы. Что они понимают под «Справедливостью» и «Свободой», эти милые молодые люди, имеющие сотни две-три в год? Что-то здесь не так, думал он; есть какой-то разрыв, несоответствие между словами и реальностью. Если они хотят преобразовать мир, почему бы не начать отсюда, из центра, с самих себя? Норт повернулся на каблуке и столкнулся нос к носу со стариком в белом жилете.
– Здравствуйте! – сказал он, протягивая руку.
Это был его дядя Эдвард. Он походил на насекомое, из которого выели всю плоть, оставив только крылышки и хитиновую оболочку.
– Очень рад видеть, что ты вернулся, Норт, – сказал Эдвард и тепло пожал ему руку. – Очень рад, – повторил он.
Он был застенчив. Он был тощ и худосочен. Его лицо как будто вырезали с помощью множества тонких инструментов, или – как будто оставили на улице зимней ночью и оно замерзло. Он откидывал голову назад, как закусивший удила конь; но он был старый конь, голубоглазый конь, давно привыкший к удилам. Он двигался, повинуясь привычке, а не чувству. Интересно, чем он занимался все эти годы? – подумал Норт, когда они стояли, оглядывая друг друга. Издавал Софокла? А что случится, если однажды окажется, что весь Софокл уже издан? Что они будут делать, эти выеденные, пустотелые старики?
– Ты возмужал, – сказал Эдвард, осмотрев его с ног до головы. – Возмужал.
В его манере было едва заметное почтение. Эдвард, ученый, отдавал дань Норту, солдату. На нем есть какая-то печать избранности, подумал Норт; значит, все-таки удалось что-то сберечь.
– Пойдем сядем? – предложил Эдвард, словно хотел серьезно обсудить с Нортом какие-то интересные темы. Они стали искать тихое место. Он-то не транжирил свое время на беседы с дряхлыми сеттерами и пальбу из ружья, подумал Норт, оглядываясь в поисках спокойного пристанища, где они могли бы посидеть и поговорить. Но свободными оказались только два конторских стула в углу около Элинор.
Она увидела их и вскрикнула:
– Ой, Эдвард! Я же хотела тебя о чем-то спросить…
Какое облегчение, что назревавшую беседу с директором школы отменила эта импульсивная глуповатая старушка. Она держала перед собой носовой платок.
– Я завязала узелок, – сказала она. Действительно, на платке был узел. – Зачем же я его завязала? – Элинор подняла глаза.
– Завязывать узелки – похвальная привычка, – произнес Эдвард в своей учтивой манере, четко выговаривая каждое слово, и несколько деревянно опустился на стул рядом с сестрой. – Но при этом рекомендуется…
Что мне в нем нравится, подумал Норт, садясь на второй стул, так это обыкновение не договаривать вторую половину фразы.
– Он должен был мне напомнить… – Элинор запустила руку в свои густые седые волосы и замолчала. Что позволяет ему быть таким спокойным, словно вырезанным из камня? – подумал Норт, искоса взглянув на Эдварда, который с удивительной невозмутимостью ждал, пока его сестра вспомнит, зачем она завязала узел на носовом платке. В нем было что-то законченное, хотя фразы он не договаривал; нечто навсегда установленное и скрепленное печатью. Его не волнуют ни политика, ни деньги, подумал Норт. Может быть, это благодаря тому, что он имеет дело с поэзией, с прошлым? Но Эдвард улыбнулся сестре.
– Ну что, Нелл? – спросил он.
Улыбка была спокойная, терпеливая.
Норт решил начать разговор, потому что Элинор по-прежнему размышляла над своим узелком.
– На мысе Доброй Надежды я встретил человека, который оказался большим вашим почитателем, дядя Эдвард, – сказал он и сразу же вспомнил фамилию: – Арбатнот.
– Р. К.? – спросил Эдвард. Он поднес руку к голове и улыбнулся. Ему было приятно. Он тщеславен и чувствителен, он – Норт еще раз взглянул на него, чтобы дополнить образ, – признан. Покрыт блестящим лаком, который носят на себе те, кто облечен властью. Ведь он теперь кто? – Норт не мог вспомнить. Профессор? Преподаватель? Он неразрывно связан со своим положением, от которого никогда не может отвлечься. А этот Арбатнот Р. К. с чувством сообщил Норту, что он обязан Эдварду большим, чем кому бы то ни было.
– Он сказал, что обязан вам большим, чем кому бы то ни было, – произнес Норт вслух.
Эдвард никак не ответил на комплимент, но слова доставили ему удовольствие. У него была привычка, которую Норт помнил: подносить руку к голове. А Элинор называла его «Клин». Она смеялась над ним. Она больше любила неудачников, вроде Морриса. Элинор сидела с платком в руке, украдкой улыбаясь какому-то воспоминанию.
– Какие же у тебя планы? – спросил Эдвард. – Ты заслужил передышку.
В его манере есть что-то льстивое, подумал Норт: как будто школьный учитель встречает бывшего ученика, который добился в жизни успеха. Но он говорит то, что думает, он никогда не говорит просто так, подумал Норт; это тоже вызывало тревогу. Помолчали.
– Делия собрала сегодня на удивление много людей, правда? – сказал Эдвард, повернувшись к Элинор. Они смотрели на разные группы гостей. Ясные глаза Эдварда обозревали присутствующих дружелюбно, но насмешливо. Но о чем он думает? – спросил себя Норт. Что-то должно быть за этой маской. То, что позволяет ему быть выше суеты. Прошлое? Поэзия? Он смотрел на утонченный профиль Эдварда. Его лицо было еще изысканнее, чем запомнилось Норту.
– Я хотел бы освежить свои знания по античной классике, – вдруг сказал Норт. – Хотя не то чтобы у меня было много чего освежать… – с простодушным видом добавил он, испугавшись учителя.
Эдвард как будто не слушал. Он подбирал и вновь ронял свой монокль, глядя на пеструю компанию гостей. Его голова со вздернутым подбородком опиралась затылком о спинку стула. Толпа, шум, перестук вилок и ножей делали беседу необязательной. Норт еще раз украдкой посмотрел на него. Прошлое и поэзия, подумал он, вот о чем я желал бы поговорить. Он хотел сказать это вслух. Но Эдвард был слишком отгорожен, слишком своеобразен, слишком черно-бел и линеен, он слишком высоко поднял подбородок, опираясь затылком о спинку стула, чтобы его просто так можно было о чем-то спросить.
Наконец Эдвард завел речь об Африке, хотя Норта больше интересовали прошлое и поэзия. Ведь они заключены в этой точеной голове, похожей на голову поседевшего греческого юноши, – прошлое и поэзия.
Так почему бы не приоткрыть свой сейф? Почему не поделиться? Что ему мешает? – думал Норт, отвечая на обычные вопросы английского интеллектуала об Африке, о состоянии дел в тех краях. Почему он не может открыть шлюзы? Почему не снимет оковы со свободного течения? Зачем все так заперто, так заморожено? Потому что он жрец, хранитель тайн, думал Норт, чувствуя холод Эдварда. Он страж прекрасных словес.
Но Эдвард обращался к нему.
– Давай договоримся, что ты приедешь, – говорил он, – этой осенью. – И это было тоже искренне.
– Хорошо, – ответил Норт, – я с удовольствием… Осенью. – И он представил себе дом с комнатами, затененными плющом, крадущихся дворецких, графины с вином и руку, протягивающую коробку дорогих сигар.
Незнакомые молодые люди обходили гостей с подносами и настойчиво угощали их.
– Как любезно с вашей стороны, – сказала Элинор, беря бокал.
Норт тоже взял бокал с какой-то желтой жидкостью. Вероятно, это было нечто вроде крюшона. Пузырьки поднимались наверх и лопались. Норт стал смотреть, как они поднимаются и лопаются.
– Что это за красивая девушка, – спросил Эдвард, наклонив голову набок, – вон там, в углу, разговаривает с юношей?
Он был благожелателен и церемонен.
– Правда, они прелестны? – откликнулась Элинор. – Я как раз об этом думала… Все такие молодые. Это дочь Мэгги… А кто это говорит с Китти?
– Миддлтон, – сказал Эдвард. – Ты что, не помнишь его? Вы наверняка были когда-то знакомы.
Они перебрасывались словом-другим, наслаждаясь непринужденностью. Точно кумушки, которые, судача, отдыхают на припеке после рабочего дня, подумал Норт. Элинор и Эдвард были каждый в своей нише, они источали довольство, терпимость, уверенность.
Норт следил за всплывающими в желтой жидкости пузырьками. Им-то, старикам, все это нравится, думал он, они свое пожили; другое дело – он и его поколение. Для него символом идеальной жизни были фонтан, весенний ручей, неукротимый водопад; ему требовалось совсем не то, совсем иное, чем им. Не залы, не гулкие микрофоны, не шагание в ногу за вождями – ордами, группками, разряженными в униформу колоннами. Нет – надо начать изнутри, а уж потом позволить сути принять внешнюю форму, думал Норт, глядя на молодого человека с красивым лбом и скошенным подбородком. Никаких черных рубашек, зеленых рубашек, красных рубашек, никакого позерства перед публикой, это все чушь. Конечно, разрушение барьеров, опрощение – это все хорошо, но мир, превращенный в однородный студень, в единую массу, это не мир, а рисовый пудинг или бескрайнее блеклое одеяло. Сохранить все отличительные признаки и характерные черты Норта Парджитера – того, над кем смеется Мэгги, француза с цилиндром в руках, но в то же время – распространить себя вовне, новой волной взбудоражить человеческое сознание, быть пузырьком и потоком, потоком и пузырьком – самим собой и всем миром. Он поднял бокал. Анонимно, подумал он, глядя в прозрачную желтую жидкость. Но что я под этим подразумеваю? – спросил он себя. Я, для кого подозрительны все церемонии, а религия мертва, я, не вписывающийся, как сказал тот человек, никуда, ни во что? Он задумался. В руке его был бокал, в голове – незаконченная фраза. А он хотел создавать и другие фразы. Но как у меня это получится – он посмотрел на Элинор, которая сидела, держа шелковый носовой платок – пока я не узнаю, что истинно и что надежно, в моей жизни и в жизни других?
– Младший Ранкорн! – вдруг выпалила Элинор. – Это сын привратника в доме, где у меня квартира, – объяснила она и развязала узел на платке.
– Сын привратника доме, где у тебя квартира, – повторил Эдвард. Его глаза похожи на поле, освещенное зимним солнцем, подумал Норт, – солнцем, в котором нет тепла, лишь бледная краса.
– Кажется, его все называют «портье», – сказала Элинор.
– Терпеть этого не могу! – Эдвард слегка передернул плечами. – Чем плохо наше слово «привратник»?
– Я же так и сказала: сын привратника в моем доме… Так вот, они хотят отдать его в колледж. Я сказала, если увижу тебя, то спрошу…
– Разумеется, разумеется, – доброжелательно произнес Эдвард.
Звучит совершенно нормально, подумал Норт. Человеческий голос, естественная интонация. Разумеется, разумеется, повторил он про себя.
– Значит, он хочет поступить в колледж? – кивнул Эдвард. – Какие же экзамены он сдавал?
Какие же экзамены он сдавал? – повторил про себя Норт. Но повторил критически, точно он был актер и судья. Он не только слушал, но и комментировал. Пузырьки всплывали в желтой жидкости уже медленнее, один за другим. Элинор не знала, какие он сдавал экзамены. О чем я думал? – спросил себя Норт. У него было такое чувство, будто он находится посреди джунглей, то мраке, и прорубает себе путь к свету. Но у него были только обрывки фраз, отдельные слова, лишь они должны были помочь ему продраться сквозь заросли человеческих тел, человеческих стремлений и голосов, которые цеплялись и не пускали его, не пускали… Он прислушался.
– Что ж, передай, пусть зайдет ко мне, – с готовностью сказал Эдвард.
– Но я не слишком много у тебя прошу, Эдвард? – спросила Элинор.
– Я для этого и существую, – успокоил ее он.
И это нормальная интонация, подумал Норт. Никакой униформальности.Слова «униформа» и «формальность» соединились в его голове в одно несуществующее слово. Моя мысль состоит в том, подумал он, отпивая крюшона, что где-то в глубине бьет родник, там есть живая сердцевина. В каждом из нас – в Эдварде, в Элинор. Так зачем рядить себя в униформу? Норт поднял глаза.
Перед ними остановился толстяк. Он наклонился и учтиво подал руку Элинор. Ему пришлось наклониться, поскольку его белый жилет заключал в себе внушительную сферу.
– Увы, – сказал он сладкозвучным голосом, который не вязался с его размерами. – Я бы с превеликим удовольствием, но завтра в десять утра у меня совещание. – Элинор и Эдвард уговаривали его сесть и побеседовать с ними. Он покачивался перед ними с пятки на носок на своих маленьких ножках.
– Наплюйте! – Элинор улыбнулась ему, как улыбалась в молодости друзьям своего брата, подумал Норт. Почему же она не вышла за одного из них? Почему мы скрываем все, что так важно для нас? – спросил он себя.
– Чтобы мои директора не дождались меня? Тогда зачем я нужен? – сказал старый друг и повернулся на каблуке с проворством дрессированного слона.
– Да, много воды утекло с тех пор, как он играл в греческой трагедии, – проговорил Эдвард. – В тоге, – добавил он с ухмылкой, следя глазами за округлой фигурой железнодорожного магната, который довольно ловко – будучи опытным светским львом – пробирался сквозь толпу к двери. – Это Чипперфилд, железнодорожная шишка, – объяснил Эдвард Норту. – Замечательный человек. Сын вокзального носильщика. – Он делал маленькие паузы после каждого предложения. – Всего достиг сам… Великолепный особняк… Безупречно отреставрирован… Двести или триста акров, кажется… Свои охотничьи угодья… Просит меня руководить его чтением… Покупает старых мастеров.
– Покупает старых мастеров, – повторил Норт. Ладные короткие фразочки выстраивались в какую-то пагоду, ажурную и аккуратную. Вся целиком она создавала странное ощущение, в котором смешивались симпатия и насмешка.
– Подделки, наверное? – засмеялась Элинор.
– Не будем об этом, – хмыкнул Эдвард. Они помолчали. Пагода растворилась. Чипперфилд исчез за дверью.
– Какой приятный напиток, – сказала Элинор над головой Норта. Он видел ее бокал, который она держала на колене – на уровне его лба. На поверхности плавал тонкий зеленый листок. – Надеюсь, он не крепкий… – Она подняла бокал.
Норт опять взял свой бокал. О чем я думал, когда в последний раз смотрел на него? – спросил он себя. В его сознании образовался затор, как будто две мысли столкнулись и не пропускали остальные. Он ощутил пустоту в голове. Норт покачал бокал. Он был посреди сумрачного леса.
– Значит, Норт… – собственное имя заставило его вздрогнуть, – ты хочешь освежить классику? – продолжил беседу Эдвард. – Рад слышать. У этих стариков есть много интересного. Только вот молодому поколению, – он сделал паузу, – они, судя по всему, не нужны.
– Как глупо! – сказала Элинор. – Я недавно читала одного из них… В твоем переводе. Что же это было? – Она задумалась. Названия не удерживались в ее памяти. – Там про девушку, которая…
– «Антигона»? – предположил Эдвард.
– Да! «Антигона»! – воскликнула Элинор. – И я подумала – точно, как ты сказал, Эдвард, – как это верно, как прекрасно…
Она умолкла, словно испугалась закончить.
Эдвард кивнул, помолчал и вдруг откинул голову и продекламировал:
– «Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν…» [73]73
«Я рождена любить, не ненавидеть» ( древнегреч.) Софокл, «Антигона».
[Закрыть]
Норт посмотрел на него.
– Переведите, – попросил он.
Эдвард отрицательно покачал головой.
– Все дело в языке, – сказал он.
И замолчал надолго. Ничего не выйдет, подумал Норт. Он не может сказать то, что хочет: боится. Они все боятся – быть осмеянными, выдать себя. И он боится, подумал Норт, глядя на молодого человека с красивым лбом и скошенным подбородком, который слишком эмоционально жестикулировал. Мы все боимся друг друга. Но что именно нас страшит? Осуждение, насмешка, иной образ мышления… Он боится меня, потому что я фермер (он опять посмотрел на круглое лицо с высокими скулами и маленькими карими глазами). А я его – потому что он умен. Норт взглянул на большой лоб с залысинами. Вот что нас разделяет: страх, подумал он.








