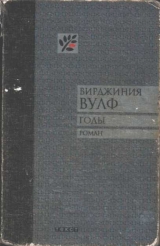
Текст книги "Годы"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
– Ты должна пойти, – сказал Норт. Ее манера раздражала его, а голос Элинор все еще звучал в ушах.
– Я должна? Должна ли я? – Сара занялась кофе.
– Тогда, – сказала она, вручая Норту чашку и одновременно беря книгу, – читай пока.
Она опять свернулась в кресле, с чашкой в руке.
Действительно, идти было еще рано. Но почему, думал он, опять открывая книгу и переворачивая страницы, почему она не хочет идти? Боится? Он посмотрел на нее, сжавшуюся в кресле. Одежда поношенная. Он стал глядеть в книгу, но почти не мог разобрать буквы. Сара не зажгла лампу.
– Я не могу читать без света, – сказал Норт. На этой улице быстро темнело, потому что дома стояли очень близко. Проехал автомобиль, и по потолку скользнули полосы света.
– Включить свет? – спросила Сара.
– Нет, – сказал Норт. – Я попробую кое-что вспомнить. – Он начал декламировать единственное стихотворение, которое знал наизусть. Он выговаривал слова в полутьму, и ему казалось, что они звучат необычайно красиво, потому, наверное, что он и Сара не видели друг друга.
Прочитав одну строфу, он сделал паузу.
– Читай дальше, – сказала Сара.
Он продолжил. Слова, вылетавшие в комнату, казались вещественными, твердыми и независимыми; однако они изменялись от соприкосновения со слушавшей их Сарой. Но, закончив вторую строфу:
Норт услышал какой-то звук. Происходил он из стиха или откуда-то извне? Из стиха, решил Норт и уже собирался продолжить, как Сара подняла руку. Он замолчал. До него донеслись тяжелые шаги с лестницы. Кто-то намеревался войти? Сара смотрела на дверь.
– Еврей, – прошептала она.
– Еврей? – переспросил Норт. Оба прислушались. Теперь он слышал вполне отчетливо: кто-то отвернул водопроводные краны; кто-то принимал ванну за стеной.
– Еврей принимает ванну, – сказала Сара.
– Еврей принимает ванну?
– А завтра на ванне будет грязная полоса, – добавила она.
– Проклятый еврей! – воскликнул Норт. Мысль о полосе грязи с чужого тела в ванне за стеной вызвала у него отвращение.
– Давай дальше, – сказала Сара. – «Лишь грубость общество внесет, – повторила она последние строки. – В уединенья сей оплот».
– Нет, – сказал Норт.
Они слушали, как течет вода. Человек кашлял, прочищал горло, обтираясь губкой.
– Кто такой этот еврей? – спросил Норт.
– Эбрахамсон, торгует жиром.
Они прислушались.
– Помолвлен с хорошенькой девушкой из ателье мужской одежды, – добавила Сара.
Все звуки доходили до них сквозь тонкую стену очень отчетливо.
Обтираясь губкой, человек громко сопел.
– Но он оставляет в ванне волосы, – заключила Сара.
По телу Норта пробежала дрожь. Волосы в еде, волосы в раковинах, чужие волосы вызывали у него тошноту.
– У тебя с ним общая ванная? – спросил он.
Сара кивнула.
Человек издал звук, что-то вроде «Фу!».
– Фу! Именно это я и сказала, – засмеялась Сара. – Фу! – войдя в ванную холодным зимним утром. Фу! – Она выбросила в сторону руку и замолчала.
– А потом? – спросил Норт.
– А потом, – Сара отхлебнула кофе, – я вернулась в гостиную. Там ждал завтрак. Яичница и гренок. Лидия в рваной кофте, простоволосая. Безработные поют псалмы под окном. И я сказала себе, – она опять выбросила руку, – «Грязный город, неверующий город, город дохлой рыбы и старых сковородок» – я вспомнила берег реки во время отлива, – объяснила она.
– Так, – кивнул Норт.
– Ну, и я надела шляпу и пальто и выскочила вон в гневе, – продолжила Сара. – И стояла на мосту и говорила: «Неужели я клок травы, который носит туда-сюда волна прилива, набегающая дважды в день без всякого смысла?»
– И что? – поддержал ее Норт.
– Мимо проходили люди, самодовольные, надутые, лживые, с бегающими глазами, в котелках, бесчисленная армия работяг. И я сказала: «Должна ли я присоединиться к вашему заговору? И запятнать свою руку, свою незапятнанную руку…» – Норт заметил, что рука Сары, которой она помахивала, чуть светится в полутьме гостиной. – «…И поставить подпись и служить хозяину, и все из-за еврея в моей ванне, все из-за одного еврея?»
Она села прямо и засмеялась, ей нравился собственный голос, набравший ритм конской рыси.
– Продолжай, продолжай, – сказал Норт.
– Но у меня был талисман, сверкающий камень, горящий изумруд, – она подобрала с пола конверт, – рекомендательное письмо. И я сказала лакею в персиковых рейтузах: «Проведи меня, братец», и он повел меня багровыми коридорами, и, наконец, мы подошли к двери из красного дерева и постучали, и отозвался голос: «Войдите». И что я там обнаружила? – Сара сделала паузу. – Толстяка с красными щеками. На столе – ваза с тремя орхидеями. Их вложила в твою руку, подумала я, твоя жена, когда вы расставались, когда авто уже перемалывало колесами гравий. И над камином – обычная картина…
– Постой! – перебил ее Норт. – Ты вошла в кабинет, – он постучал по столу. – Ты представила рекомендательное письмо. Но кому?
– А, кому? – рассмеялась Сара. – Человеку в полосатых брюках. «Я знал вашего отца в Оксфорде», – сказал он, теребя листок промокательной бумаги, в углу которого было нарисовано колесо со спицами. Но что же высчитаете неразрешимым? – спросила его я, глядя на этого красно-деревянного типа, гладко выбритого, с розовыми подбородками, откормленного бараниной…
– На человека из редакции газеты, – поправил ее Норт, – который знал твоего отца. А потом?
– Там стоял гул и скрежет. Работали огромные машины; прибежали мальчишки с длинными листами – с оттисками, – черными, смазанными, влажными от типографской краски. «Простите, я на минуту отвлекусь», – сказал он и стал делать пометки на полях. Но у меня в ванне еврей, сказала я, – еврей… еврей… – Она вдруг замолчала и опустошила свой бокал.
Да, думал Норт, конечно, есть голос, есть отношение и отражение в лицах других людей; но есть и что-то еще – истинное – в тишине, возможно. Но тишины не было. Они слышали, как еврей шлепает в ванной; он, судя по всему, переступал с ноги на ногу, вытираясь. Наконец он отпер дверь и стал подниматься по лестнице. Трубы начали издавать гулкие урчащие звуки.
– И что из этого правда? – спросил Норт. Но Сара погрузилась в молчание. Произнесенные ею слова как будто сложились в его голове во фразу, значившую, что Сара бедна, что она должна зарабатывать на жизнь, но волнение, с которым она говорила – возможно, от вина, – создало образ другого человека, с другими чертами, которые надо было собрать воедино.
В доме теперь было тихо, не считая звука утекающей из ванны воды. На потолке дрожал водянистый узор. Качающиеся уличные фонари окрашивали дома напротив в странный бледно-розовый цвет. Дневной гул затих, телеги больше не громыхали по мостовой. Зеленщики, шарманщики, женщина, певшая гаммы, тромбонист – все укатили прочь свои тележки, задернули шторы, опустили крышки своих пианино. Было так тихо, что Норту на мгновение показалось, будто он в Африке, сидит на веранде под луной. Но он вернул себя к реальности.
– Как насчет приема? – сказал он, встал и затушил сигарету. Потом потянулся и взглянул на часы. – Пора. Иди, соберись, – поторопил он Сару. Потому что, думал он, если уж идти на прием, то нелепо туда являться, когда все расходятся. А прием уже, наверное, начался.
– О чем ты говорила? О чем ты говорила, Нелл? спросила Пегги у двери дома, чтобы отвлечь Элинор от желания заплатить за такси. – Простые люди – что должны сделать простые люди?
Элинор все еще копалась в своей сумочке и не ответила.
– Нет, я не могу этого позволить, – сказала она. – Вот, возьми.
Но Пегги оттолкнула ее руку, и монеты упали на ступеньки. Обе женщины нагнулись одновременно и столкнулись головами.
– Не трудись, – сказала Элинор, когда одна монета укатилась прочь. – Я во всем виновата.
Горничная открыла дверь и придерживала ее.
– И где же нам раздеться, – спросила Элинор, – здесь?
Они вошли в комнату на первом этаже, которая служила конторой, но сейчас была приспособлена под гардеробную. На столе стояло зеркало, а перед ним – поднос с заколками, гребнями и щетками для волос. Элинор подошла к зеркалу и быстро окинула себя взглядом.
– Форменная цыганка! – сказала она, проводя гребнем по волосам. – От загара черная, как негритос! – Она уступила место Пегги и стала ждать. – Интересно, не в этой ли комнате… – начала она.
– Что в этой комнате? – рассеянно переспросила Пегги. Она занималась своим лицом.
– …мы собирались, – сказала Элинор. Она огляделась. Комната явно по-прежнему использовалась как контора, но теперь на стене висели плакаты торговцев недвижимостью.
– Интересно, будет ли сегодня Китти, – проговорила она.
Пегги смотрела в зеркало и не ответила.
– Она теперь нечасто приезжает в город. Только на свадьбы, крестины и так далее, – продолжила Элинор.
Пегги обводила губы каким-то тюбиком.
– Вдруг встречаешь молодого человека ростом за шесть футов и понимаешь, что это тот самый малыш, – сказала Элинор.
Внимание Пегги было поглощено собственным лицом.
– Это каждый раз приходится делать? – спросила Элинор.
– Иначе я буду страшной, – сказала Пегги. Ей казалось, что напряжение вокруг ее губ и глаз видно со стороны. У нее совсем не было настроения идти на прием…
– О, как вы любезны! – вскрикнула Элинор. Горничная принесла монету в шесть пенсов. – Так, Пегги, – Элинор протянула монету племяннице, – позволь мне оплатить свою долю.
– Не дури, – сказала Пегги, отталкивая ее руку.
– Но это же я вызвала такси, – настаивала Элинор. Пегги направилась из комнаты. – Потому что я терпеть не могу ездить на приемы, – продолжала Элинор, следуя за ней и все так же протягивая монету, – по дешевке. Ты не помнишь дедушку? Он всегда говорил: «Не надо жалеть дегтя на хорошее судно». Когда мы вместе ходили за покупками, – продолжала она уже на лестнице, – он просил: «Покажите мне самое лучшее, что у вас есть».
– Я помню его, – сказала Пегги.
– Правда? – Элинор было приятно, что кто-то помнил ее отца. – Они сдают эти комнаты, я думаю, – добавила она, проходя мимо открытых дверей. – Здесь обитает стряпчий. – Она посмотрела на ящики с папками, на которых были видны белые надписи. – Я понимаю, зачем ты красишься – ну, используешь косметику. – Теперь Элинор взглянула на племянницу. – Тебе это идет. Выгладишь как-то светлее. Молодым это к лицу. Но – не мне. Я бы чувствовала себя замалеванной – или размалеванной, как правильно? И что мне делать с этими монетами, если ты их не возьмешь? Надо было оставить их в сумке, внизу. – Они поднимались все выше и выше. – Наверное, открыли все эти комнаты, – продолжала Элинор. Они добрались до красной ковровой дорожки. – Поэтому, если в комнатке Делии станет тесно… Нет, прием, конечно, еще не начался. Мы рано пришли. Все наверху. Я слышу их голоса. Идем. Мне войти первой?
Из-за двери доносился гомон голосов. Им преградила дорогу горничная.
– Мисс Парджитер, – сказала Элинор.
– Мисс Парджитер! – объявила горничная, открывая дверь.
* * *
– Иди, соберись, – сказал Норт и прошел через комнату к выключателю.
Он прикоснулся к выключателю, и электрическая лампа посреди потолка зажглась. С нее был снят абажур, вместо него ее обернули конусом зеленоватой бумаги.
– Иди, соберись, – повторил Норт.
Сара не отозвалась. Она подтянула к себе книгу и сделала вид, что читает.
– Он убил короля, – сказала она. – Что же он сделает дальше? – Она заложила палец между страниц и посмотрела снизу вверх на Норта. Он понимал, что это уловка, дабы оттянуть момент, когда придется что-то делать. Он тоже не хотел идти. И все-таки, раз Элинор просила, чтобы они пришли… – он колебался, глядя на свои часы. – Что он сделает дальше? – повторила Сара.
– Комедию, – коротко ответил Норт. – Контраст, – пояснил он, вспомнив прочитанное где-то. Только контраст создает целостность, – добавил он наобум.
– Ладно, почитай еще. – Сара вручила ему книгу.
Он открыл ее на первой попавшейся странице.
– Место действия – скалистый остров посреди моря, – сказал он и сделал паузу.
Всегда перед тем, как начать чтение, ему надо было представить себе место действия: что-то убрать на задний план, что-то вывести вперед. Скалистый остров посреди моря, сказал он себе, – зеленые заливчики, пучки серебристой травы, песок и вдалеке – мягкие вздохи прибоя. Он открыл рот, чтобы читать, но услышал позади себя какой-то звук, выдавший чье-то присутствие – в пьесе или в комнате? Он поднял взгляд.
– Мэгги! – воскликнула Сара. Мэгги стояла на фоне открытой двери, в вечернем платье.
– Вы что, спали? – спросила она. – Мы звонили, звонили…
Она стояла, улыбаясь, удивленная, как будто разбудила спящих.
– Зачем иметь звонок, если он всегда сломан? – спросил мужчина, стоявший за Мэгги.
Норт встал. Сначала он едва мог их вспомнить. Их внешность не вязалась с его воспоминанием, ведь он видел их много лет назад.
– Звонки не звонят, краны не открываются, – сказал он, ощущая неловкость. – Или не закрываются, – добавил он, потому что вода по-прежнему урчала в трубах ванной комнаты.
– Хорошо, дверь была открыта, – сказала Мэгги. Она стояла у стола, глядя на куски яблочной кожуры и блюдо с вялыми фруктами. У одних красота блекнет, подумал Норт, другие – он посмотрел на Мэгги – только хорошеют с возрастом. У нее были седые волосы; ее дети, наверное, уже выросли. Но почему женщины поджимают губы, глядя в зеркало? Она смотрела в зеркало. Она поджала губы. Потом она пересекла комнату и села в кресло у камина.
– А почему Ренни плакал? – спросила Сара. Норт посмотрел на Ренни. По обеим сторонам от его крупного носа были влажные потеки.
– Потому что мы были на очень плохом спектакле, – ответил Ренни. – И я хочу чего-нибудь выпить, – добавил он.
Сара подошла к буфету и начала звенеть бокалами.
– Вы читали? – спросил Ренни, глядя на книгу, упавшую на пол.
– Мы были на скалистом острове посреди моря, – сказала Сара, ставя бокалы на стол. Ренни начал разливать виски.
Теперь я его вспомнил, подумал Норт. В последний раз они виделись перед тем, как Норт отправился на войну. В маленьком домике в Вестминстере. Они сидели у камина. Ребенок играл с пятнистой лошадкой. И Норт завидовал их счастью. Они беседовали о науке. Ренни тогда сказал: «Я помогаю делать снаряды», и его лицо превратилось в маску. Он делал снаряды; он любил мир; он был ученым; и он плакал…
– Не надо! – вскрикнул Ренни. – Остановись!
Сара брызнула газированной водой на стол.
– Когда вы вернулись? – спросил Ренни Норта, беря бокал и глядя на Норта глазами, еще влажными от слез.
– С неделю назад, – сказал Норт.
– Продали свою ферму? – спросил Ренни. Он сел с бокалом в руке.
– Да, продал, – сказал Норт. – А останусь ли я здесь, вернусь ли, – Норт поднес бокал ко рту, – еще не знаю.
– А где была ваша ферма? – поинтересовался Ренни, наклоняясь к нему. И они стали говорить об Африке.
Мэгги смотрела, как они пьют и беседуют. Бумажный конус вокруг электрической лампочки имел необычную окраску. Неровный свет придавал лицам зеленоватый оттенок. Два потека на щеках Ренни были еще влажными. Все его лицо состояло из заострений и ложбин, тогда как лицо Норта было круглым и курносым, с синевой вокруг рта. Мэгги слегка подвинула свое кресло, чтобы головы мужчин оказались в равном удалении от нее. Они были совсем не похожи друг на друга. Африканская тема изменила их лица, как будто что-то сдвинулось в тонкой структуре под кожей, как будто какие-то гирьки переместились в другие пазы. По ее телу пробежала дрожь, точно и в нем гирьки поменяли пазы. Но ее что-то тревожило в освещении. Мэгги огляделась. Вероятно, фонарь на улице мигал. Его мерцающий свет смешивался со светом электрической лампы под пестрой зеленоватой бумагой. Вот в чем… Мэгги вздрогнула: несколько слов достигли ее сознания.
– В Африку? – переспросила она, глядя на Норта.
– На прием к Делии, – сказал он. – Я спросил, идете вы или нет. – Оказалось, она не слушала.
– Минуту, – перебил Ренни. Он поднял руку, словно полицейский, останавливающий уличное движение. И они продолжили разговор об Африке.
Мэгги откинулась в кресле. За их головами изгибались спинки стульев из красного дерева. За спинками была ваза из неровного стекла с красным краешком, за ней – прямая линия каминной доски в черно-белых квадратиках и три шеста с мягкими желтыми плюмажами на концах. Мэгги переводила взгляд с одного на другое, смотрела то ближе, то дальше, собирая, суммируя предметы в одно целое, и, когда она уже почти завершила картину, Ренни воскликнул:
– Надо идти! Надо идти!
Он поднялся, отодвинул свой бокал с виски. Он стоял, точно командующий войсками, подумал Норт, – так настойчиво звучал его голос, так властны были жесты. Хотя речь шла всего лишь о том, чтобы пойти в гости к пожилой женщине. Или есть всегда нечто, что выходит на поверхность – не к месту, неожиданно – из глубины человека и выражает обычными действиями, обычными словами всю его сущность; и поэтому, отправляясь вслед за Ренни на прием к Делии, Норт чувствовал себя так, будто он скачет через пустыню на подмогу к осажденному гарнизону?
Он остановился, взявшись рукой за дверь. Сара вышла из спальни. Она переоделась в вечернее платье. Что-то в ней появилось непривычное – возможно, из-за вечернего платья.
– Я готова, – сказала она, посмотрев на остальных.
Она остановилась, чтобы поднять брошенную Нортом книгу.
– Нам пора, – сказала Сара, обернувшись к сестре.
Она положила книгу на стол, закрыла ее и слегка хлопнула по обложке.
– Нам пора, – повторила она и пошла вслед за мужчинами на лестницу.
Мэгги встала. Еще раз она окинула взглядом комнату в дешевом доходном доме. Глиняный горшок с пампасной травой; зеленую вазу с волнистым краем; стул из красного дерева. На столе стояло блюдо с фруктами. Тяжелые сочные яблоки лежали рядом с желтыми пятнистыми бананами. Странное сочетание – округлости и заостренности, розового и желтого. Мэгги выключила свет. В комнате стало почти совсем темно, только водянистый отблеск переливался на потолке. В этом смутном, неверном свете были видны лишь контуры: призраки яблок, призраки бананов, стул-привидение. По мере того как глаза Мэгги привыкали к темноте, цвет медленно возвращался к предметам, они наполнялись материей… Мэгги стояла и смотрела. Затем до нее долетел крик:
– Мэгги! Мэгги!
– Иду! – крикнула она в ответ и вышла на лестницу.
– А как представить вас, мисс? – спросила прислуга у Пегги, топтавшейся за спиной у Элинор.
– Мисс Маргарет Парджитер, – сказала Пегги.
– Мисс Маргарет Парджитер! – объявила прислуга в комнату.
Голоса загудели, лампы ярко блеснули навстречу Пегги, Делия вышла вперед.
– Ах, Пегги! – воскликнула она. – Как мило, что ты здесь!
Пегги вошла; но она чувствовала себя точно обтянутой холодной кожей. Они явились слишком рано: комната была почти пуста. В ней стояло лишь несколько человек, которые говорили слишком громко – чтобы заполнить пространство. Делают вид, подумала Пегги, пожав руку Делии и проходя дальше, будто должно произойти нечто приятное. Она необычайно четко увидела персидский ковер и резной камин, но посередине комнаты было пустое место.
Что все это значит? – спросила она себя, как будто анализировала больного. Копи впечатления. Взболтай их во флаконе с зеленой глянцевой наклейкой. Копи впечатления, и боль пройдет. Копи впечатления, и боль пройдет, повторила она про себя, стоя в одиночестве. Мимо торопливо прошла Делия. Она говорила то с одним, то с другим, но наугад, урывками.
А это что? – удивилась Пегги: вид ее отца в довольно стоптанных туфлях вызвал у нее сильное и непроизвольное ощущение. Внезапная нежность? Она пыталась поставить диагноз. Пегги смотрела, как отец идет через комнату. Его обувь всегда производила на нее странное действие. Отчасти чувственное, отчасти жалостливое, подумала Пегги. Можно ли назвать это «любовью»? Но – она заставила себя сдвинуться с места. Ну ют, я обработала себя до относительного бесчувствия, сказала она себе, – теперь можно смело перейти на ту сторону; приблизиться к дяде Патрику, который стоит у дивана, ковыряя в зубах, и сказать ему… что же я ему скажу?
По пути в ее голове – без всякого повода – сложился вопрос: «Как поживает тот человек, что разрубил себе ступню мотыгой?»
– Как поживает тот человек, что разрубил себе ступню мотыгой? – слово в слово повторила она вслух.
Красивый пожилой ирландец наклонился, поскольку был очень высок, и приложил к уху ладонь, потому что был глуховат.
– Монтэ́го? Монтэ́го? – переспросил он.
Она улыбнулась. Ступени лестницы, ведущей от мозга к мозгу, надо делать очень низкими, чтобы мысль могла по ним пройти, заметила про себя Пегги.
– Разрубил себе ступню мотыгой, когда я у вас гостила, – еще раз сказала она. Она запомнила, что, когда она была у них в Ирландии, садовник разрубил себе ногу мотыгой.
– Монтэ́го? Монтэ́го? – повторил он. Он был озадачен. Наконец его осенило. – А, Монтэгю! Старина Питер Монтэгю – конечно! – Оказалось, что в Голуэе жили некие Монтэгю, и ошибка дяди, на которую Пегги не стала указывать, пришлась кстати, поскольку дала ему повод пуститься в рассказы о семье Монтэгю, когда он и Пегги сели рядом на диван.
Взрослая женщина, думала Пегги, едет через весь Лондон, чтобы поговорить с глухим стариком о неведомых ей Монтэгю, хотя собиралась спросить о садовнике, разрубившем себе ступню мотыгой. Но какая разница? Мотыга или Монтэгю? Она рассмеялась, как раз когда дядя пошутил, так что это не показалось неуместным. Но человек хочет смеяться вместе с кем-то. Удовольствие сильнее, если его с кем-нибудь делишь. Относится ли это и к страданию? – задумалась она. Не потому ли мы столько говорим о недугах? Разделить значит ослабить? Отдай часть боли, отдай часть удовольствия иному телу, и, увеличив поверхность, ослабишь их… Но мысль ускользнула от нее. Дядя рассказывал и рассказывал. Спокойно, размеренно, как будто погоняя послушную, но изможденную клячу, он вспоминал былое время, былых собак, былые образы, которые, по мере того как он все больше воодушевлялся, медленно складывались в сценки из жизни провинциальной семьи. Слушая вполуха, Пегги представляла себе старинный фотоснимок игроков в крикет или охотничьей компании на ступенях сельского особняка.
Многие ли, думала она, вообще слушают? Этот «дележ» – всегда отчасти фарс. Она заставила себя напрячь внимание.
– Да, старое доброе время! – сказал дядя Патрик. Его угасшие глаза блеснули.
Она еще раз мысленно бросила взгляд на снимок: мужчины в гетрах, женщины в развевающихся юбках стоят на широких белых ступенях, к их ногам жмутся собаки. Но дядя опять заговорил:
– Ты слышала от своего отца о человеке по имени Родди Дженкинс, который жил в небольшом белом домике по правую руку, если идти по дороге? Ты, наверное, знаешь эту историю.
– Нет, – сказала Пегги, прищурив глаза, будто перебирала воспоминания. – Расскажите.
И он рассказал.
Собирать факты я умею хорошо, думала Пегги. Но вот понять человека в целом – она сложила ладонь лодочкой, – объемно, нет, в этом я не сильна. Взять ее тетку Делию. Пегги наблюдала, как та быстро перемещается по комнате. Что я знаю о ней? Что она носит платье в золотых блестках; что у нее густые вьющиеся волосы – некогда рыжие, теперь седые; что она красива; что она разорена; что у нее богатое прошлое? Но какое прошлое? Она вышла замуж за Патрика… Длинная история, которую все рассказывал Патрик, тревожила поверхность сознания Пегги, как весла, погружающиеся в воду. Никакого покоя. В рассказе тоже фигурировало озеро, потому что речь шла об утиной охоте.
Она вышла за Патрика, думала Пегги, глядя на его изношенное лицо с растущими тут и там одинокими волосками. Почему, интересно, Делия стала его женой? Как у них это было – любовь, рождение детей? Люди прикасаются друг к другу и возносятся в облаке дыма – красного дыма? Его лицо напоминало розовую кожуру крыжовника с волосинками. Но ни одна из его черт не обладала достаточной четкостью, чтобы объяснить, как они с Делией сошлись и произвели на свет троих детей. Одни морщины были результатом любви к стрельбе, другие – следами тревог, ведь старое доброе время позади, как он сказал. Приходится туже затягивать пояс.
– Да, мы все с этим сталкиваемся, – произнесла Пегги рассеянно. Она незаметно повернула руку, чтобы посмотреть на часы. Прошло всего пятнадцать минут. Тем временем комната наполнялась незнакомыми ей людьми. Среди них был индиец в розовом тюрбане.
– Ох, наскучил я тебе этими старыми байками, – сказал ее дядя, помотав головой. Он был обижен, почувствовала она.
– Нет, нет, нет! – возразила Пегги. Ей стало неловко. Дядя опять пустился в разглагольствования, но теперь уже из вежливости, почувствовала она. Наверное, мучение всегда превосходит удовольствие вдвое – во всех человеческих отношениях, подумала Пегги. Или я исключение, не такая, как все? Ведь другие на вид вполне довольны. Да, думала она, глядя перед собой и опять чувствуя вокруг рта и глаз натянутую, напряженную от усталости кожу (накануне ей пришлось до поздней ночи заниматься роженицей), – да, я исключение. Я жесткая, холодная, я двигаюсь своей колеей – в общем, врач.
Вылезать из колеи чертовски неприятно, думала она, – тут же поджидает смертный холод, точно надеваешь заледеневшие сапоги… Она склонила голову, показывая, что слушает. Улыбаться, кланяться, делать вид, будто тебе интересно, когда тебе скучно, – какая это мука. И так, и эдак – сплошная мука, думала она, глядя на индийца в розовом тюрбане.
– Кто это? – спросил Патрик, кивнув в его сторону.
– Один из индийцев Элинор, вероятно, – сказала она, а сама подумала: о, если бы милосердные силы тьмы окутали мой обнаженный нерв, я смогла бы встать и… В разговоре повисла пауза.
– Но я не имею права держать тебя здесь и докучать старыми байками, – сказал дядя Патрик. Старая кляча с разбитыми коленями остановилась.
– А скажите, старый Бидди до сих пор держит лавочку, – спросила Пегги, – где мы покупали сладости?
– Бедный старик… – начал дядя и опять пустился в рассказы. Все мои больные просят об одном, думала Пегги: «Дайте мне покоя, дайте отдохнуть». Как притупить ощущения, как перестать чувствовать? Об этом молила рожавшая женщина: отдохнуть, перестать быть. В средние века существовали келья, монастырь; теперь – лаборатория, профессия: не жить, не чувствовать, зарабатывать деньги, только деньги – а в конце, когда я стану старой и выдохнусь, как кляча, нет – корова… – это сравнение навеял рассказ Патрика: «…Скот теперь не продашь, – говорил он. – Совсем нет спроса. А, Джулия Кромарти!» – Патрик помахал очаровательной соотечественнице рукой – своей большой кистью с разболтанными суставами.
Пегги осталась одна сидеть на диване. Дядя встал и пошел, протягивая обе руки, чтобы поприветствовать старушку птичьего вида, которая, тараторя, появилась в комнате.
Пегги осталась одна. Она была рада этому. Ей не хотелось говорить. Но через секунду рядом с ней кто-то вырос. Это был Мартин. Он сел. И ее настроение сразу совершенно изменилось.
– Здравствуй, Мартин! – сердечно сказала Пегги.
– Отдала долг старому коняке? – Мартин имел в виду истории, которые старый Патрик всегда им рассказывал.
– Я очень уныло выглядела? – спросила Пегги.
– Ну, – он посмотрел на нее, – особенного восторга заметно не было.
– Финалы всех его историй давно известны, – попыталась она оправдаться, глядя на Мартина. В последнее время он взял обыкновение зачесывать волосы назад, как официант. Он никогда не смотрел ей прямо в глаза. Никогда не чувствовал себя рядом с ней непринужденно. Она лечила его и знала, что он боится рака. Надо отвлечь его от назойливой мысли: «Не видит ли она какие-то симптомы?»
– Я все думаю: как это они поженились? – сказала Пегги. – Была ли между ними любовь? – Она говорила все что попало, стараясь отвлечь его.
– Конечно, он был влюблен, – сказал Мартин и посмотрел на Делию. Она стояла у камина и беседовала с индийцем. Она все еще была очень хороша – и внешностью, и манерами. – Все мы были влюблены, – добавил он, искоса взглянув на Пегги. Молодые так серьезны.
– О, конечно, – сказала Пегги с улыбкой. Ей нравилось то, что он вечно был в погоне за новой любовью, галантно ловил ускользающий шлейф молодости – даже сейчас…
– Но ты, – сказал он, подтянув брюки на коленях, – то есть твое поколение – вы многое теряете… многое теряете, – повторил он. Пегги подождала. – Любя только свой собственный пол, – добавил он.
Этим он подчеркивает, что сам еще молод, подумала Пегги, – говоря то, что считает очень современным.
– Я не поколение, – сказала она.
– Ладно, ладно, – усмехнулся Мартин, пожимая плечами и глядя искоса на Пегги. Он очень мало знал о ее личной жизни. Но она выглядела серьезной. И усталой. Слишком много работает, решил он.
– Я живу, как могу, – сказала Пегги. – Погрязаю в своей колее. Так мне сегодня сказала Элинор.
Но ведь и она заявила Элинор, что ту «подавляли». Одно стоит другого.
– Элинор – старая жизнелюбка, – сказал Мартин. – Смотри! – указал он.
Элинор, в своей красной накидке, говорила с индийцем.
– Только что вернулась из Индии, – продолжил он. – А на ней небось сувенир из Бенгалии?
– В будущем году она поедет в Китай, – сказала Пегги.
– А Делия? – Пегги вернулась к оставленной теме, потому что Делия прошла мимо. – Она-то любила? (И что ваше поколение понимало под этим – «любить»? – мысленно продолжила она.)
Мартин поджал губы и покачал головой. Он всегда любил пошутить, вспомнила Пегги.
– Не знаю, насчет Делии не знаю, – сказал он. – У них был общий интерес, видишь ли, – «Дело», как она тогда выражалась. – Мартин сморщился. – Ну, Ирландия. Парнелл. Ты слыхивала о Парнелле?
– Да, – сказала Пегги.
– А Эдвард? – спросила она. Эдвард только что вошел. Внешность его была изысканна и исполнена простоты – тщательно продуманной и разве что чуть нарочитой.
– Эдвард – да, – сказал Мартин. – Эдвард был влюблен. Ты, разумеется, знаешь эту старую историю – об Эдварде и Китти?
– Которая вышла за… Как его звали? За Лассуэйда? – тихо проговорила Пегги, когда Эдвард проходил мимо них.
– Да, она вышла за другого, Лассуэйда. Но он был влюблен, сильно влюблен, – прошептал Мартин. – А вот ты… – Он быстро глянул на нее. Что-то в ней остудило его. – Конечно, у тебя есть твоя профессия. – Он посмотрел в пол. Опять думает о своих страхах перед раком, предположила Пегги. Боится, что она заметила какой-нибудь симптом.
– А, врачи – большие обманщики, – обронила она на всякий случай.
– Отчего ж? Люди теперь живут дольше, чем раньше, разве нет? – сказал Мартин. – Во всяком случае, умирают не так мучительно, – добавил он.
– Мы научились нескольким трюкам, – признала Пегги.
Мартин смотрел перед собой взглядом, вызывавшим у нее жалость.








