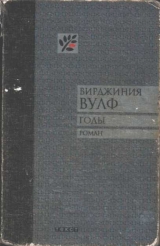
Текст книги "Годы"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
– Эй! – крикнул он, когда экипаж проезжал мимо ворот, и выставил руку в люк на крыше. Затем он высунулся и получил газету. – Парнелл! – воскликнул полковник, нащупывая очки. – Надо же, умер!
Экипаж покатил дальше. Полковник перечитал новость два или три раза. Умер, повторил он, снимая очки. Он ощутил что-то вроде облегчения, даже с оттенком торжества, и прислонился спиной к углу кабины. Что ж, сказал себе полковник, он умер – этот беспринципный авантюрист, этот подстрекатель, источник всех бед, этот… Тут в полковнике всколыхнулось некое чувство, связанное с его дочерью, – какое точно, он не смог бы сказать, но оно заставило его нахмуриться. Так или иначе, теперь его уже нет, подумал он. Как же он умер? Покончил ли с собой? Ничего удивительного в этом не было бы… Так или иначе, его нет, и дело с концом. Полковник сидел, держа в одной руке скомканную газету, а в другой – цветок в папиросной бумаге. Экипаж свернул на Уайтхолл… Его было за что уважать, подумал полковник, проезжая мимо палаты общин, – о других такого не скажешь. А насчет процесса о разводе болтали много чепухи. Полковник выглянул из окна. Экипаж приближался к улице, где раньше он всегда останавливался и оглядывался. Полковник повернул голову и посмотрел направо, вдоль улицы. Общественный деятель не может себе такого позволить, подумал он. Он слегка кивнул, и экипаж поехал дальше. Теперь она написала мне и просит денег. Очередной дружок оказался скотиной – как и предполагал полковник. Она потеряла всю свою привлекательность, думал он. Сильно располнела. Что ж, он может позволить себе великодушие. Он вновь надел очки и принялся читать деловые новости.
Теперь смерть Парнелла ничего не изменит, думал полковник. Если бы он прожил подольше, скандал выдохся бы со временем… Полковник поднял голову. Экипаж, как обычно, поехал кружным путем.
– Налево! – крикнул полковник. – Налево! – Возница, как всегда, свернул не туда.
В цокольном этаже дома на Браун-стрит [27]27
Браун-стрит – вымышленное название.
[Закрыть]слуга-итальянец, без пиджака, читал газету. В комнату вбежала служанка со шляпкой в руке.
– Смотри, что мне подарили! – воскликнула она.
В качестве искупления за беспорядок в гостиной леди Парджитер подарила ей шляпку.
– Элегантно, правда? – Служанка надела широкополую итальянскую шляпку набок и позировала перед зеркалом. Шляпка была будто свита из стеклянных волокон.
Антонио пришлось отложить газету и поймать служанкино запястье – из чистой галантности, потому что она не была красавицей, а повадки ее были карикатурой на то, как ведут себя девушки в холмистых городках Тосканы. Однако перед крыльцом остановился экипаж. Две лошадиные ноги замерли у перил. Придется встать, надеть пиджак, подняться по лестнице и открыть дверь, в которую уже позвонили.
Он не торопится, подумал полковник, ожидая у порога. Волнение, вызванное смертью, уже почти улеглось в нем, хотя весть о ней еще продолжала пульсировать в его сознании. Впрочем, это не помешало ему заметить, что его родственники заново отделали кирпичную кладку. И откуда у них лишние деньги? Троим сыновьям надо давать образование, да еще две девочки… Эжени, конечно, умная женщина, но лучше бы ей нанять горничную, чем брать этих итальяшек, которые, кажется, вечно глотают макароны. Тут дверь открылась, полковник начал подниматься по лестнице, и ему показалось, что он услышал смех где-то в глубине дома.
Приятная гостиная у Эжени, подумал он, стоя в ожидании. В комнате был беспорядок. В одном месте на полу валялись клочки бумаги – видно, кто-то что-то распаковывал. Они были в Италии, вспомнил полковник. На столе стояло зеркало. Вероятно, одна из вещиц, которые она там подобрала: такие штуки обычно и привозят из Италии. Старое зеркало, все в пятнах. Полковник расправил перед зеркалом галстук.
Однако я предпочитаю зеркала, в которых можно себя увидеть, подумал он, отворачиваясь. Пианино открыто. И чашка с чаем – полковник улыбнулся, – как всегда, полупустая. По всей комнате ветки с высохшими красными и желтыми листьями. Она любит цветы. Полковник был рад, что не забыл свое обычное приношение. Он выставил цветок в папиросной бумаге перед собой. Но почему в комнате полно дыма? Вот опять потянуло… Оба окна в соседней комнате были открыты, дым шел из сада. Траву, что ли, жгут? Полковник подошел к окну и выглянул. Да, точно – Эжени с двумя девочками. Развели костер. Магдалена, его любимица, подбросила целую охапку палых листьев – высоко, как могла, – и пламя взвилось огромным веером.
– Это опасно! – крикнул полковник.
Эжени отвела детей от огня. Они подпрыгивали от восторга. Вторая девочка, Сара, проскочила под материнской рукой, сгребла еще одну охапку листьев и тоже бросила в костер. Пламя взвилось огромным веером. Подошел слуга-итальянец и доложил о приходе гостя. Полковник постучал по оконному стеклу. Эжени обернулась и увидела его. Одной рукой она прижала к себе детей, а другой помахала полковнику.
– Стой на месте! – крикнула она. – Мы сейчас придем!
Клок дыма налетел прямо на полковника, глаза его заслезились, он отвернулся и сел на стул у дивана. Через секунду торопливо вошла Эжени, протягивая к нему руки. Он встал и взял ее руки в свои.
– Мы жжем костер, – сказала она. Глаза у нее блестели, волосы выбились из прически. – Поэтому я такая растрепанная, – добавила она, поднося руку к голове. Даже в неприбранном виде она исключительно хороша, подумал Эйбел. Красивая, крупная женщина, начинающая полнеть, заметил он, когда они пожали руки, но ей это идет. Такие женщины привлекали его гораздо сильнее, чем типичные розовощекие англичанки. Ее плоть походила на желтоватый и мягкий воск, глаза были темные, как у иностранки, а на носу – горбинка. Полковник протянул ей камелию, свой традиционный подарок. Негромко ахнув, Эжени вынула цветок из папиросной бумаги и села.
– Как мило с твоей стороны! – сказала она, подержала цветок перед собой, любуясь, а потом, по своему обыкновению, взяла стебелек губами. Ее движения всегда казались полковнику очаровательными.
– Костер в честь дня рождения? – спросил он и запротестовал: – Нет-нет-нет, чаю я не хочу.
Она взяла свою чашку и отпила оставшийся холодный чай. Вид Эжени навеял полковнику воспоминания о Востоке: вот так женщины в жарких странах сидят в дверях домов, на солнце… Однако теперь было очень холодно: окно было открыто, дым несло в комнату. Полковник все еще держал в руке газету. Он положил ее на стол.
– Читала новость? – спросил он.
Эжени поставила чашку, ее большие темные глаза слегка расширились. Казалось, в них таятся огромные запасы чувств. Ожидая, когда полковник продолжит, она чуть подняла руку в вопросительном жесте.
– Парнелл, – отрывисто сказал Эйбел. – Умер.
– Умер?! – переспросила Эжени. Ее рука театрально упала.
– Да. В Брайтоне. Вчера.
– Парнелл умер! – повторила она.
– Выходит, так, – сказал полковник. Ее эмоциональность всегда заставляла его чувствовать себя более трезвым, но ему это нравилось. Она взяла газету.
– Бедняжка! – прошептала Эжени, бросив газету.
– Бедняжка? – переспросил полковник. Ее глаза наполнились слезами. Он был озадачен. Она имеет в виду Китти О’Шей? [28]28
Китти О’Шей – возлюбленная и затем (после развода с первым мужем) жена Ч. С. Парнелла. Их добрачные отношения стали причиной громкого скандала.
[Закрыть]О ней он и не подумал. – Ради него она поломала свою жизнь, – сказал полковник, слегка фыркнув.
– Ах, но как, должно быть, она его любила… – проговорила Эжени.
Она провела рукой по глазам. Полковник помолчал. Ее реакция казалась ему несоразмерной, но она была искренней. Ему это импонировало.
– Да, – сказал полковник довольно сухо. – Да, наверное.
Эжени опять взяла цветок и принялась вертеть его в руках. Время от времени она становилась странно рассеянной, но полковнику всегда бывало с ней легко. Рядом с ней его тело будто расслаблялось, точно спадало какое-то напряжение.
– Как страдают люди!.. – прошептала она, глядя на цветок. – Как они страдают, Эйбел! – Она повернулась и посмотрела прямо на него.
Из соседней комнаты влетел клуб дыма.
– Ты не боишься сквозняка? – спросил полковник, посмотрев на окно.
Она ответила не сразу. Покрутила цветок в руке. Затем встала и улыбнулась.
– Да-да. Закрой! – сказала она, изящно взмахнув рукой.
Полковник подошел к окну и закрыл его. Когда он обернулся, она уже стояла перед зеркалом и приводила в порядок волосы.
– Мы развели костер в честь дня рождения Мэгги, – тихо сказала Эжени, глядясь в рябое венецианское зеркало. – Поэтому, поэтому… – Она пригладила волосы и прикрепила камелию к платью. – Я такая…
Она чуть склонила голову набок, оценивая, как сочетается цветок с платьем. Полковник сел и стал ждать. Смотрел он в свою газету.
– Похоже, они собираются замять дело, – сказал он.
– Неужели ты хочешь сказать… – начала Эжени, но тут дверь открылась, и вошли дети. Мэгги, старшая, появилась первой, вторая девочка, Сара, держалась за ней.
– Приветствую! – громко сказал полковник. – Вот и они! – Он обернулся. Он очень любил детей. – Желаю тебе счастья и долголетия, Мэгги!
Он нащупал в кармане ожерелье, которое Кросби уложила в картонную коробочку. Мэгги подошла, чтобы взять подарок. Волосы у нее были расчесаны, и одета она была в чистое накрахмаленное платье. Девочка открыла коробку, и золотисто-синее ожерелье повисло на ее пальце. На мгновение полковник засомневался, нравится ли оно ей. На детской руке оно выглядело немного безвкусным. К тому же сама Мэгги молчала. Однако мать сразу нашла те слова, которые должна была произнести дочь:
– Какая прелесть, Мэгги! Просто прелесть!
Мэгги по-прежнему молча держала ожерелье.
– Скажи дяде Эйбелу спасибо за чудное ожерелье, – подсказала мать.
– Спасибо за ожерелье, дядя Эйбел, – четко и ровно повторила Мэгги, но полковник опять почувствовал укол сомнения. Его охватила досада, причем никак не соразмерная причине. Впрочем, мать застегнула ожерелье на шее у девочки, а затем повернулась к младшей дочери, которая подглядывала из-за спинки кресла. – Иди сюда, Сара, – сказала мать. – Подойди и поздоровайся.
Эжени протянула руку – и для того, чтобы подманить девочку, и чтобы скрыть едва заметный физический изъян, который всегда вызывал у полковника чувство неловкости. В раннем детстве ее уронили, и от этого одно плечо было слегка выше, чем другое. Полковник ощущал дурноту: он не мог выносить даже малейшее уродство в ребенке. Впрочем, это не влияло на настроение девочки. Она подскочила к нему, повернулась на одной ножке и поцеловала его в щеку. Затем она потянула сестру за платье, и обе, смеясь, выбежали в соседнюю комнату.
– Сейчас будут восхищаться твоим прелестным подарком, Эйбел, – сказала Эжени. – Как ты их балуешь! И меня тоже, – добавила она, прикоснувшись к цветку камелии на груди.
– Надеюсь, ей понравилось? – спросил полковник. Эжени не ответила. Она опять взяла чашку с холодным чаем и отпила в своей вальяжной манере южной женщины.
– А теперь, – сказала она, откинувшись на спинку, – расскажи мне все свои новости.
Полковник тоже откинулся на спинку и задумался. Какие у него новости? Вот так, сразу, в голову ничего не приходило. Рядом с Эжени ему всегда хотелось быть немножко эффектным. Она бросала отблеск на все вокруг себя. Пока он колебался, опять заговорила она:
– Мы чудесно провели время в Венеции! Я брала с собой детей. Поэтому мы все такие загорелые. Жили мы не на Большом канале – я терпеть не могу Большой канал, – но совсем рядом с ним. Две недели палящего солнца. А цвета… – Она помолчала. – Изумительные! – Эжени выбросила вперед руку. Жесты у нее были весьма выразительные. Вот так она все приукрашивает, подумал полковник. Но и этим она ему нравилась.
Он не был в Венеции много лет.
– Там были приятные люди? – спросил он.
– Ни души, – сказала Эжени. – Ни души. Никого, кроме жуткой мисс ***. Она из тех женщин, из-за которых начинаешь стыдиться своей родины! – с чувством произнесла она.
– Я знаю таких, – усмехнулся полковник.
– Но возвращаться из Лидо по вечерам, – продолжила Эжени, – когда сверху – облака, а снизу – вода… У нас был балкон, мы любили там сидеть. – Она сделал паузу.
– Дигби был с вами? – спросил полковник.
– Нет. Бедный Дигби. Он отдыхал раньше, в августе. Ездил в Шотландию, к Лассуэйдам, охотиться. Ему это на пользу, ты знаешь.
Вот опять, приукрашивает, подумал полковник.
Но Эжени заговорила опять:
– Так, расскажи о своих. Как там Мартин и Элинор, Хью и Милли, Моррис и… – Она запнулась. Полковник понял, что она забыла, как зовут жену Морриса.
– Силия, – подсказал он и замолчал. Он хотел рассказать о Майре, но стал говорить о детях: о Хью и Милли, Моррисе и Силии. И об Эдварде.
– Похоже, его ценят в Оксфорде, – пробурчал полковник. Он очень гордился Эдвардом.
– А Делия? – спросила Эжени. Она взглянула на газету.
Полковник сразу потерял всю свою приветливость. Он напустил на себя грозную мрачность и стал похож на старого быка, выставившего рога, подумала Эжени.
– Может быть, это образумит ее, – зло сказал он.
Помолчали. Из сада донеслись крики и смех.
– Ох уж эти дети! – воскликнула Эжени. Она встала и подошла к окну. Полковник последовал за ней.
Дети пробрались обратно в сад. Костер яростно полыхал. Посреди сада поднимался целый столб огня. Девочки танцевали вокруг него, галдя и хохоча. Рядом стоял обтрепанный старик с граблями, похожий на опустившегося конюха. Эжени распахнула окно и крикнула. Но девочки продолжали пляску. Полковник тоже высунулся. Они были похожи на дикарок с развевающимися волосами. Полковнику захотелось выбежать в сад и прыгнуть через костер, – но он был слишком стар. Пламя рвалось ввысь – расплавленное золото, красный жар.
– Браво! – крикнул полковник и захлопал в ладоши. – Браво!
– Маленькие чертовки! – сказала Эжени. Она радовалась не меньше них, отметил про себя полковник. Эжени перегнулась через подоконник и прокричала старику с граблями: – Подбросьте еще! Пусть горит ярче!
Но старик уже разгребал огонь. Головешки валялись порознь. Пламя опало.
Старик отогнал детей.
– Вот и все, – вздохнула Эжени и повернулась.
Кто-то вошел в комнату.
– Ой, Дигби, а я и не слышала! – воскликнула она. Дигби стоял с портфелем в руке.
– Здравствуй, Дигби! – сказал Эйбел, пожимая руку брату.
– Откуда столько дыма? – спросил Дигби, оглядываясь.
Он слегка постарел, подумал Эйбел. Дигби был в сюртуке, верхние пуговицы расстегнуты. Сюртук немного потертый, волосы с проседью. Но очень хорош собой. Рядом с ним полковник всегда чувствовал себя грузным, потрепанным жизнью, грубоватым. Ему было немного неловко за то, что его застали высунувшимся из окна и хлопавшим в ладоши. Он выглядит старше, подумал полковник, когда они стояли рядом, – а ведь он на пять лет моложе меня. Он был известным человеком в своей области: достиг высот, получил рыцарское звание и все остальное. Но я богаче, с удовлетворением вспомнил полковник. Поскольку из двух братьев именно Эйбел всегда считался неудачником.
– У тебя такой усталый вид, Дигби! – воскликнула Эжени, садясь. – Ему нужен настоящий отпуск. – Она повернулась к Эйбелу. – Скажи ты ему.
Дигби смахнул белую нитку, приставшую к его брюкам. Слегка кашлянул. Комната была полна дыма.
– Что это за дым? – спросил он жену.
– Мы жгли костер в честь дня рождения Мэгги, – сказала она, будто оправдываясь.
– Ах да, – сказал Дигби. Эйбелу стало неприятно: Мэгги была его любимицей, отцу следовало помнить, когда у нее день рождения.
– Да, – сказала Эжени, опять поворачиваясь к Эйбелу, – всем он позволяет уходить в отпуск, а сам никогда не отдыхает. К тому же после целого дня на работе приходит домой с полным портфелем бумаг. – Она указала на портфель.
– Нельзя работать после ужина, – сказал Эйбел. – Это дурная привычка.
У Дигби действительно малость нездоровый цвет лица, подумал полковник. Дигби не обратил внимания на женские эмоции.
– Читал новость? – спросил он у брата, указав на газету.
– Да, еще бы! – отозвался Эйбел. Он любил говорить с братом о политике, хотя его слегка задевало обыкновение того напускать на себя важный вид, будто он знает гораздо больше, чем может сказать. Все равно на следующий день все будет в газетах, подумал полковник. Тем не менее они всегда говорили о политике. Эжени им это позволяла, уютно устроившись в углу дивана. Она никогда не вмешивалась. Однако через некоторое время она встала и начала убирать с пола мусор, выпавший из ящика при распаковке. Дигби замолчал и смотрел на нее – через зеркало.
– Оно тебе нравится? – спросила Эжени, положив руку на рамку.
– Да, – сказал Дигби, но в его голосе послышалась нота порицания. – Недурственное.
– Для моей спальни, – быстро проговорила Эжени.
Дигби смотрел, как она набивает клочки бумаги в ящик.
– Не забудь, – сказал он, – мы ужинаем с Четэмами.
– Я помню. – Эжени опять прикоснулась к волосам. – Мне надо привести себя в порядок.
Кто такие «Четэмы»? – спросил себя Эйбел. Важные персоны, большие шишки, предположил он с некоторым презрением. Да, они много вращаются в этом мире. Полковник воспринял эту фразу как намек на то, что ему пора. Братья уже сказали друг другу все, что хотели. Он, однако, надеялся, что еще сможет поговорить с Эжени наедине.
– Насчет этих африканских дел… [29]29
По-видимому, имеется в виду напряженность, возникшая в то время между британцами и бурами в Трансваале.
[Закрыть]– начал полковник, вспомнив еще одну тему, но тут вошли дети, – чтобы пожелать спокойной ночи. На Мэгги было его ожерелье. Оно очень мило выглядит, подумал полковник, – или это сама девочка выглядит так мило? Но их платьица, чистые розово-голубые платьица, были измяты и перепачканы закопченными лондонскими листьями, которые побывали в их руках. – Чумазые негодницы! – сказал полковник с улыбкой.
– Зачем вы играли в саду в выходных платьях? – спросил сэр Дигби, целуя Мэгги. Он сказал это шутливо, но не без осуждения.
Мэгги не ответила. Ее взгляд был прикован к камелии на платье матери. Мэгги подошла ближе, продолжая смотреть на цветок.
– И ты – маленькая грязнуля! – сказал сэр Дигби, указывая на Сару.
– У Мэгги день рождения, – напомнила Эжени и протянула руку, как бы защищая дочь.
– Это как раз повод, я полагаю, – сказал сэр Дигби, окидывая дочерей взглядом, – чтобы-чтобы-чтобы улучшить поведенье. – Он повторил одно и то же слово несколько раз, пытаясь придать фразе игривость, но вышла она нескладной и напыщенной – как всегда, когда он говорил со своими детьми.
Сара посмотрела на отца, будто оценивая его.
– Чтобы-чтобы-чтобы улучшить поведенье, – повторила она. Слова потеряли смысл, зато девочка точно подхватила их ритм. Получилось довольно комично. Полковник засмеялся, заметив, однако, что Дигби раздражен. Он лишь погладил Сару по голове, когда она подошла пожелать ему спокойной ночи, зато Мэгги – поцеловал.
– День рождения удался? – спросил он, притягивая ее к себе.
Эйбел воспользовался моментом и стал прощаться.
– Но тебе же некуда спешить, Эйбел, а? – запротестовала Эжени, когда он протянул ей руку.
Она не отпускала его руку, будто не давая уйти. Что она имеет в виду? Она хочет, чтобы он остался или ушел? Взгляд ее больших темных глаз был двусмыслен.
– Но вы ведь идете ужинать, – сказал полковник.
– Да, – подтвердила Эжени и уронила его руку. Поскольку больше она ничего не сказала, ему оставалось лишь удалиться.
– Я прекрасно найду дорогу сам, – сказал полковник, покидая комнату.
Он медленно спускался по лестнице, чувствуя себя подавленным и разочарованным. Он не побыл с нею наедине, ничего ей не рассказал. Видимо, он так ничего никому и не расскажет. В конце концов, думал он, спускаясь по лестнице – медленно, тяжело, – это его личное дело, и оно больше никого не касается. У каждого свои заботы, думал он, беря шляпу и оглядываясь.
Да… Дом полон красивых вещей. Он окинул туманным взором большое темно-красное кресло с позолоченными ножками в форме птичьих лап, которое стояло в передней. Он завидовал Дигби – тому, какой у него дом, какая жена, какие дети. Полковник чувствовал, что стареет. Все его дети выросли и покинули его. Он остановился на пороге и выглянул на улицу. Почти стемнело, горели фонари. Осень была на исходе. Полковник зашагал по темной ветреной улице, по мостовой, уже испещренной дождевыми каплями. На него налетел клок дыма – прямо в лицо. Падали листья.
1907
Стояла середина лета, вечерами и ночами было жарко. Лунные лучи, падая на воду, выбеливали ее, отчего нельзя было понять, глубока она или дно совсем рядом. Твердые же предметы луна серебрила и наделяла блеском, так что даже листья на деревьях вдоль сельских дорог казались лакированными. По всем тихим сельским дорогам, ведущим к Лондону, тащились телеги. Крепкие поводья были неподвижно зажаты в сильных руках: овощи, фрукты и цветы путешествуют медленно. Высоко груженные корзинами с капустой, вишней, гвоздиками телеги походили на караваны племен, согнанных врагами со своего места и кочующих в поисках воды и новых пастбищ. Они тащились по разным дорогам, держась обочин. Даже лошади, даже будь они слепы, все равно различали бы в отдалении гул Лондона. А возницы, хотя и дремали, все же видели из-под полуопущенных век огненную дымку вечно пылающего города. На рассвете они слагали свое бремя на рынке Ковент-Гарден. Столы, помосты, даже булыжные мостовые были украшены капустой, вишней и гвоздиками – будто неземными одеждами, сваленными перед стиркой.
Все окна были открыты. Звучала музыка. Из-за темно-красных полупрозрачных занавесок, которые то и дело надувались от ветра, неслись звуки вечного вальса: «После веселого бала, танцы и шум позади…» [30]30
«После бала» (1892) – исключительно популярный в свое время вальс Ч. К. Харриса (1867–1930).
[Закрыть], подобного змее, проглотившей свой хвост, – кольцо замыкалось где-то между Хаммерсмитом и Шордичем. Вальс повторяли снова и снова тромбоны у пивных заведений, его насвистывали юные посыльные, его же играли для танцующих оркестры в частных домах. Люди сидели за маленькими столиками в романтической таверне, что нависает над рекой в Уоппинге [31]31
Уоппинг – район доков в Лондоне. Имеется в виду, скорее всего, один из старейших пабов – «Надежда Уитби», построенный в 1570 г. и существующий до сих пор.
[Закрыть]– между складами древесины, к которым пришвартованы баржи; та же картина – в Мейфэре. На каждом столике своя лампа, с абажуром из тугого красного шелка, и цветы, которые еще в полдень тянули влагу из земли, а теперь расслабились и распустили лепестки в вазах. На каждом столике – горка клубники и бледная жирная перепелка. А Мартину – после Индии, после Африки – казалось волнующим обратиться к девушке с голыми плечами, к женщине, чьи волосы переливались украшавшими их зелеными крылышками жуков, и сказать ей что-то в духе вальса, который заглушал половину слов своими любовными трелями. Какая разница, что именно сказано? Она глянула через плечо, почти не слушая, и к ней подошел мужчина с орденами, а дама в черном платье, с брильянтами, отозвала его в укромный уголок.
Вечер сгущался, и нежно-голубой свет ложился на базарные телеги, которые все тащились вдоль обочин – мимо Вестминстера, мимо круглых желтых часов, мимо кофейных ларьков и статуй, окоченело сжимавших свои жезлы и свитки. Следом шли уборщики, поливавшие мостовые. Окурки сигарет, кусочки серебристой бумаги, апельсиновая кожура – весь дневной мусор сметался прочь; а телеги все тащились, экипажи неутомимо тряслись по невзрачным улицам Кенсингтона, под искрящимися огнями Мейфэра, везя дам с высокими прическами и господ в белых жилетах по разбитым сухим мостовым, которые в лунном свете казались покрытыми тонким слоем серебра.
– Смотри! – сказала Эжени, когда экипаж въехал на мост в летних сумерках. – Прелестно, правда?
Она указала рукой на воду. Они пересекали Серпантин. Впрочем, замечание было сделано лишь вскользь: Эжени слушала то, что говорил ее муж. С ними была и дочь, Магдалена; она посмотрела туда, куда указала мать. Серпантин пламенел в лучах заходящего солнца; группы деревьев смотрелись скульптурно, постепенно теряя подробности очертаний; картину завершала призрачная конструкция белого мостика. Свет фонарей и остатки солнечного света странно смешивались между собой.
– …конечно, это поставило правительство в трудное положение, – говорил сэр Дигби. – Но ведь именно этого он и хочет.
– Да… Этот молодой человек прославится, – сказала леди Парджитер.
Экипаж миновал мост и оказался в тени деревьев. Затем он покинул парк и присоединился к длинной, двигавшейся в сторону Марбл-Арч веренице других экипажей, которые везли людей в вечерних нарядах на спектакли и званые ужины. Свет становился все более искусственным и желтым. Эжени наклонилась и прикоснулась к платью дочери. Мэгги подняла глаза. Она думала, что родители по-прежнему говорят о политике.
– Так… – сказала мать, поправляя цветок на груди Мэгги. Она склонила голову набок и с одобрением посмотрела на дочь. Затем она вдруг рассмеялась и простерла руку в сторону. – Ты знаешь, что меня так задержало? Эта проказница Салли…
Но ее перебил муж. Ему на глаза попались освещенные часы.
– Мы опоздаем, – сказал он.
– Но восемь пятнадцать означает восемь тридцать, – возразила Эжени, когда они свернули в переулок.
В доме на Браун-стрит царила тишина. Свет фонаря проникал через оконце над входной дверью, причудливо выхватывая из тьмы поднос с бокалами на столе, цилиндр и кресло с позолоченными ножками в форме птичьих лап. Пустое кресло точно ждало кого-то и от этого выглядело торжественно, будто стояло на потрескавшемся полу в какой-нибудь итальянской прихожей. Но все молчало. Слуга Антонио спал. Служанка Молли спала. Только внизу, в цокольном этаже, то открывалась, то закрывалась со стуком дверь. И больше никаких звуков.
Салли в своей спальне под самой крышей дома повернулась на бок и прислушалась. Ей показалось, что входная дверь щелкнула. В открытое окно хлынула танцевальная музыка, заглушившая все на свете.
Салли села на постели и посмотрела в щелку между шторами. Ей было видно полоску неба, крыши, дерево в саду, а еще – напротив – зады длинного ряда домов. Один из них был ярко освещен, из открытых высоких окон неслась танцевальная музыка. Там вальсировали. Салли видела, как по шторам пляшут тени. Читать было невозможно, спать – тоже. Сначала мешала музыка, потом вдруг послышался разговор; люди вышли в сад, голоса затараторили. Потом опять началась музыка.
Стояла теплая летняя ночь, и, хотя было уже поздно, весь мир как будто шевелился. Шум уличного движения звучал отдаленно, но неумолчно.
На постели Салли лежала выцветшая коричневая книга, но она не читала. Читать было невозможно, спать – тоже. Она легла на спину, подложив руки под голову.
– И он говорит, – прошептала Салли, – что мир это лишь… – Она замялась. Как он сказал? Лишь мысль, кажется? – спросила она у себя, как будто успела забыть те слова. Что ж, раз нельзя ни читать, ни спать, она позволит себе бытьмыслью. Легче представить себя чем-то, а не думать об этом. Ее ноги, руки, все тело должны лежать неподвижно, чтобы принять участие в этом вселенском процессе мышления, который, как сказал этот человек, и есть жизнь мира. Салли вытянулась. Где начинается мысль?
В ступнях? Вот они, выпирают под простыней. Они показались ей существующими отдельно, очень далеко. Она закрыла глаза. Тут, невольно, что-то в ней напряглось. Невозможно представить себя мыслью. Она стала чем-то конкретным: древесным корнем, погруженным в землю; сосуды пронизывали холодную плоть; дерево простирало ветви, на ветвях были листья…
– …солнце светит сквозь листья, – произнесла Салли, шевеля пальцем. Она открыла глаза, желая убедиться, что солнечный свет лежит на листьях, и увидела настоящее дерево за окном в саду. На нем не было и намека на солнечный свет и ни одного листа. Салли на мгновение показалось, что кто-то ей возражает. Поскольку дерево было черно, совершенно черно.
Она облокотилась на подоконник и выглянула, чтобы рассмотреть дерево получше. Из зала, где танцевали, донеслись нестройные аплодисменты. Музыка затихла. Все стали спускаться по железной лестнице в сад, стена которого была обозначена голубыми и желтыми фонарями. Голоса зазвучали громче. Людей становилось все больше и больше. Ограниченный пунктирной линией зеленый квадрат был полон бледных фигур женщин в вечерних платьях и прямых черно-белых фигур мужчин в вечерних костюмах. Салли наблюдала, как они входят и выходят. Люди разговаривали и смеялись, но они были слишком далеко, чтобы можно было расслышать слова. Порой одно слово или хохот отделялись от общего фона, а потом все опять заполнял неясный гомон. В саду Парджитеров было пусто и тихо. По стене воровато кралась кошка. Остановилась. Затем двинулась дальше – будто по какому-то тайному заданию. Грянул очередной танец.
– Ну вот, опять! Опять и опять! – раздраженно воскликнула Салли. Ветерок, напитанный странным сухим запахом лондонской почвы, повеял ей в лицо, вздувая шторы. Растянувшись на постели, она смотрела на луну, которая висела на невообразимой высоте. На фоне луны плыли клочки тумана. Наконец они пропали, и Салли увидела линии, будто высеченные на белом диске. Что это? – подумала она. Горы? Долины? А если долины, стала она воображать, закрыв глаза, то там есть белые деревья, холодные пещеры, и соловьи – два соловья призывают друг друга, перекликаются через долину… Вальс подхватил слова «два соловья призывают друг друга» и разнес по округе, однако, повторяя ритм снова и снова, он огрубил их, сгубил их. Танцевальная музыка вторгалась во все. Сначала она вызывала восторг, потом надоедала и, наконец, становилась невыносимой. А ведь было всего без двадцати час.
Губа Салли приподнялась, как у лошади, которая собирается укусить. Коричневая книжка оказалась скучной. Салли протянула руку над головой – к полке, уставленной потертыми книгами, – и не глядя достала с полки другой томик. Она открыла его наугад. Однако взгляд ее привлекла одна из парочек, по-прежнему сидевшая в саду, хотя остальные ушли в дом. О чем они говорят, интересно, подумала Салли. В траве что-то блестело. Она увидела, что черно-белая фигура наклонилась и подняла неизвестный предмет.
– И, поднимая его, – прошептала Салли, выглядывая из окна, – он говорит своей даме: «Смотрите, мисс Смит, что я нашел в траве, – осколок моего сердца, моего разбитого сердца. Я нашел его в траве и буду носить на груди», – и она пробормотала в такт печальному вальсу: – Сердце разбито любовью, точно… – Она прервалась и посмотрела в книгу. На форзаце было написано:
«Саре Парджитер от ее двоюродного брата Эдварда Парджитера».
– …точно стеклянный сосуд, – закончила она, перевернула титульный лист и прочитала: – «Антигона Софокла, переложенная на английские стихи Эдвардом Парджитером».
Салли опять выглянула из окна. Мужчина и женщина покинули сад и уже поднимались по железной лестнице. Она проследила за ними взглядом. Они вошли в танцевальный зал.
– Наверное, посреди танца, – прошептала она, – он достанет находку, посмотрит на нее и скажет: «Что это? Всего лишь осколок стекла… осколок стекла». – Салли вновь обратилась к книге. – «Антигона Софокла», – прочла она.








