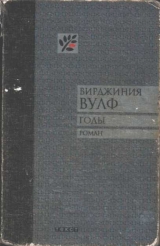
Текст книги "Годы"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
1914
Была роскошная весна, стоял лучезарный день. Воздух, омывая древесные кроны, как будто бы журчал, дрожал, вибрировал. Листья ярко зеленели. Часы старинных сельских церквей дребезжа отбивали время, хриплый бой летел над полями, красными от клевера, и вспугивал стаи грачей. Птицы делали круг и садились на верхушки деревьев.
Лондон облачился в крикливый наряд: начинался сезон. Гудели автомобильные рожки, рычали моторы, флаги туго трепыхались на ветру, как форель в ручье. И со всех лондонских колоколен – от модных святых Мейфэра, от вышедших из моды святых Кенсингтона, от дряхлых святых Сити – неслась весть о протекших часах. Воздух над Лондоном казался морем звуков, по которому расходились круги. Но часы показывали время по-разному, как будто сами святые были не согласны друг с другом. В воздухе повисали паузы, промежутки тишины… А затем часы били опять.
Одни из часов было слышно и на Эбери-стрит, но голос их звучал отдаленно и слабо. Они пробили одиннадцать раз. Мартин стоял у окна и смотрел вниз на узкую улицу. Солнце светило вовсю, он был в наилучшем настроении и собирался посетить своего биржевого маклера в Сити. Дела у Мартина шли прекрасно. Когда-то он думал, что его отец накопил много денег, но потом потерял их. Однако оказалось, что после этого он опять накопил и встретил свою кончину с тугим кошельком.
Мартин любовался на модницу в прелестной шляпке, которая рассматривала вазу в витрине антикварного магазина напротив. Это была синяя ваза, она стояла на китайском стенде, на фоне зеленой парчи. Покатые симметричные очертания вазы, темно-синий цвет, трещинки на глазури ласкали взгляд Мартина. И смотревшая на вазу женщина была очаровательна.
Взяв шляпу и трость, он вышел на улицу. Часть пути до Сити он собирался пройти пешком.
– «Дочь короля Испании, – напевал он, поворачивая на Слоун-стрит, – приехала ко мне…» – Мартин разглядывал витрины, мимо которых шел. В них было множество летних платьев, воздушных нарядов из зеленого шелка и газа, стайки шляпок на шестиках. – «…чтоб увидать на дереве серебряный орех».
Что еще за серебряный орех на дереве? – думал он. Вдалеке шарманка играла задорную джигу. Шарманка крутилась и крутилась, перемещаясь туда-сюда, как будто старик шарманщик танцевал под свою музыку. Хорошенькая служанка взбежала по ступеням и дала старику монетку. Его угодливое итальянское лицо сморщилось, он сорвал с головы шляпу и поклонился девушке. Она улыбнулась в ответ и скрылась в своей кухне.
– «…чтоб увидать на дереве серебряный орех», – мурлыкал Мартин, заглядывая за заборчик в кухню, где сидели служанки. Их компания выглядела очень уютно, на кухонном столе стоял заварочный чайник, лежали хлеб и масло. Трость Мартина виляла туда-сюда, как хвост жизнерадостного песика. Все люди казались ему беспечными и легкомысленными, они выпархивали из домов и фланировали по улицам, раздавая монетки шарманщикам и нищим. У всех были деньги, чтобы их тратить. Женщины собирались у стеклянных витрин. Мартин тоже остановился и стал смотреть: на игрушечный кораблик, на ящички с рядами сверкающих серебряных флаконов. Кто же все-таки написал эту песенку о дочери короля Испании, которую пела Пиппи, когда протирала ему уши противной мокрой фланелью? Она сажала его к себе на колени и каркала хрипло-дребезжащим голосом: «Дочь короля Испании приехала ко мне, чтоб увидать…» Внезапно ее колено опускалось, и Мартин падал на пол.
А вот и площадь Гайд-Парк-Корнер. Здесь было оживленное движение. Повозки, автомобили, моторные омнибусы текли рекой с холма. На деревьях Гайд-парка виднелись зеленые листочки. Авто с жизнерадостными дамами в светлых платьях уже въезжали в ворота. Все торопились по своим делам. Кто-то, заметил Мартин, написал розовым мелом на воротах Эпсли-Хауза: «Бог есть любовь». На это нужна недюжинная храбрость, подумал он, – чтобы написать «Бог есть любовь» на воротах Эпсли-Хауза, когда в любой момент тебя может сцапать полицейский. Но вот подошел его омнибус. Мартин взобрался на второй этаж.
– До Святого Павла, – сказал он, протягивая кондуктору мелочь.
Омнибусы кружили и вились в безостановочном водовороте вокруг ступеней собора Святого Павла. Белая статуя королевы Анны будто главенствовала над этим хаосом, была его центром, как ось у колеса. Казалось, она направляет движение своим скипетром, руководит человечками в котелках и пиджаках, женщинами с чемоданчиками, повелевает повозками, грузовиками и моторными омнибусами. То и дело от толпы отделялись фигурки и поднимались по ступеням в церковь. Двери собора открывались и закрывались без перерыва. Иногда наружу вырывались приглушенные звуки органной музыки. Голуби ходили вразвалку, воробьи порхали. Вскоре после полудня старичок с бумажным пакетом занял свое место на средних ступенях собора и принялся кормить птиц. Он держал кусок хлеба в протянутой руке. Его губы шевелились. Казалось, он улещивает, уговаривает птиц. Почти сразу его окружил ореол хлопающих крыльев. Воробьи усаживались ему на голову и на руки, голуби ковыляли у его ног. Небольшая толпа собралась, чтобы посмотреть, как он кормит воробьев. Старик разбрасывал хлеб вокруг себя. Затем воздух задрожал. Большие часы, а с ними вместе и все часы города, как будто собрались с силами, как будто издали предупреждающее ворчание. Наконец грянул удар. «Час дня», – означала громогласная весть. Все воробьи поднялись в воздух. Даже голуби перепугались: некоторые из них совершили короткий облет вокруг головы королевы Анны.
Когда затихли последние отголоски удара, Мартин вышел на открытое пространство перед собором.
Он пересек проезжую часть и встал, прислонившись спиной к витрине магазина, глядя вверх на огромный купол. У него было удивительное чувство, будто составные части его тела пришли в движение и, сложившись заною – в соответствии с гармонией здания, – замерли. Эта перемена пропорций восхищала его. Он жалел, что не стал архитектором. Он стоял, прижавшись спиной к витрине, и старался проникнуться ощущением всего собора в целом. Но это было трудно из-за сновавших мимо людей. Они натыкались на него, задевали. Был час пик: служащие из Сиги спешили на обед. Они срезали углы по ступеням собора. Голуби взлетали и садились. Мартин начал подниматься по ступеням, глядя на то и дело открывающиеся и закрывающиеся двери. Как надоедливы эти голуби, подумал он, – мешаются под ногами. Он медленно шел наверх.
«Кто это? – подумал он, увидев девушку, которая стояла у одной из колонн. – Что-то знакомое…»
Ее губы шевелились – она говорила сама с собой.
«Это же Салли!» – осенило Мартина. Он заколебался: заговорить с ней или нет? Чье-нибудь общество сейчас не помешало бы: ему надоело быть наедине с собой.
– О чем задумалась, Сэл? – спросил он, хлопнув ее по плечу.
Она обернулась; выражение ее лица мгновенно изменилось.
– Как раз о тебе, Мартин! – воскликнула Салли.
– Вот уж неправда.
Они пожали руки.
– Стоит мне о ком-то подумать, он всегда появляется. – Она сделала характерное для нее переминающееся движение и стала похожа на взъерошенную курицу, тем более что была одета в пальто немодного покроя. Они постояли немного на ступенях, глядя вниз на многолюдную улицу. Двери собора в очередной раз открылись, оттуда вылетели аккорд органной музыки и неясное бормотание священника. За дверями был церковный полумрак.
– Так о чем же ты… – начал Мартин, но не договорил. – Идем-ка пообедаем, – предложил он. – Приглашаю тебя в здешний мясной ресторан. – И он повел Салли вниз по лестнице, а потом по узкому переулку, запруженному телегами, на которые грузчики бросали из складов коробки.
Мартин и Салли толкнули крутящиеся двери и вошли в ресторан.
– Сегодня много посетителей, Альфред, – приветливо заметил Мартин, когда официант принимал его пальто и шляпу и устраивал их на вешалке. Мартин знал официанта, потому что часто здесь обедал, и официант знал его.
– Очень много, капитан, – сказал тот.
– Ну, – проговорил Мартин, садясь, – что будем есть?
От столика к столику на тележке катали большой коричневато-желтый кусок мяса с костью.
– Это, – сказала Сара, указав рукой.
– А пить? – Мартин взял винную карту и стал ее изучать.
– Пить? Напитки выберешь ты. – Сара сняла перчатки и положила их на красновато-коричневую книжечку – явно молитвенник.
– Напитки выберу я, – согласился Мартин. Интересно, подумал он, страницы молитвенников всегда бывают украшены золотой и красной краской? Он выбрал вино. – И что же ты делала, – спросил он, отпустив официанта, – у собора Святого Павла?
– Слушала богослужение.
Сара огляделась. В зале было жарко и многолюдно. Стены были покрыты золотыми листьями, инкрустированными по коричневому фону. Люди постоянно проходили мимо, входили, выходили. Официант принес вино. Мартин наполнил бокал Сары.
– Не знал, что ты посещаешь службы, – сказал он, посмотрев на молитвенник.
Сара не ответила. Она все смотрела вокруг, на входящих и выходящих людей, и понемногу отпивала вино. На ее щеках начал проступать румянец. Она взяла нож и вилку и принялась за превосходную баранину. Несколько минут ели в молчании.
Мартину хотелось разговорить ее.
– И что же, Сэл, – спросил он, дотронувшись до книжечки, – ты в этом находишь?
Она открыла молитвенник наугад и начала читать со своей обычной интонацией:
– «Непостижим Отец, непостижим Сын…» [45]45
«Непостижим Отец, непостижим Сын…» – цитата из Символа веры св. Афанасия Великого (293–373).
[Закрыть]
– Тихо! – прервал ее Мартин. – Люди слышат.
Из уважения к нему она стала вести себя, как дама, пришедшая в ресторан обедать с кавалером.
– А что ты делал у собора? – спросила Сара.
– Жалел, что не стал архитектором. Вместо этого меня отправили в армию, которую я ненавидел! – с чувством ответил Мартин.
– Тихо! – шепнула Сара. – Люди слышат.
Он быстро оглянулся, а затем рассмеялся. Официант поставил на стол пирожные. Опять стали есть молча. Мартин вновь наполнил бокал Сары. Ее щеки горели, глаза блестели. Он завидовал наполнявшему ее чувству всеобщего благополучия, которое он и сам раньше испытывал, выпив бокал вина. Вино было кстати – оно снимало преграды. Он хотел разговорить ее.
– Я не знал, что ты посещаешь службы, – сказал он, глядя на молитвенник. – И что ты об этом думаешь?
Сара тоже посмотрела на молитвенник. Затем постучала по нему вилкой.
– А что думают они,Мартин? Женщина, которая молится, и старик с длинной седой бородой?
– Почти то же самое, что думает Кросби, когда приходит ко мне, – сказал Мартин. Он вспомнил старушку, стоявшую у двери его комнаты с пижамной рубашкой на руке, вспомнил преданное выражение на ее лице. – Для Кросби я бог, – объяснил он, подкладывая Саре брюссельской капусты.
– Бог старой Кросби! – засмеялась Сара. – Всемогущий, всесильный Мартин!
Она подняла бокал в его честь. Она что, смеется над ним? – подумал он. Он надеялся, что не кажется ей слишком старым.
– Ты ведь помнишь Кросби? – спросил он. – Она на пенсии, а пес ее умер.
– На пенсии, а пес умер? – переспросила Сара.
Она опять посмотрела через плечо. Разговаривать в ресторане было невозможно, беседа распадалась на мелкие фрагменты. Мимо без конца проходили служащие из Сити в аккуратных полосатых костюмах и котелках.
– Это хороший храм, – сказала Сара, глянув на Мартина.
Она вернулась к теме собора, понял Мартин.
– Великолепный, – согласился он. – Ты смотрела на статуи?
Вошел человек, которого Мартин узнал: Эрридж, биржевой маклер. Он поманил Мартина пальцем. Мартин встал и отошел поговорить с ним. Когда он вернулся, Сара уже опять наполнила свой бокал. Она сидела и смотрела на людей, точно была маленькой девочкой, которую он привел на рождественский сказочный спектакль.
– Какие планы на вечер? – спросил Мартин.
– В четыре – на Круглый пруд, – сказала Сара, постукивая ладонью по столу. – В четыре – на Круглый пруд.
Теперь она перешла, подумал Мартин, в сонное благодушие, следующее за сытным обедом с вином.
– С кем-нибудь встречаешься там?
– Да, с Мэгги.
Помолчали. До них долетали обрывки чужих разговоров. Человек, к которому отходил Мартин, удаляясь, тронул его за плечо.
– В среду в восемь, – сказал он.
– Точно, – откликнулся Мартин и сделал пометку в своей записной книжке.
– А какие планы на вечер у тебя? – спросила Сара.
– Надо навестить сестру в тюрьме, – сказал Мартин, поджигая сигарету.
– В тюрьме?
– Розу. Она сидит за то, что бросила камень.
– Рыжая Роза, красная Роза, – начала Сара, опять потянувшись за вином, – дикая Роза, колючая Роза…
– Не надо, – сказал Мартин, закрыв ладонью горлышко бутылки. – Тебе хватит.
Она немного возбуждена. Надо ее утихомирить. Люди все слышат.
– Дьявольски неприятная штука, – сказал он, – сидеть в тюрьме.
Она придвинула к себе бокал и сидела, уставившись на него, словно механизм ее мозга внезапно отключился. Она была очень похожа на мать, только смеялась по-другому.
Мартину хотелось поговорить с ней о ее матери. Но разговаривать было невозможно. Слишком много людей слушает, к тому же они курят. Дым, смешанный с мясным запахом, создавал духоту. Мартин вспоминал прошлое, когда Сара воскликнула:
– Сидит на трехногом стуле, и в нее впихивают мясо! [46]46
Попавшие в тюрьму суфражистки часто объявляли голодовку и подвергались насильственному кормлению.
[Закрыть]
Мартин очнулся от воспоминаний. Она имеет в виду Розу?
– Камень наделал дел! – Сара засмеялась, взмахнув в воздухе вилкой. – «Сверните карту Европы, – сказал он лакею. – Я не верю в силу» [47]47
«Сверните карту Европы, она не понадобится еще десять лет», – слова британского политического деятеля Уильяма Питта-младшего (1759–1806, премьер-министра с 1783 по 1801), произнесенные им после битвы под Аустерлицем.
[Закрыть].
Она положила вилку на тарелку, так что сливовая косточка подпрыгнула. Мартин огляделся. Люди слушали. Он встал.
– Ну, пойдем? Если ты сыта.
Она поднялась и стала искать свое пальто.
– Я получила удовольствие, – сказала она, беря пальто. – Спасибо, Мартин, за вкусный обед.
Он подозвал официанта, который с готовностью подошел и выписал счет. Мартин положил на тарелку соверен. Сара начала продевать руки в рукава пальто.
– Сходить с тобой, – предложил Мартин, помогая ей, – на Круглый пруд в четыре?
– Да! – воскликнула она, повернувшись на каблуке. – На Круглый пруд в четыре!
Она пошла к выходу – слегка нетвердой походкой, заметил Мартин – мимо служащих из Сити, которые по-прежнему сидели и ели.
Подошел официант со сдачей, и Мартин начал опускать монетки в карман. Одну он оставил на чаевые. Но, уже собираясь дать их, он вдруг заметил что-то вороватое в выражении лица Альфреда. Мартин приподнял счет – под ним лежала монета в два шиллинга. Обычная уловка. Мартин вышел из себя.
– Что это? – гневно спросил он.
– Я не знал, что она там, сэр, – заикаясь, проговорил официант.
Мартин почувствовал, что у него краснеют уши. В гневе он очень походил на отца, у него тоже проступали белые пятна на висках. Он бросил монетку, предназначавшуюся для официанта, в карман и прошел мимо него, оттолкнув его руку. Тот отступил, что-то бормоча.
– Идем, – сказал Мартин, торопливо ведя Сару через многолюдный зал. – Прочь отсюда.
Он вывел ее на улицу. Спертый воздух, запах горячего мяса вдруг стали невыносимы для него.
– Ненавижу, когда меня обманывают! – сказал он, надевая шляпу. – Прости, Сара. Не надо было водить тебя туда. Гнусная дыра.
Он вдохнул свежий воздух. Уличные звуки, безучастный, деловитый вид всего вокруг бодрили после ресторанной жары и духоты. Вдоль улицы выстроились телеги, из складов в них летели ящики. Мартин и Сара опять вышли к собору Святого Павла. Он поднял голову. Старик по-прежнему кормил воробьев. И собор был все тот же. Мартину захотелось опять ощутить, как приходят в движение и замирают составные части его тела, но чувство физического единения с каменной громадой не вернулось. Он чувствовал только злость. К тому же его отвлекала Сара. Она собиралась перейти оживленную улицу. Мартин протянул руку, чтобы задержать ее.
– Осторожно, – сказал он.
Они перешли дорогу.
– Пойдем пешком? – спросил он. Она кивнула.
Они пошли по Флит-стрит. Разговаривать было невозможно. Тротуар был очень узкий, и Мартину то и дело приходилось сходить с него, чтобы идти рядом с Сарой. Ему все еще было неприятно от пережитого приступа злости, хотя сама злость почти прошла. Как я должен был поступить? – думал он, вспоминая, как прошел мимо официанта, не дав ему на чай. Не так, думал он, не так. Люди теснили его, вынуждая сходить с тротуара. В конце концов, бедному негодяю надо зарабатывать на жизнь. Мартин любил быть великодушным, любил оставлять за собой улыбающихся людей, да и два шиллинга ничего для него не значили. Но что толку рассуждать, когда уже поздно? Он начал было напевать ту же песенку, но перестал – вспомнив, что он не один.
– Ты только посмотри, Сэл! – сказал он, сжимая ее руку. – Ты посмотри!
Он указал на раскоряченного грифона на вершине Темпл-Бар-Мемориал [48]48
Темпл-Бар-Мемориал – памятник, сооруженный в 1880 г. по проекту Горация Джонса и представляющий собой высокий постамент со статуями королевы Виктории и принца Эдварда; венчает монумент фигура грифона.
[Закрыть], нелепого, как обычно: не то змея, не то птица.
– Посмотри! – повторил Мартин со смехом.
Они остановились, чтобы рассмотреть плоские фигурки, неуклюже прилепленные к постаменту: королеву Викторию, короля Эдуарда. Затем пошли дальше. В толпе говорить было невозможно. Люди в париках и мантиях торопливо переходили улицу, одни несли красные сумки, другие – синие [49]49
Начинающий британский юрист носит свой наряд (мантию, парик, ленты) в синей сумке. Достигнув успеха под руководством королевского адвоката, он получает от него в подарок красную сумку, которая служит символом признания профессиональной состоятельности.
[Закрыть].
– Дом правосудия. – Мартин указал на затейливо украшенную, но холодную каменную громаду. У нее был мрачный, похоронный вид. – Здесь проводит свою жизнь Моррис, – громко добавил он.
Он все еще чувствовал неловкость из-за того, что вышел из себя. Но это уже проходило. В его сознании остался лишь крохотный заусенец.
– Ты считаешь, я должен был… – начал он, собираясь сказать: «…стать адвокатом?», но также и: «должен был вести себя сдержаннее с официантом?»
– Что должен был? – спросила Сара, наклоняясь к нему. За уличным шумом она не расслышала.
Говорить было невозможно, но, во всяком случае, неприятный осадок от того, что он вышел из себя, постепенно таял. Легкое покалывание совести давало себя знать все меньше. Но вдруг оно возобновилось с новой силой: Мартин увидел нищую, продававшую фиалки. И этот негодяй, подумал он, остался без чаевых из-за того, что обманул меня… Он сосредоточил взгляд на почтовом ящике. Затем посмотрел на автомобиль. Удивительно, как быстро все привыкли к экипажам без лошадей, подумал он. Раньше они смотрелись так нелепо. Они прошли мимо женщины, продававшей фиалки. Ее шляпка была надвинута на лицо. Мартин бросил на ее поднос шестипенсовик – во искупление вины перед официантом. Он помотал головой. Фиалок не надо. К тому же они увядшие. Но он успел разглядеть ее лицо. Там не было носа. Оно было изборождено белыми рубцами, а посередине виднелись красные ободки ноздрей. Женщина была безносая и надвинула шляпку, чтобы скрыть это.
– Давай перейдем, – быстро сказал Мартин. Он взял Сару за руку и провел ее между омнибусов. Должно быть, она видит такое часто. Как и он. Но вместе – это совсем другое.
Они ступили на противоположный тротуар.
– Сядем в омнибус, – сказал Мартин. – Идем.
Он взял ее за локоть, чтобы она шла быстрее. Но это было невозможно: дорогу перегородила телега, по тротуару сновали люди. Впереди уже вздымался Чаринг-Кросс. Мужчин и женщин засасывало внутрь, как воду между быков моста. Пришлось остановиться. Мальчишки-газетчики стояли с плакатами у ног. Люди покупали газеты; одни задерживались, другие хватали газеты на ходу. Мартин тоже купил газету, теперь он держал ее в руке.
– Подождем здесь, – сказал он. – Омнибус придет.
Старая соломенная шляпка с розовой лентой, думал он, раскрывая газету. Образ женщины стоял у него перед глазами. Он поднял голову.
– Вокзальные часы всегда спешат, – успокоил он мужчину, торопившегося на поезд. Всегда спешат, повторил он про себя, раскрывая газету. Но никаких часов не было.
Он стал читать сообщения из Ирландии. Омнибусы один за другим останавливались и вновь отъезжали. Сосредоточиться на сообщениях из Ирландии было трудно. Мартин поднял голову.
– Это наш, – сказал он, когда подошел нужный им номер.
Они забрались на второй этаж и сели бок о бок над водителем.
– Два до Гайд-Парк-Корнер, – сказал Мартин, протягивая горсть мелочи, и стал дальше просматривать вечернюю газету. Но это был только первый выпуск. – Ничего интересного, – Мартин сунул газету под сиденье. – А теперь… – начал он, набивая трубку. Омнибус гладко катил вниз по склону Пикадилли. – Здесь был завсегдатаем мой отец, – перебил он себя, указав трубкой на окно Клуба. – А теперь, – он зажег спичку, – теперь, Салли, ты можешь говорить что угодно. Никто не слышит. Скажи что-нибудь, – он бросил спичку на мостовую, – что-нибудь значительное.
Мартин повернулся к ней лицом. Он хотел, чтобы она говорила. Они то съезжали вниз, то взмывали вверх. Он хотел, чтобы говорила она, иначе придется говорить ему. А что он может сказать? Он давно похоронил свои чувства. Но какое-то ощущение осталось. Он хотел, чтобы она его высказала, однако она молчала. Если скажу я, она подумает про меня, будто…
Он посмотрел на нее. Солнечные блики горели на окнах больницы Святого Георгия. Сара взирала на нее с восхищением. Но почему с восхищением? – думал Мартин, когда омнибус остановился и они выходили из него.
С утра сцена немного изменилась. Часы в отдалении били три часа. Автомобилей прибавилось, стало больше женщин в светлых летних платьях, больше мужчин во фраках и серых цилиндрах. Начиналось шествие через ворота в парк. Все выглядели празднично. Даже юные помощницы портних с картонными коробками имели такой вид, будто участвовали в неком торжестве. По краю Роттен-Роу [50]50
Роттен-Роу – широкая аллея в Гайд-парке, вымощенная гравием.
[Закрыть]были выставлены зеленые стулья. На них сидели люди, они оглядывались вокруг так, словно были зрителями на спектакле. По Роттен-Роу легким галопом двигались всадники; они доезжали до конца, осаживали лошадей и поворачивали обратно. Ветер дул с запада, неся по небу белые облака с золотистыми прожилками. Лазурью и золотом сияли окна на Парк-Лейн.
Мартин быстро вышел из омнибуса.
– Идем, – сказал он. – Пошли, пошли!
Я молод, думал он. Я в расцвете сил. В воздухе терпко пахло землей. Даже в парке чувствовался аромат весны, сельских просторов.
– Как я люблю… – громко начал Мартин и оглянулся. Он говорил с пустотой. Сара отстала и завязывала шнурок на ботинке. Мартину показалось, будто он спускался по лестнице и промахнулся мимо ступеньки. – Каким дураком себя чувствуешь, когда говоришь сам с собой, – сказал он, подходя к ней. Она простерла руку и сказала:
– Посмотри, все так делают.
В их сторону шла женщина средних лет. Она разговаривала сама с собой. Ее губы шевелились, а рука жестикулировала.
– Это все весна, – сказал Мартин, когда та прошла мимо.
– Нет. Однажды я пришла сюда зимой, – возразила Сара. – И увидела негра, который смеялся на снегу.
– На снегу, – сказал Мартин. – Негр.
Солнце ярко освещало траву. Сара и Мартин шли мимо клумбы, на которой росло множество разноцветных, кудрявых и глянцевых гиацинтов.
– Не будем о снеге, – сказал Мартин. – Давай лучше…
Молодая женщина катила детскую коляску, и Мартину в голову вдруг пришла мысль.
– О Мэгги, – сказал он. – Расскажи о ней. Я не видел ее с тех пор, как у нее родился ребенок. И с французом я не знаком. Как его зовут? Рене?
– Ренни, – сказала Сара. Она все еще находилась под влиянием вина, и текучего воздуха, и проходящих мимо людей. Мартин чувствовал ту же рассеянность, но хотел избавиться от нее.
– Да. Что он за человек, этот Рене? Ренни.
Он произнес имя сначала на французский лад, а потом как она, на английский. Он хотел растормошить ее. И взял ее под руку.
– Ренни! – повторила Сара. Она откинула голову назад и рассмеялась. – Так, сейчас. Он носит красный галстук в белый горошек. Глаза темные. Он берет апельсин – например, за ужином – и говорит, гладя тебе в глаза: «Этот апельсин, Сара…» – Она произнесла «р», грассируя, и замолчала. – Вот еще один говорит сам с собой, – сказала она. К ним шел молодой человек в наглухо застегнутом пиджаке – как будто он был без рубашки. Он бормотал на ходу и сердито посмотрел на Мартина и Сару, поравнявшись с ними.
– Так что же Ренни? – напомнил Мартин. – Мы говорили о Ренни. Он берет апельсин…
– …и наливает себе бокал вина, – продолжила Сара. – «Наука – религия будущего!» – провозгласила она, выставив руку, как будто в ней был бокал с вином.
– Вина? – удивился Мартин. Слушая вполуха, он представил себе респектабельного французского профессора, к портрету которого он теперь должен был добавить неуместный бокал вина.
– Да, вина, – подтвердила Сара. – Его отец был торговцем. Чернобородый бордоский купец. Однажды, – продолжила она, – в детстве, он играл в саду, и в оконное стекло постучали изнутри дома. «Не шуми так. Играй подальше», – сказала женщина в белом чепце. Его мать тогда умерла… А еще он боялся сказать отцу, что его лошадь велика для него… И его послали в Англию…
Она перепрыгнула через ограду.
– И как все вышло? – спросил Мартин, присоединяясь к ней. – Они стали встречаться?
Сара не ответила. Мартин хотел, чтобы она объяснила, почему Мэгги и Ренни поженились. Он ждал, но она молчала. Что ж, она вышла за него, и они счастливы, подумал он. На мгновение он почувствовал укол ревности. В парке было множество прогуливающихся парочек. Все было словно пропитано свежестью и сладостными ароматами. Воздух мягко обвевал их лица. Он был наполнен шепотами, шелестом ветвей, шорохом колес, лаем собак, звучавшими то и дело трелями дрозда.
Вот мимо прошла женщина, говорившая сама с собой. Когда они посмотрели на нее, она повернулась и свистнула, как свистят собаке. Но собака, которой она свистела, была чужой и побежала в другую сторону. А дама поспешила дальше, поджав губы.
– Люди не любят, чтобы на них смотрели, – сказала Сара, – когда они разговаривают сами с собой.
Мартин встряхнулся.
– Гляди-ка, – сказал он. – Мы идем не туда.
До них донеслись голоса.
Они ошиблись направлением и оказались около вытоптанной площадки, на которой собирались ораторы. Митинги шли полным ходом, вокруг выступавших стояли группы людей. Взобравшись на трибуны, иногда – просто на ящики, ораторы разглагольствовали вовсю. Голоса звучали громче и громче по мере приближения к ним.
– Давай послушаем, – сказал Мартин.
Тощий человек с грифельной доской в руке стоял, наклонившись вперед. Они услышали, как он сказал:
– Леди и джентльмены; – Мартин и Сара остановились около него, – посмотрите на меня внимательно.
Они посмотрели.
– Не бойтесь, – сказал он, согнув указательный палец. У него была вкрадчивая манера говорить. Он перевернул доску. – Я похож на еврея? – Он опять перевернул доску и посмотрел на нее с другой стороны. Уже уходя, они услышали, как он сказал, что его мать родилась в Бермондси, а отец – на острове…
Голос затих в отдалении.
– А как тебе этот? – спросил Мартин. Он имел в виду крупного мужчину, колотившего рукой по перилам своей трибуны.
– Сограждане! – кричал он.
Мартин и Сара остановились. Толпа, состоявшая из бродяг, посыльных и нянек, взирала на него пустыми глазами, открыв рты. Мужчина с крайним презрением повел рукой в сторону проезжавших мимо автомобилей. Из-под его жилета выбился край рубашки.
– Спрраведливость и свобода! – повторил Мартин его слова.
Кулак говорившего бился о перила. Мартин и Сара послушали. Вскоре все пошло по новому кругу.
– Впрочем, оратор он прекрасный, – сказал Мартин, отворачиваясь. Голос отдалился. – Так, а что говорит та пожилая дама? – Они пошли дальше.
Аудитория пожилой дамы была весьма немногочисленна. Ее речь едва можно было расслышать. Она держала в руке маленькую книжечку и говорила что-то о воробьях. Однако вскоре ее голос стал напоминать прерывистый свист тонкой дудочки. Ее принялась передразнивать ватага мальчишек.
Мартин и Сара слушали ее недолго. Затем Мартин опять отвернулся.
– Идем, Сэл, – сказал он, положив руку ей на плечо.
Голоса звучали все глуше и глуше, наконец и вовсе затихли. Мартин и Сара брели по гладкому склону, который поднимался и спускался, как огромный покров из зеленой ткани, расчерченной прямыми коричневыми линиями тропинок. На траве резвились большие белые собаки, за деревьями блистали воды Серпантина, здесь и там на них виднелись маленькие лодочки. Респектабельность парка, сияние воды, извивы и изгибы, вся композиция ландшафта – точно его кто-то спроектировал [51]51
Гайд-парк складывался постепенно (с 1630-х гг.), а не по заранее созданному проекту.
[Закрыть]– благотворно действовали на Мартина.
– Спрраведливостъ и свобода, – опять пробормотал он, когда они подошли к кромке воды и остановились посмотреть, как чайки белыми крыльями режут воздух на острые треугольники.
– Ты согласна с ним? – спросил Мартин, взяв Сару за руку, чтобы растормошить ее: она шевелила губами, говоря сама с собой. – С тем толстяком, который махал рукой.
Сара вздрогнула.
– Ой-ой-ой! – воскликнула она, подражая жаргону кокни.
Да, подумал Мартин, когда они пошли дальше. Ой-ой-ой-ой. Вот именно. Таким, как он, ни справедливости, ни свободы не достанется, если будет так, как хочет толстяк, – и красоты тоже.
– А с бедной старушкой, которую никто не слушал? Она говорила о воробьях…
У Мартина перед глазами все еще стояли тощий человек, назидательно скрючивший палец; толстяк, так сильно размахивавший руками, что было видно его подтяжки, и старушка, пытавшаяся перекричать улюлюканье и свист. В этом зрелище перемешались комедия и трагедия.
Но вот и ворота Кенсингтон-Гарденз. У тротуара длинной вереницей выстроились автомобили и конные экипажи. Полосатые зонтики были раскрыты над круглыми столиками, за которыми сидели люди, ожидавшие чая. Официантки сновали с подносами. Сезон начался. Картина была весьма жизнерадостная.
Модно одетая дама, в шляпке с лиловым пером, ниспадающим набок, сидела, поклевывая мороженое. Солнце освещало столик пятнами, отчего женщина казалась полупрозрачной, как будто она запуталась в световой сети, как будто состояла из текуче-разноцветных ромбов. Мартину показалось, что он знает ее. Он приподнял шляпу. Но женщина сидела, глядя перед собой, и ела мороженое. Нет, подумал Мартин, он не знает ее. Он остановился, чтобы раскурить трубку. Каким был бы мир, спросил он себя – он все еще думал о толстяке, размахивавшем рукой, – каким был бы мир без моего «Я»? Он зажег спичку и стал смотреть на пламя, почти невидимое в солнечном свете. Затем он принялся раскуривать трубку. Сара шла дальше. Вскоре она тоже попала в живую сеть лучей, проникавших между листьями. Весь вид был точно пропитан первобытной чистотой. Птицы то и дело принимались чирикать среди ветвей, гул Лондона окружал пространство парка отдаленным, но сплошным кольцом. Розовые и белые соцветия каштанов качались вверх-вниз под ветерком. Солнечные пятна, испещрявшие листья, отнимали вещественность у всего вокруг, как будто мир состоял из разрозненных световых точек. Сознание Мартина тоже было точно размыто. Несколько мгновений там не было ни одной мысли. Наконец он встряхнулся, бросил спичку и нагнал Салли.
– Идем! – сказал он. – Идем… Круглый пруд в четыре!








