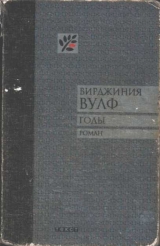
Текст книги "Годы"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Норту стало неуютно от картины, которую вызвала Сара.
– Наверное, я писал тебе много чепухи! – воскликнул он. – Надеюсь, ты рвала эти письма.
– Нет! Письма были прекрасные! Чудесные письма! – возразила Сара, поднимая бокал. Она всегда пьянела от наперстка вина, вспомнил Норт. Ее глаза горели, щеки разрумянились. – А потом ты устраивал себе выходной, – продолжила Сара, – и ехал, трясясь в безрессорной повозке по ухабистой белой дороге, в ближайший городок…
– За шестьдесят миль, – уточнил Норт.
– И шел в бар, где встречал человека с соседнего… ранчо? – Она засомневалась, то ли это слою.
– Ранчо, ранчо, – подтвердил Норт. – Я ездил в город, чтобы выпить в баре…
– А потом? – спросила Сара.
Он засмеялся. Кое о чем он ей не писал. Он промолчал.
– Потом ты перестал писать, – сказала она и поставила бокал.
– Когда забыл, как ты выглядишь, – сказал Норт, посмотрев на нее. – Ты тоже бросила писать.
– Да, я тоже.
Тромбон переместился и теперь заунывно играл под окном. Тоскливый звук – как будто пес, закинув голову, воет на луну – окутал Норта и Сару. Она стала помахивать вилкой в такт.
– С сердцами, полными тоски, со смехом на губах, шагали по ступеням мы… – Она тянула слова, подлаживаясь под завывание тромбона. – Шагали по ступеням мы-ы-ы. – Но тут тромбон сменил ритм на джигу. – Он – к грусти, к счастью – я, – напела она в такт. – Он – к счастью, я – к печали, шли по ступеням мы.
Сара поставила бокал.
– Еще кусок? – спросила она.
– Нет, спасибо, – отказался Норт, посмотрев на довольно мерзкие остатки по-прежнему кровоточившего жаркого. Синий китайский узор на блюде был измазан красными потеками. Сара протянула руку и позвонила. Потом еще раз. Никто не пришел.
– Твои звонки не звонят, – сказал Норт.
– Да, – улыбнулась она. – Звонки не звонят, краны не открываются. – Она постучала ногой в пол. Подождали. Никто не появился. На улице выл тромбон.
– Но от тебя было одно письмо, – продолжил Норт. – Злое, жестокое.
Он посмотрел на Сару. Она приподняла верхнюю губу, как лошадь, которая собирается укусить. Это он тоже помнил.
– Да? – сказала она.
– В тот вечер, когда ты вернулась со Стрэнда, – напомнил он.
В этот момент вошла прислуга с пудингом. Это был разукрашенный пудинг, полупрозрачный, розовый, увенчанный шариками крема.
– Я помню, – сказала Сара, вонзая ложку в дрожащее желе. – Тихий осенний вечер, фонари горят, люди бредут по тротуару с венками в руках?
– Да, – кивнул он. – Точно.
– И я сказала себе, – Сара сделала паузу, – это ад. Мы пропащие души.
Норт кивнул. Сара положила ему пудинга.
– И я, – сказал он, беря тарелку, – был среди пропащих душ. – Он тоже вонзил ложку в трепещущую массу.
– Трус, лицемер, со своим хлыстом в руке и с фуражкой на голове… – Он цитировал ее письмо. Норт замолчал. Сара улыбнулась ему.
– Но что за слово – какое слово я тогда написала? – спросила она, как будто силясь вспомнить.
– Белиберда! – напомнил он. Она кивнула.
– А потом я пошла на мост, – продолжила Сара, не донеся ложку до рта, – и остановилась в одной из этих ниш или углублений – как они называются? – и наклонилась над водой и стала смотреть вниз, – она опустила взгляд на свою тарелку.
– Тогда ты жила на той стороне реки.
– Стояла и смотрела вниз, – сказала Сара, глядя на свой бокал, который выставила перед собой, – и думала: «Вода бежит, вода течет, вода морщит огни, и лунный свет, и свет звезд…» – Она выпила и умолкла.
– Потом подъехал автомобиль, – подсказал Норт.
– Да, «роллс-ройс». Он остановился под фонарем, там сидели…
– Двое, – напомнил Норт.
– Двое. Да, – сказала Сара. – Он курил сигару. Английский аристократ с большим носом, во фраке. А рядом с ним сидела она, в манто, отороченном мехом, и она воспользовалась остановкой в свете фонаря, чтобы поднять руку, – Сара подняла руку, – и подкрасить свой рот, похожий на совок.
Сара проглотила кусок пудинга.
– А заключительная мораль?
Она покачала головой.
Они сидели молча. Норт доел свою порцию пудинга и достал портсигар. Кроме вялых фруктов на блюде – яблок и бананов, – есть, в сущности, было больше нечего.
– Мы были такими глупыми в молодости, Сэл, – сказал Норт, поджигая сигарету. – Писали витиеватые несуразности…
– На заре, под щебет воробьиный, – сказала Сара, придвигая к себе блюдо с фруктами. Она принялась очищать банан – как будто снимала с него мягкую перчатку. Норт взял яблоко и стал срезать с него кожуру, которая ложилась на его тарелку спиралью – как змеиная кожа, подумал он; а шкурка банана была похожа на разорванный палец перчатки.
На улице стало тихо. Женщина прекратила пение, тромбонист ушел. Час пик закончился, на мостовой не было никакого движения. Норт посмотрел на Сару, откусывавшую банан маленькими кусочками.
Когда она приехала на четвертое июня [63]63
Четвертое июня – праздник Итонского колледжа, отмечаемый в день рождения короля Георга III (1738–1820), который особенно любил это учебное заведение.
[Закрыть], вспомнил он, юбка на ней была надета наизнанку. Уже тогда она была сутулая, и они над ней смеялись – он и Пегги. Она так и не вышла замуж – интересно, почему? Он сгреб в кучку яблочную кожуру на своей тарелке.
– Чем он занимается? – вдруг спросил Норт. – Человек, который размахивает руками?
– Вот так? – спросила Сара, взмахнув руками.
– Да, – кивнул Норт. Он имел в виду именно этого говорливого иностранца, из тех, что имеют теорию по каждому поводу. И все-таки он нравился Норту: от него исходил какой-то аромат, какая-то вибрация, его лицо было удивительно подвижно; у него был крутой лоб, добрые глаза и лысина. – Чем он занимается? – Норт повторил вопрос.
– Говорит, – ответила Сара. – О душе. – Она улыбнулась.
И опять Норт почувствовал себя чужаком: как много раз они, должно быть, говорили, как были близки друг другу.
– О душе, – продолжила Сара, беря сигарету. – Читает лекции, – добавила она, поджигая ее. – Десять шиллингов шесть пенсов за место в первом ряду. – Она выпустила дым. – Стоячие места – за полкроны, но оттуда, – она опять пыхнула дымом, – слышно хуже. Можно усвоить лишь половину наставлений Учителя, Мастера. – Она засмеялась.
Теперь она издевалась над ним, давала понять, что он шарлатан. А ведь Пегги сказала, что они очень близки – Сара и этот иностранец. Образ человека, которого Норт встретил у Элинор, слегка изменился, как будто сдулся воздушный шарик.
– Я думал, он твой друг.
– Николай? – громко сказала Сара. – Я люблю его!
Ее глаза явно заблестели. Она уставилась на солонку, и во взгляде ее был восторг, который опять озадачил Норта.
– Ты любишь его… – начал он. Но тут зазвонил телефон.
– Вот и он! – воскликнула Сара. – Это он! Это Николай!
Она говорила с большим волнением.
Телефон вновь прозвенел.
– Меня здесь нет! – сказала Сара. Телефон звонил. – Меня нет! Меня нет! Меня нет! – повторяла она в такт звонкам. Она не собиралась брать трубку.
Норт больше не мог выносить ее пронзительного голоса и звонков. Он подошел к телефону. Последовала пауза – когда он стоял с трубкой в руке.
– Скажи ему, что меня нет! – взмолилась Сара.
– Алло, – сказал Норт в трубку, но в ответ ничего не услышал. Он смотрел на Сару, сидевшую на краешке стула и качавшую ногой.
Затем зазвучал голос.
– Это Норт, – ответил Норт. – Я ужинаю у Сары… Хорошо, я скажу ей… – Он опять посмотрел на Сару. – Она сидит на краю стула, с пятном сажи на лице, и качает ногой.
Элинор стояла, держа телефонную трубку. Она улыбалась и, уже положив трубку, некоторое время еще продолжала стоять, улыбаясь, а потом повернулась к своей племяннице Пегги, которая приехала к ней в гости к обеду.
– Норт ужинает у Сары, – сказала Элинор, все еще улыбаясь картинке, которую она представила себе благодаря телефону: два человека на другом конце Лондона, Сара сидит на краешке стула, с пятном сажи на лице.
– Он ужинает у Сары, – повторила Элинор. Но ее племянница не улыбнулась в ответ, потому что она эту картинку не видела, к тому же была немного раздражена из-за того, что посреди их с Элинор беседы та вдруг поднялась и сказала: «Я только напомню Саре».
– Вот как? – безучастно проговорила Пегги.
Элинор подошла и села.
– Мы говорили… – начала она.
– Ты ее почистила, – сказала Пегги одновременно с ней. Пока Элинор звонила, она смотрела на портрет своей бабушки над письменным столом.
– Да. – Элинор взглянула через плечо. – Да. Ты видишь цветок, упавший на траву? – спросила она. Теперь она повернулась и смотрела на картину прямо. Лицо, платье, корзина с цветами – одно мягко перетекало в другое, как будто все краски составляли единую нежную эмалевую поверхность. На траве лежал цветок – маленькая голубая завитушка.
– Он был скрыт грязью, – сказала Элинор. – Но я помнила его с детства. Кстати, если тебе нужен хороший реставратор картин…
– Она тут похожа на себя? – перебила ее Пегги.
Кто-то сказал ей, что она похожа на бабушку, а она не хотела быть на нее похожей. Она хотела быть темноволосой, с орлиным носом, но на самом деле была голубоглазой и круглолицей – как бабушка.
– У меня где-то есть адрес, – продолжала свое Элинор.
– Не стоит, не стоит, – сказала Пегги, в досаде на теткину привычку вдаваться в ненужные мелочи. Это старость, подумала она: старость, расшатывающая винтики и заставляющая весь механизм разума греметь и дребезжать. – Так похожа? – опять спросила Пегги.
– Я ее такой не помню, – сказала Элинор, опять взглянув на картину. – Возможно, когда я была маленькой – нет, даже тогда вряд ли. Что интересно, – продолжила она, – то, что когда-то считалось некрасивым – рыжие волосы, например, – мы считаем милым; поэтому я часто спрашиваю себя… – она сделала паузу, пыхнув манильской сигарой, – «Что такое красота?»
– Да, – сказала Пегги. – Это всех волнует.
Когда Элинор вдруг вздумалось напомнить Саре о приеме, они беседовали о детстве Элинор – о том, как с тех пор все изменилось: одному поколению хорошим кажется одно, другому – другое. Пегги любила разговорить Элинор о ее прошлом; эта тема казалась такой умиротворяющей, такой безопасной.
– Как ты думаешь, есть ли какой-то стандарт? – спросила Пегги, стараясь вернуть Элинор к прерванной беседе.
– Не знаю, – рассеянно сказала Элинор. Она уже думала о чем-то другом. – Какая досада! – вдруг воскликнула она. – Я хотела что-то спросить у тебя – уже на языке вертелось. И тут вспомнила о приеме у Делии, потом Норт меня рассмешил: Салли сидит на краю стула с пятном сажи на носу – и все вылетело, – она покачала головой. – Знаешь это чувство – когда уже собираешься что-то сказать, и тебя перебивают? Кажется, слова застряли вот здесь, – она постучала себе по лбу, – и мешают всему остальному. И не то чтобы нечто важное, – добавила она. Она сделала несколько шагов по комнате. – Нет, сдаюсь, сдаюсь, – заключила она, тряся головой. – Пойду теперь соберусь, если ты вызовешь такси.
Она ушла к себе в спальню. Вскоре оттуда послышался звук текущей воды.
Пегги прикурила еще одну сигарету. Если Элинор собирается мыться – судя по звукам из спальни, – то с такси спешить ни к чему. Пегги взглянула на письма, лежавшие на каминной полке. На одном сверху выделялся адрес: «Mon Repos, Уимблдон». Один из дантистов Элинор, подумала Пегги. С которым она собирает гербарии в парке Уимблдон-Коммон. Милейший человек. Элинор описывала его. «Он говорит, что каждый зуб не похож на остальные. А еще он все знает о растениях…» Трудно было удержать ее на теме детства.
Пегги прошла через комнату к телефону, назвала номер. Последовала пауза. Ожидая, она смотрела на свою руку, держащую трубку. И на ногти – аккуратные, похожие на раковинки, отполированные, но без лака – компромисс между наукой и… Ее мысли прервал голос: «Номер, пожалуйста», и она опять назвала номер.
Опять пришлось ждать. Сидя на месте Элинор, она представила ту же телефонную картинку: Салли сидит на краешке стула, с пятном сажи на лице. Какая дура, со злостью подумала Пегги, и по ее бедру пробежали мурашки. И на что же она злится? Она гордилась своей честностью перед собой – она была врачом и знала, что эти мурашки означают злость. То ли она завидовала Салли, потому что та была счастлива, то ли это голос наследственного ханжества, осуждающего дружбу с мужчинами, которые не любят женщин? Пегги посмотрела на портрет своей бабушки, как будто спрашивая ее мнения. Но та напустила на себя вид ни к чему не причастного произведения искусства; она сидела, улыбалась своим розам, и ей было безразлично, что хорошо, а что плохо.
– Алло, – произнес грубый голос, сразу вызвавший из памяти Пегги образ павильона для отдыха таксистов с полом, усыпанным опилками.
Пегги дала адрес и повесила трубку, как раз когда вошла Элинор – на ней была красно-золотая арабская накидка и на волосах – серебристая вуаль.
– Как ты думаешь, когда-нибудь можно будет не только слышать, но и видеть по телефону? – спросила Пегги, вставая. Волосы у Элинор всегда были красивыми, подумала Пегги; как и ее искристые темные глаза – глаза утонченной пожилой прорицательницы, старой чудачки, почтенной и смешной одновременно. Она загорела в своих странствиях, поэтому волосы казались белее, чем обычно.
– Что ты сказала? – переспросила Элинор, не расслышав. Пегги не стала повторять.
Они стояли у окна и ждали такси. Стояли рядом, молча, глядя в окно, – потому что надо было чем-то заполнить паузу, а вид из окна, расположенного высоко над крышами, над квадратами и углами садиков, которые уходили к голубоватой кромке дальних холмов, – этот вид заполнял паузу не хуже человеческого голоса. Солнце садилось; одно облако висело красным завитком на голубом фоне, похожее на птичье перо. Пегги посмотрела вниз. Странно было видеть автомобили, ездившие туда-сюда, поворачивавшие с улицы на улицу, и не слышать звуков, производимых ими. Она как будто смотрела на кусок большой карты Лондона. Летний день угасал; зажигались фонари – бледно-желтые, пока отделенные друг от друга, потому что воздух еще был наполнен закатным светом. Элинор указала на небо.
– Вон там я впервые увидела аэроплан – между теми трубами, – сказала она. Вдали поднимались высокие заводские трубы; огромное здание – кажется, это Вестминстерский собор – господствовало над крышами. – Я стояла здесь, смотрела в окно, – продолжала Элинор. – Наверное, я тогда только переехала в эту квартиру, был летний день, и я увидела в небе черную точку и сказала – кто же здесь был? – Мириам Пэрриш, должно быть, – да, она пришла помочь мне здесь устроиться – кстати, надеюсь, Делия не забыла пригласить ее… – Это старость, заметила про себя Пегги, одно тащит за собой другое.
– Ты сказала Мириам… – подсказала она.
– Я сказала Мириам: «Это что, птица? Нет, птица вряд ли. Слишком большая. Однако двигается». И вдруг я поняла: это аэроплан! Так и оказалось! Они ведь незадолго до этого перелетели через Ла-Манш. Тогда я гостила у вас в Дорсете: помню, как прочитала об этом в газете и кто-то – твой отец, наверное – сказал: «Мир бесповоротно изменился!»
– Ну… – Пегги засмеялась. Она хотела было сказать, что самолеты – не такая уж значительная перемена: она вообще любила подтрунивать над верой старших в науку – отчасти потому, что ее удивляло их легковерие, отчасти оттого, что она ежедневно поражалась невежеству коллег-врачей, – но тут Элинор вздохнула.
– Боже, боже, – прошептала она.
И отвернулась от окна.
Опять старость дает себя знать, подумала Пегги. Порыв ветра распахнул дверь – один из миллиона порывов ветра за семьдесят с чем-то лет жизни Элинор; в голову ей пришла печальная мысль, которую она тут же постаралась скрыть – отошла к письменному столу и стала рыться в бумагах – со скромным великодушием, с болезненным смирением стариков.
– Что такое, Нелл? – спросила Пегги.
– Ничего, ничего, – сказала Элинор. Она увидела небо, а небо было покрыто для нее многими образами и картинами – ведь она видела его так часто; любая картина могла оказаться сверху, когда Элинор смотрела на небо. Сейчас – поскольку она говорила с Нортом – ей вспомнилась война, как она стояла на том же месте однажды ночью и следила за лучами прожекторов. Она только вернулась домой после налета; она ужинала у Ренни и Мэгги. Они сидели в подвале, и Николай – не тогда ли она впервые его увидела? – сказал, что война не имеет значения. «Мы дети, играющие с шутихами во дворе»… Она вспомнила его фразу и как, сидя на деревянном ящике, они пили за Новый Мир. «За Новый Мир, за Новый Мир!» – кричала Салли, барабаня ложкой по ящику. Элинор отвернулась к письменному столу, разорвала письмо и выбросила его. – Да, – сказала она, шаря среди бумаг в поисках чего-то. – Да, я ничего не знаю об аэропланах, никогда в них не летала, но вот автомобили – без них я могла бы обойтись. Меня тут чуть один не сшиб, я тебе не говорила? На Бромптон-Роуд [64]64
Бромптон-Роуд – многолюдная торговая улица.
[Закрыть]. Я сама была виновата – не смотрела… И радио – оно так надоедает: соседи снизу включают его после завтрака; а с другой стороны – горячая вода, электрический свет и эти новые… – Она запнулась. – А, вот она! – воскликнула Элинор, вытащив листок бумаги, который искала. – Если там сегодня будет Эдвард, напомни мне – сейчас завяжу узелок на платке… – она открыла сумочку, вынула шелковый носовой платок и с серьезным видом завязала на нем узел, – спросить его о младшем Ранкорне.
Прозвенел звонок.
– Такси, – сказала Элинор.
Она огляделась, желая убедиться, что ничего не забыла. Сделав несколько шагов, она вдруг остановилась, потому что ее взгляд привлекла лежавшая на полу вечерняя газета, с широкой полосой типографской краски и неясной фотографией. Элинор подняла ее.
– Ну и лицо! – воскликнула она, расправляя газету на столе.
Насколько могла разглядеть Пегги – будучи близорукой, – это был обыкновенный для вечерней газеты нечеткий портрет жестикулирующего толстяка [65]65
Вероятно, имеется в виду Муссолини.
[Закрыть].
– Дьявол! – вдруг выпалила Элинор. – Негодяй! – Она разорвала газету одним движением и швырнула ее на пол. Пегги была поражена. От звука рвущейся бумаги она даже вздрогнула. Слово «дьявол» в устах тетки шокировало ее. В следующее мгновение это ее позабавило, но шок не прошел все равно. Ведь если Элинор, столь сдержанно пользовавшаяся английским языком, произнесла слова «дьявол» и «негодяй», это значило намного больше, чем если бы то же самое сказали Пегги и ее друзья. К тому же это резкое движение, когда она рвала газету… Какие они все странные, подумала Пегги, следуя за Элинор по лестнице. Край красно-золотой накидки волочился со ступени на ступень. Пегги приходилось видеть, как ее отец комкал «Таймс» и сидел, дрожа от гнева – из-за того, что кто-то что-то сказал и это напечатали в газете. Нелепо!
И как она разорвала ее! – подумала Пегги с улыбкой и взмахнула рукой, копируя движение Элинор. Та все еще держалась особенно прямо – от гнева. Было бы просто, думала Пегги, идя следом по каменным ступеням, и приятно быть такой, как она. Маленькая застежка накидки постукивала по лестнице. Они спускались довольно медленно.
«Взять, например, мою тетю, – Пегги про себя обратилась к человеку, с которым она беседовала в больнице, – взять мою тетю. Она живет в квартире, предназначенной для какого-нибудь трудяги, к которой надо подниматься по шести лестничным пролетам…»
Элинор остановилась.
– Только не говори мне, – сказала она, – что я оставила наверху письмо – то письмо от Ранкорнов, которое я хочу показать Эдварду, об их сыне. – Она открыла сумочку. – Нет, вот оно. – Письмо было в сумочке. Они пошли дальше вниз.
Элинор назвала таксисту адрес и плюхнулась в угол сиденья. Пегги посмотрела на нее краем глаза.
Ее потрясала энергия, которую Элинор вкладывала в слова, а не сами слова. Как будто она – старая Элинор – до сих пор страстно верила в то, что разрушил этот толстяк. Удивительное поколение, подумала Пегги, когда машина тронулась. Они верят…
– Пойми, – перебила Элинор ход ее мыслей, желая объяснить свою реакцию, – это означает конец всему, что для нас дорого.
– Свободе? – безразлично спросила Пегги.
– Да, – сказала Элинор. – Свободе и справедливости.
Такси ехало по респектабельным улочкам, где у каждого дома были эркер, полоска садика, свое имя. Когда они выехали на большую улицу, сцена в квартире сложилась в голове Пегги так, как она опишет ее тому человеку из больницы. «Вдруг она вышла из себя, схватила газету и разорвала ее поперек – моя тетя, которой за семьдесят». Пегги глянула на Элинор, чтобы проверить подробности. Тетка прервала ее внутренний монолог.
– Там мы раньше жили, – сказала она и махнула рукой в сторону длинной, усеянной фонарями улицы слева.
Пегги выглянула и увидела только однообразную величественную аллею с вереницей светлых портиков. Одинаковые оштукатуренные колонны, опрятная архитектура обладали даже некоторой уныло-торжественной красотой.
– Эберкорн-Террас, – сказала Элинор. – Почтовый ящик… – пробормотала она, когда они проезжали мимо почтового ящика.
Почему почтовый ящик? – удивилась про себя Пегги. Открылась очередная дверца. У старости, должно быть, много бесконечных улиц, простирающихся вдаль во тьме, предположила она, – и там открывается то одна дверь, то другая.
– Разве люди… – начала Элинор и замолчала. Как всегда, она начала не с того места.
– Что? – спросила Пегги. Ее раздражала эта непоследовательность.
– Я хотела сказать – почтовый ящик напомнил мне, – проговорила Элинор и засмеялась. Она оставила попытку восстановить порядок, в котором к ней приходили мысли. А порядок был, несомненно, но чтобы выявить его, нужно слишком много времени, а эта болтовня – она знала – надоедает Пегги, потому что у молодых ум работает так быстро. – Сюда мы ходили ужинать, – сменила тему Элинор, кивнув на дом на углу площади. – Твой отец и я. К одному его сокурснику. Как же его звали? Он стал судьей… Мы ужинали здесь втроем. Моррис, отец и я… Тогда тут устраивали большие приемы. Сплошные юристы. Он еще собирал старинную дубовую мебель. В основном подделки, – добавила она со смешком.
– Вы ужинали… – начала Пегги. Она хотела вернуть Элинор в ее прошлое. Это было так интересно, так безопасно, так нереально: восьмидесятые годы казались ей прекрасными в своей нереальности. – Расскажи о своей молодости, – попросила она.
– Но у вас жизнь куда интереснее, чем была у нас, – сказала Элинор. Пегги промолчала.
Они ехали по ярко освещенной людной улице; в одном месте толпа была окрашена в рубиновые тона – светом, падающим от кинотеатра, в другом – в желтые, от витрин, полных летних платьев: магазины, хотя и закрытые, были освещены, и люди рассматривали одежду, шляпы на шестиках, драгоценности.
«Когда моя тетя Делия приезжает в город, – продолжила про себя Пегги рассказывать своему знакомому в больнице, – она говорит: «Надо устроить прием». И тогда они все собираются вместе. Они это обожают». Сама Пегги терпеть этого не могла. Ей было приятнее посидеть дома или сходить в кино. Это дух семьи, продолжила она, посмотрев на Элинор, как будто с тем, чтобы добавить еще один штрих к портрету викторианской старой девы. Элинор глядела в окно. Потом обернулась.
– А как прошел эксперимент с морскими свинками? – спросила она. Пегги сперва была озадачена.
Затем она вспомнила, о чем речь, и рассказала.
– Понятно. Значит, он ничего не доказал. Тебе придется все начать сначала. Очень интересно. А теперь не объяснишь ли ты мне… – Ее поставила в тупик очередная проблема.
То, что она просит объяснить, говорила Пегги своему знакомому в больнице, либо просто, как дважды два, либо так сложно, что ответа не знает никто на свете. Если ее спросить: «Сколько будет восемью восемь?» – Пегги улыбнулась, взглянув на профиль тетки на фоне окна, – она стукает себя по лбу и говорит… Но тут Элинор перебила ее мысли.
– Ты очень добра, что идешь со мной, – сказала она, чуть похлопав племянницу по колену. (Я дала ей понять, подумала Пегги, что мне неприятно идти туда?) – Это способ пообщаться с людьми, – продолжала Элинор. – А поскольку мы все стареем – не ты, мы, – не хочется упускать шанс.
Они ехали дальше. А как понять вот это? – думала Пегги, стараясь добавить еще один штрих к портрету. Это «сентиментальность»? Или, наоборот, эти чувства хороши… естественны… правильны? Она тряхнула головой. Я не умею описывать людей, сказала она своему знакомому в больнице. Они слишком сложны… Она не такая, совсем не такая, – Пегги слегка махнула рукой, как будто чтобы стереть неверно прочерченную линию. В этот момент ее больничный знакомый исчез.
Она была наедине с Элинор в такси. И они проезжали мимо домов. Где начинается она и где кончаюсь я? – спрашивала себя Пегги… Они ехали дальше. Два живых человека, едущих по Лондону; две искорки жизни, заключенные в два отдельных тела; и эти искорки жизни, заключенные в отдельные тела, в настоящий момент, думала Пегги, проезжают мимо кинотеатра. Но что такое настоящий момент, что такое мы? Загадка была ей не по силам. Она вздохнула.
– Ты слишком молода, чтобы это понять, – сказала Элинор.
– Что? – вздрогнула Пегги.
– Понять, что значат встречи с людьми. Желание не упустить шанс.
– Молода? – сказала Пегги. – Я никогда не буду так молода, как ты! – Теперь она похлопала тетку по колену. – Ведь это же надо, в Индию ее понесло! – Она рассмеялась.
– А, в Индию. Нынче Индия – это ерунда, – сказала Элинор. – Путешествовать легко. Просто берешь билет, садишься на корабль… Но что я хочу увидеть, пока жива, – это что-нибудь необычное… – Она выставила руку в окно. Такси ехало мимо общественных зданий, каких-то контор. – …другую цивилизацию. Тибет, например. Я читала книгу, которую написал человек по имени… как же его звали?
Она замолчала, отвлеченная видом улицы.
– Ну, разве не красиво теперь одеваются? – воскликнула Элинор, указывая на светловолосую девушку и молодого человека в вечернем костюме.
– Да, – безучастно сказала Пегги, глядя на покрытое косметикой лицо и яркую шаль, на белый жилет и зачесанные назад волосы. Элинор все отвлекает, все интересует, подумала она. – Тебя в молодости подавляли? – спросила Пегги, вспомнив туманные образы детства: ее дед с блестящими култышками на месте пальцев, длинная и темная гостиная.
Элинор обернулась. Она была удивлена.
– Подавляли? – переспросила она. Она так редко думала о самой себе, что сейчас была удивлена. – А, я понимаю, что ты имеешь в виду, – сказала она спустя некоторое время. Картина – другая картина – выплыла на поверхность. Делия стоит посреди комнаты. «О Боже! О Боже!» – говорит она. Двухколесный экипаж остановился у подъезда соседнего дома. А сама Элинор смотрит на Морриса – Моррис это был или нет? – который идет по улице, чтобы опустить письмо… Элинор молчала. Я не хочу возвращаться в прошлое, думала она. Мне нужно настоящее. – Куда он нас везет? – спросила она, выглянув в окно.
Они уже были в деловой, самой освещенной части Лондона. Свет падал на широкие тротуары, на стены сверкающих окнами конторских зданий, на мертвенно-бледную церковь, имевшую вид чего-то устаревшего, отжившего. Вспыхивала и гасла реклама. Бутылка пива опорожнялась, гасла, зажигалась и опорожнялась опять. Такси выехало на театральную площадь. Там царила обычная мишурная неразбериха. Мужчины и женщины в вечерних нарядах шли посередине мостовой. Такси подруливали и останавливались. Их автомобилю перегородили дорогу. Он встал как вкопанный под статуей, чью трупную бледность подчеркивал свет фонарей.
– Всегда напоминает мне рекламу гигиенических прокладок, – сказала Пегги, глядя на фигуру женщины в форме сестры милосердия с протянутой рукой [66]66
Имеется в виду памятник Эдит Кавелл (1865—1915), английской сестре милосердия, которая работала в госпитале в Бельгии и была расстреляна немцами, оккупировавшими страну. Ее казнь вызвала бурю негодования в Англии. На постаменте памятника выбиты слова, сказанные Эдит Кавелл перед смертью: «Патриотизм – это еще не все. Я не должна испытывать ненависти и злости ни к кому».
[Закрыть].
Элинор была поражена. Как будто нож прошелся лезвием по коже, оставив мерзкое ощущение; однако за живое он не задел, поняла она через мгновение. Пегги сказала так из-за Чарльза, подумала Элинор, расслышав горечь в голосе племянницы: ее брат, милый нудноватый парень, был убит на войне.
– Единственная умная фраза, произнесенная за всю войну, – сказала Элинор, прочитав слова на постаменте.
– Толку от нее было немного, – резко откликнулась Пегги.
Такси так и стояло в заторе.
Остановка как будто удерживала их на мысли, от которой они хотели избавиться.
– Ну, разве не красиво теперь одеваются? – опять сказала Элинор, указав на другую светловолосую девушку в длинном ярком плаще с другим молодым человеком в вечернем костюме.
– Да, – сухо согласилась Пегги.
Но почему ты не радуешься жизни? – мысленно спросила ее Элинор. Гибель ее брата, конечно, печальна, но Элинор всегда казался интереснее Норт. Такси пробралось между машин и свернуло на боковую улицу. Теперь его остановил красный свет.
– Хорошо, что Норт вернулся, – сказала Элинор.
– Да, – откликнулась Пегги. – Он считает, что мы говорим только о деньгах и политике, – добавила она.
Она винит его за то, что не он был убит, хотя так нельзя, подумала Элинор.
– Вот как? – сказала она вслух. – Однако… – Газетный плакат с большими черными буквами словно закончил за нее фразу.
Они приближались к площади, где жила Делия. Элинор принялась рыться в сумочке. Она взглянула на счетчик, на котором набежало довольно много. Водитель поехал кружным путем.
– Он найдет дорогу, в конце концов, – сказала она.
Они медленно ехали вокруг площади. Элинор терпеливо ждала, держа в руке сумочку. Она увидела полосу темного неба над крышами. Солнце уже село. Некоторое время небо имело умиротворенный вид неба над полями и лесами.
– Ему надо повернуть, и все, – сказала Элинор.
Я не падаю духом, – добавила она, когда такси повернуло. – Знаешь, когда путешествуешь, приходится общаться с самыми разными людьми – на борту корабля или в каком-нибудь убогом захолустном пристанище… – Такси нерешительно катило мимо домов. – Тебе стоит туда съездить, Пегги, – прервала паузу Элинор. – Стоит попутешествовать. Аборигены так красивы, ходят полуобнаженными, спускаются к реке в лунном свете… Вон тот дом. – Она постучала по стеклу, и такси замедлило ход. – О чем я говорила? Да, я не падаю духом, потому что люди так добры, сердца у них такие хорошие… Поэтому, если бы только простые люди, простые – как мы сами…
Такси подъехало к дому с освещенными окнами. Пегги потянулась вперед, открыла дверь и, выпрыгнув из машины, заплатила шоферу. Элинор неуклюже выбралась вслед за ней.
– Нет, нет, нет, Пегги, – начала она.
– Это мое такси, мое такси! – запротестовала Пегги.
– Но я настаиваю, чтобы я оплатила свою долю, – сказала Элинор, открывая сумочку.
* * *
– Это Элинор, – сказал Норт. Он положил трубку и повернулся к Саре. Она по-прежнему качала ногой. – Она просила сказать тебе, чтобы ты пришла на прием к Делии, – добавил он.
– На прием к Делии? Зачем мне на прием к Делии? – спросила Сара.
– Потому что они старые и хотят, чтобы ты пришла, – сказал Норт, стоя над Сарой.
– Старая Элинор, бродяга Элинор, Элинор с глазами дикарки… – пробормотала Сара. – Пойти, не пойти, пойти, не пойти? – монотонно заладила она, глядя на Норта. – Нет, – заключила Сара, поставив ноги на пол. – Не пойду.








