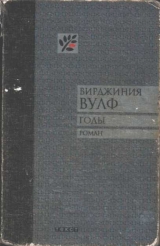
Текст книги "Годы"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Книга была совсем новенькая, открывалась со скрипом – потому что Салли открыла ее впервые.
– «Антигона Софокла, переложенная на английские стихи Эдвардом Парджитером», – снова прочла она. Он подарил ей книгу в Оксфорде, жарким днем, когда они бродили по церквям и библиотекам. – Бродили и ныли, – пробормотала она, переворачивая страницы, – и он сказал мне, вставая из глубокого кресла и проводя рукой по волосам: «Эх, пропавшая юность моя»… – Вальс достиг апогея, кульминации своей печали. – Взял он и поднял разбитый бокал, – бормотала Салли в такт, – точно несчастное сердце свое… – Музыка прекратилась, послышались аплодисменты, танцоры опять вышли в сад.
Она пролистала страницы. Сначала она читала по одной строке наугад, а затем из мусора вырванных слов начали вставать сцены – быстро, расплывчато, вразброс. Непогребенное тело убитого лежит, как срубленное дерево, как статуя, выставив в воздух окоченевшую ногу. Стервятники собираются вокруг. Хлопая крыльями, опускаются на серебристый песок. Ковыляя, раскачиваясь, вразвалку, двигаются неуклюжие птицы. Подпрыгивают, размахивая мотнями сизых глоток, – читая, Салли ладонью отстукивала ритм по одеялу, – стремятся к трупу. Быстро, быстро, быстро нанося удары клювами, терзают гниющую плоть. Да. Салли посмотрела на дерево в саду. Непогребенное тело убитого лежит на песке. Но тут появляется в желтом вихре пыли – кто? Салли быстро перевернула страницу. Антигона? Она появляется из облака пыли там, где скачут стервятники, и сыплет белый песок на почерневшую ногу. Стоит, позволяя белой пыли падать на почерневшую ногу. Но смотрите! Еще облака, темные облака. Всадники спрыгнули наземь. Она схвачена, ее запястья стянуты жгутами из ивы, и ведут ее, плененную, – куда?
Из сада донесся раскат хохота. Салли посмотрела в окно. Куда они повели ее? В саду было полно людей. Она не могла расслышать ни слова из того, что они говорили. Фигуры выходили из дома и удалялись обратно.
– На честный суд почтенного владыки? – прошептала Салли: она опять читала слова, выбирая наугад, потому что больше смотрела в окно. Его звали Креонт. Он замуровал ее. Была лунная ночь. Лопасти кактусов отливали серебром. Человек в набедренной повязке три раза сильно стукнул деревянным молотком по свежей кладке. Ее погребли заживо. Гробницей стал курган из кирпичей. Внутри хватало места, только чтобы лежать. Лежать под кирпичами на спине, сказала Салли. Вот и конец, зевнула она, закрывая книгу.
Она растянулась под прохладной гладкой простыней и закрыла подушкой уши. Простыня и одеяло мягко облегали ее тело. А снизу был длинный прохладный матрац. Музыка стала звучать глуше. Ее тело вдруг оборвалось и упало на землю. Темное крыло прошлось по ее сознанию, оставляя за собой молчание, пустоту. Все звуки – музыка, голоса – вытянулись в одну линию и перестали различаться. Книга упала на пол. Салли спала.
– Чудесный вечер, – сказала девушка, поднимавшаяся по железной лестнице со своим спутником. Она положила руку на перила. Они были очень холодными. Девушка посмотрела на небо. Луну окружал желтый ореол. Она как будто смеялась, мерцая. Ее спутник тоже взглянул вверх, а потом поднялся на еще одну ступеньку, ничего не сказав, поскольку был робок.
– Завтра собираетесь на матч? – наконец скованно выговорил он: они почти не были знакомы.
– Если брат выедет вовремя, чтобы довезти меня, – ответила девушка и тоже поднялась на ступеньку. Затем они вошли в танцевальный зал, он слегка поклонился и покинул ее, потому что его ждал компаньон.
Небо совершенно прояснилось, и луна теперь висела в открытом пространстве, как будто ее свет поглотил всю тяжесть облаков, расчистив идеальную танцевальную площадку. Некоторое время озаренный луною свод неба оставался чистым, но потом подул ветерок, и лик луны пересекло небольшое облако.
В спальне послышался какой-то звук. Сара перевернулась с боку на бок.
– Кто там? – проговорила она, села и потерла глаза.
Это была ее сестра. Она стояла в дверях, не решаясь войти.
– Спишь? – тихо спросила она.
– Нет, – сказала Сара, потирая глаза. – Не сплю, – добавила она, открыв их.
Мэгги прошла через комнату и села на край кровати. Ветер надувал штору, простыни почти сползли на пол. На мгновение Мэгги изумил вид комнаты. По сравнению с бальным залом она казалась такой неприбранной. На умывальнике стоял стакан с зубной щеткой, полотенце было намотано на вешалку, на полу валялась книга. Мэгги нагнулась и подобрала книгу. В этот момент с улицы ворвалась музыка. Мэгги отодвинула штору. Женщины в светлых платьях, мужчины в черно-белом толпились на верхней площадке лестницы у входа в танцевальный зал. Через сад доносились обрывки разговора и смех.
– Там танцы? – спросила Мэгги.
– Да, через несколько домов.
Мэгги выглянула из окна. Издалека музыка звучала романтично, таинственно, и цвета смешивались между собой, поэтому не было видно ни одного чисто-розового, белого или синего пятна.
Мэгги потянулась и сняла с платья цветок. Он завял, на белых лепестках виднелись темные пятна. Она опять выглянула из окна. Свет фонарей падал очень причудливо: один лист сиял зеленью, другой был ярко-белым. Ветки перекрещивались на разных уровнях. Вдруг Салли засмеялась и спросила:
– Тебе никто не дарил осколок стекла, говоря: «Мисс Парджитер, это мое разбитое сердце»?
– Нет, – сказала Мэгги. – С какой стати?
Цветок упал у нее с колен на пол.
– Я тут все думала… – сказала Сара. – Эти люди в саду…
Она махнула рукой в сторону окна. Какое-то время они молчали, слушая танцевальную музыку.
– А с кем рядом ты сидела? – наконец спросила Сара.
– С мужчиной в золотых галунах, – ответила Мэгги.
– В золотых галунах? – повторила Сара.
Мэгги промолчала. Она постепенно привыкала к комнате, ощущение контраста между захламленной спальней и шиком бального зала покидало ее. Она завидовала сестре, лежавшей в постели, с открытым окном, в которое дул ветерок.
– Он разоделся к приему, – сказала Мэгги и опять замолчала. Что-то привлекло ее взгляд. Ветка под ветром качалась вверх-вниз. Мэгги отодвинула штору. Теперь ей было видно все небо, дома и ветви деревьев в саду.
– Это от луны, – сказала она. Листья были белыми из-за луны. Обе девушки посмотрели на луну, сиявшую, как серебряная монета, тщательно отполированная, очень твердая и четкая.
– Но о чем же тогда говорят на званых вечерах, – спросила Сара, – если не о разбитых сердцах?
Мэгги смахнула с руки белую нитку от перчатки.
– Одни говорят одно, – сказала она, вставая, – а другие – другое.
Она сняла с покрывала коричневую книжку и расправила простыни. Сара взяла книжку у нее из рук.
– Он считает, – сообщила она, похлопав по невзрачному коричневому томику, – что мир – это лишь мысль, Мэгги.
– Вот как? – откликнулась Мэгги, кладя книгу на умывальник. Она знала, что это уловка, призванная задержать ее для разговора.
– Ты согласна? – спросила Сара.
– Возможно, – сказала Мэгги, не задумываясь. Она протянула руку, чтобы задернуть штору. – Он считает, что мир – это лишь мысль? – переспросила она, держась за штору, но не задергивая ее.
Она думала о чем-то подобном, когда экипаж пересекал Серпантин – когда мать перебила ее мысли. Она думала: «Что я такое? Мы одно целое или мы разделены?» – что-то в этом роде.
– А как же деревья и цвета? – спросила она, оборачиваясь.
– Деревья и цвета? – повторила Сара.
– Деревья существовали бы, если бы мы их не видели?
– Что такое «я»?… Я… – Она замолчала, не зная, что хочет сказать. Она говорила чепуху. – Да, – сказала Сара. – Что такое «я»? – Она уцепилась за сестрину юбку, желая то ли просто задержать ее, то ли поспорить. – Что такое «я»? – повторила она.
Но тут за дверью послышался шелест, и вошла их мать.
– Ах, дорогие мои дети! – воскликнула она. – Все еще не спите? Опять разговоры?
Она прошла через комнату, лучась и сияя, словно еще была под впечатлением от бала. На ее шее и руках сверкали драгоценности. Она была необыкновенно хороша. Эжени огляделась.
– И цветок на полу, и все в беспорядке, – сказала она. Она подобрала цветок, который уронила Мэгги, и поднесла к губам.
– Просто я читала, мама, и ждала, – сказала Сара. Она взяла обнаженную руку матери и погладила ее. Она так точно копировала мать, что Мэгги улыбнулась. Внешне одна была полной противоположностью другой: леди Парджитер такая вальяжная, Салли такая угловатая. Но имитация получилась идеально и произвела действие: леди Парджитер позволила, чтобы ее притянули на кровать.
– Но тебе пора спать, Сал, – запротестовала Эжени. – Что сказал доктор? Лежать прямо, лежать спокойно. – Она откинулась на подушки.
– Я лежу прямо и спокойно, – сказала Сара. – Так, – она посмотрела на мать, – расскажи мне о приеме.
Мэгги стояла у окна. Она смотрела, как по железной лестнице спускаются парочки. Скоро сад наполнился бледными белыми и розовыми пятнами, которые двигались туда-сюда. Разговор о приеме у себя за спиной она слушала вполуха.
– Прием был очень милый, – сказала мать.
Мэгги приблизила лицо к стеклу. Квадрат сада затопили пятна разнообразных оттенков, которые, казалось, наплывали друг на друга, пока не попадали под прямой свет из дома, внезапно превращаясь в дам и мужчин в вечерних нарядах.
– Рыбных ножей не было? – услышала она вопрос Сары.
Мэгги обернулась.
– С кем рядом я сидела? – спросила она.
– С сэром Мэтью Мэйхью, – сказала леди Парджитер.
– Кто такой сэр Мэтью Мэйхью? – спросила Мэгги.
– Весьма уважаемый человек, Мэгги! – сказала мать, взмахнув рукой.
– Весьма уважаемый человек, – эхом откликнулась Сара.
– Но это действительно так. – Леди Парджитер улыбнулась, глядя на дочь, которую особенно любила, возможно, за ее плечо.
– Сидеть с ним рядом – большая честь, Мэгги, – сказала она с неодобрением. – Большая честь. – Она задумалась, как будто вспомнила какую-то сценку, а затем подняла взгляд.
– А когда Мэри Палмер, – опять заговорила леди Парджитер, – спросила меня: «Где ваша дочь?» – я смотрю и вижу Мэгги, за милю от меня, на другом конце зала, беседующей с Мартином, которого она может встретить в любой день своей жизни в омнибусе!
Она акцентировала слова так сильно, что казалось, будто они взлетают и падают. При этом она отбивала ритм своей речи пальцами по голой руке Салли.
– Но я не вижу Мартина каждый день, – возразила Мэгги. – Я не видела его с тех пор, как он вернулся из Африки.
Мать перебила ее:
– На приемы ходят, дорогая Мэгги, не для того, чтобы говорить с кузенами. На приемы ходят для того…
Тут снаружи опять ворвалась музыка. Первые аккорды были преисполнены неистовой энергией, будто властно сзывали танцоров обратно. Леди Парджитер не договорила фразу. Она вздохнула. Ее тело словно обмякло. Тяжелые веки чуть прикрыли большие темные глаза. Она медленно покачивала головой в такт музыке.
– Что это играют? – пробормотала Эжени. Она стала мурлыкать мелодию, отбивая рукой ритм. – Я когда-то под это танцевала.
– Станцуй сейчас, мама, – попросила Сара.
– Да, мама. Покажи, как ты раньше танцевала, – стала уговаривать ее Мэгги.
– Без кавалера? – удивилась леди Парджитер.
Мэгги отодвинула кресло.
– Кавалера ты представь себе, – не отступала Сара.
– Ну что ж, – сказала леди Парджитер и встала.
Примерно вот так. – Она выдержала паузу, взяла одной рукой край юбки, другую – с цветком – слегка согнула и стала кружиться на расчищенном Мэгги пространстве. Она двигалась с необыкновенной величавостью. Все ее тело изящно подчинялось ритму и переливам музыки, которая зазвучала громче и яснее, как только Эжени начала свой танец. Она кружилась и кружилась между столами и стульями, а когда музыка затихла, воскликнула: «Вот!» Ее тело как будто сложилось и закрылось, она еще раз выдохнула: «Вот!» – и опустилась – одним движением – на край кровати.
– Чудо! – воскликнула Мэгги. Она смотрела на мать с восхищением.
– Глупости, – засмеялась леди Парджитер. Она немного запыхалась. – Я уже стара танцевать. Вот в молодости, в вашем возрасте… – Она перевела дух.
– Ты танцевала и танцевала, и выбежала на террасу, и нашла записку, вложенную в твой букет, – сказала Сара, поглаживая руку матери. – Расскажи эту историю, мама.
– Не сегодня, – отказалась леди Парджитер. – Слышите, часы бьют!
Аббатство располагалось очень близко, и бой часов наполнил спальню, мягко, но тревожно, будто в окно влетела стая вздохов, которые спешили один вослед другому, скрывая за собой что-то грозное. Леди Парджитер стала считать. Было очень поздно.
– Я расскажу вам, как это было, на днях, – сказала она, наклоняясь, чтобы поцеловать дочь на прощанье.
– Сейчас! Сейчас! – закричала Сара, не отпуская мать.
– Нет, не сейчас, не сейчас! – Леди Парджитер опять засмеялась, выдергивая свою руку. – Меня папа зовет!
Из коридора послышались шаги, а потом – из-за двери – голос сэра Дигби:
– Эжени! Очень поздно, Эжени!
– Иду! – крикнула она в ответ. – Иду!
Сара ухватилась за шлейф ее платья.
– Ты еще не рассказала нам историю про букет, мама!
– Эжени! – опять позвал сэр Дигби, в его голосе слышалась властность, не допускающая возражений. – Ты заперла…
– Да, да, да, – сказала Эжени. – Я все расскажу вам в другой раз.
Она освободилась от рук Сары, быстро поцеловала обеих дочерей и вышла.
– Не расскажет, – с горечью сказала Мэгги, подбирая свои перчатки.
Они прислушались к голосам в коридоре. Говорил отец. Он сердито ворчал, порицая мать.
– Вытанцовывает верхом на своей шпаге. Верхом на шпаге и с цилиндром под мышкой, – сказала Сара, ожесточенно взбивая подушки.
Голоса стали слабеть: родители пошли по коридору, а затем вниз по лестнице.
– Как думаешь, от кого была та записка? – спросила Мэгги и посмотрела на сестру, которая зарывалась в подушки.
– Какая записка? А, в букете. Не помню. – Она зевнула.
Мэгги закрыла окно и сдвинула шторы, оставив узкую щель, через которую проникал свет.
– Задвинь совсем, Мэгги, – раздраженно попросила Сара. – Надоел этот шум.
Она свернулась калачиком спиной к окну, надвинув на голову подушку, чтобы не слышать музыку, которая все еще доносилась снаружи, и вдавив лицо в ложбину между подушками. Она была похожа на куколку, туго закутанную в белые простыни. Виден оставался только нос. Под простыней ясно определялись очертания бедра и стоп, торчавших над краем кровати.
Сара издала глубокий вздох, перешедший в сопение. Она уже спала.
Мэгги пошла по коридору и увидела, что внизу горит свет. Она остановилась и перегнулась через перила. Передняя была освещена. Мэгги увидела большое итальянское кресло с позолоченными ножками-лапами. На нем лежал брошенный матерью плащ, его золотистые складки мягко ниспадали на фоне темно-красной обивки. На столе стоял поднос с виски и сифоном. Затем Мэгги услышала голоса родителей, поднимавшихся по кухонной лестнице. Они возвращались с цокольного этажа. Недавно в одном из домов на их улице было совершено ограбление, и мать обещала врезать новый замок в дверь кухни, но забыла. Мэгги услышала, как отец сказал:
– …расплавят, и поминай как звали.
Мэгги поднялась на несколько ступенек.
– Мне очень стыдно, Дигби, – сказала Эжени, когда они вошли в переднюю. – Я завяжу узелок на носовом платке. И схожу завтра утром сразу после завтрака… Да, – она подхватила с кресла плащ, – пойду сама и скажу: «С меня хватит ваших оправданий, мистер Той. Вы слишком часто меня обманывали. После стольких лет!»
Последовала пауза. Мэгги услышала, как журчит, наливаясь в бокал, газированная вода, затем звякнуло стекло, после чего свет погас.
1908
Был март, и дул ветер. Впрочем, он не «дул». Он рвал и хлестал. Он был так жесток. Так несносен. Он не только выбеливал щеки и покрывал красными пятнами носы, он задирал юбки, выставлял напоказ толстые ноги, заставлял штанины облеплять костлявые голени. В нем не было плавности, полноты. Он скорее напоминал серп, но не тот, что жнет колосья во благо, а тот, что губит, наслаждаясь бесплодной пустотой. Одним порывом он стирал цвет – отнимал его даже у полотен Рембрандта в Национальной галерее, даже у роскошного рубина в витрине на Бонд-стрит: один порыв – и все обесцвечено. Если где и была родина у этого ветра, то на Собачьем острове [32]32
Собачий остров – часть Ист-Энда в излучине Темзы. С 1802 г. и до 40-х гг. XX в. – район доков и рабочих трущоб.
[Закрыть], среди консервных банок, сваленных рядом с серой ночлежкой, на окраине грязного города. Ветер взметал гнилые листья, даря им еще одну судорогу тленного существования, издевался над ними, высмеивал их, однако ему нечем было заменить свои осмеянные жертвы на их опустевшем месте. Они падали на землю. Бесцельный и бесплодный, визжащий от восторга разрушения, он мог лишь сдирать кору, сбивать цветы, обнажать голую кость, гасить свет в окнах, загонять пожилых господ глубже и глубже в пахнущие кожей пазухи клубов, а пожилых дам с пустыми глазами и дряблыми щеками обрекать на безрадостное сидение среди кисточек и салфеток в спальнях и кухнях. Торжествуя в своем распутстве, он опустошал улицы, гнал перед собой живую плоть, налетал на мусорный фургон, стоявший у Военно-Морского магазина, и разбрасывал по мостовой старые конверты, комки волос, бумажки, измазанные кровью, или чем-то желтым, или типографской краской, и швырял их в гипсовые ноги, в фонарные столбы, в стенки почтовых ящиков, заставлял их ожесточенно лепиться к окрестным оградам.
Мэтти Стайлз, смотрительница дома на Браун-стрит, которая, нахохлившись, сидела в цокольном этаже, подняла голову. По тротуару несло пыль. Она проникала под двери, сквозь оконные рамы, покрывала сундуки и шкафы. Но Мэтти это не трогало. Она была из невезучих. Она думала, что место будет надежное и на нем удастся скоротать лето. Хозяйка умерла, хозяин тоже. Мэтти получила работу через своего сына, полицейского. Дом с таким цокольным этажом ни за что не уйдет до Рождества – так ей сказали. Ей надо было только показывать дом покупателям, которые приходили от агента с разрешением на осмотр. Она всегда обращала их внимание на цокольный этаж, на то, какой он сырой. «Видите, на потолке пятно». Вон оно, отлично заметно. И все равно, покупателю из Китая дом пришелся по вкусу. Годится, сказал он. У него было свое дело в городе. Какая же она невезучая – всего через три месяца переселяться к сыну в Пимлико [33]33
Пимлико – район Лондона, где жили люди среднего достатка.
[Закрыть].
Зазвенел звонок. Пусть его звонит, пусть, пусть, проворчала она. Она больше не будет открывать дверь. Какой-то человек стоит у порога. Она видела ноги на фоне ограды. Пусть звонит, сколько ему угодно. Дом продан. Не видит, что ли, объявление на доске? Читать, что ли, не умеет? Или глаз у него нет? Она придвинулась поближе к огню, который еле пробивался из-под бледной золы. Она видит его ноги у порога – между клеткой для канареек и грязным бельем, которое она собиралась выстирать, но этот ветер не дал – из-за него плечо заныло адски. Пусть звонит, пока дом не рухнет, – ей все равно.
А стоял там Мартин.
«Продано», – было написано на полоске ярко-розовой бумаги, приклеенной к щиту агентства по продаже недвижимости.
– Уже! – сказал Мартин. Он сделал небольшой крюк, чтобы увидеть дом на Браун-стрит. А тот уже продан. Розовая бумажка поразила Мартина. Уже продан, а ведь Дигби всего три месяца как умер, Эжени – чуть больше года. Он постоял, глядя на темные окна, покрытые пылью. Это был своеобразный дом, построенный в восемнадцатом веке. Эжени гордилась им. А мне нравилось там бывать, подумал Мартин. Но сейчас на пороге лежала старая газета, между прутьями ограды застряли клочья соломы; на окнах не было штор, и он мог заглянуть в пустую комнату. Из-за решетки в окне цокольного этажа на него смотрела женщина. Звонить было бессмысленно. Он пошел прочь. На улице его охватило ощущение утраты.
Гадкий, жалкий конец, думал он. Я любил там бывать. Но емуне нравилось думать о неприятном. Что толку? – спрашивал он себя.
– «Дочь короля Испании, – напевал он, поворачивая за угол, – приехала ко мне…» [34]34
Фраза из старинной английской детской песенки.
[Закрыть]
«Интересно, сколько еще, – думал он, звоня в дверь дома на Эберкорн-Террас, – старая Кросби заставит меня ждать?» Ветер был очень холодный.
Он стоял и смотрел на светло-желтый фасад большого, архитектурно ничем не примечательного, но, безусловно, удобного семейного особняка, в котором до сих пор жили его отец и сестра.
«Она стала неторопливой», – подумал Мартин, ежась от ветра. Но тут дверь открылась, и показалась Кросби.
– Здравствуйте, Кросби, – сказал Мартин.
Она широко улыбнулась ему, показав золотой зуб. Считалось, что Мартин всегда был ее любимцем, – эта мысль доставила ему удовольствие.
– Как поживаете? – спросил он, отдавая ей шляпу.
Она была все та же – разве чуть больше сморщилась, стала еще больше похожа на комара, и голубые глаза еще сильнее выпучились.
– Ревматизм беспокоит? – спросил Мартин, когда Кросби помогала ему снять пальто. Она молча ухмыльнулась. Он был настроен дружелюбно и рад увидеть ее почти не переменившейся.
– А где мисс Элинор? – Он открыл дверь гостиной. Комната была пуста. Элинор отсутствовала. Но она была здесь недавно, раз на столе лежала книга. Ничего не изменилось – Мартин был рад это увидеть. Он стоял у камина и смотрел на портрет матери. За последние годы это изображение перестало быть его матерью и превратилось просто в произведение искусства. Но картина была грязной.
Раньше в траве был цветок, подумал Мартин, глядя на темный угол картины, а теперь – только грязно-бурая краска. Интересно, что она читает? Он взял книгу, прислоненную к чайнику, и заглянул в нее.
– «Ренан», – прочел он. – Почему Ренан?
Он начал читать, чтобы скоротать ожидание.
– Мистер Мартин пожаловал, мисс, – сказала Кросби, открывая дверь кабинета.
Элинор оглянулась. Она стояла у отцовского кресла с ворохом газетных вырезок, как будто только что читала их вслух. Перед отцом была шахматная доска с расставленными для партии фигурами. Но он сидел, откинувшись на спинку, и выглядел сонно и мрачно.
– Сохрани их… Убери куда-нибудь, – сказал он, ткнув большим пальцем в сторону газетных вырезок. Это признак глубокой старости, подумала Элинор, – то, что он просит сохранить вырезки. После удара он стал вялым и неповоротливым, на носу и щеках были видны красные сосуды. Элинор тоже чувствовала себя старой, отяжелевшей и медлительной.
– Пожаловал мистер Мартин, – повторила Кросби.
– Мартин пришел, – сказала Элинор.
Отец будто не услышал. Он сидел, уткнув подбородок в грудь.
– Мартин, – повторила Элинор. – Мартин…
Он хочет его увидеть или нет? Она подождала, пока в голове отца медленно сформируется мысль. Наконец он что-то проворчал. Но что это означает, она точно не знала.
– Я пришлю его к тебе после чая, – сказала Элинор и еще немного постояла. Отец выпрямился и начал переставлять шахматные фигуры. Он по-прежнему не падает духом, с гордостью подумала она. Все так же стремится все делать сам.
Она вошла в гостиную и увидела Мартина, который стоял перед безмятежным, улыбающимся изображением матери. В руке он держал книгу.
– Почему Ренан? – спросил он, закрыл книгу и поцеловал сестру. – Почему Ренан?
Элинор слегка покраснела. Отчего-то ее смутило то, что он обнаружил раскрытую книгу. Она села и положила газетные вырезки на чайный столик.
– Как папа? – спросил Мартин.
Она поблекла, подумал он, глядя на Элинор, – и в волосах появилась проседь.
– Неважно, – сказала она и посмотрела на газетные вырезки. – Интересно, – добавила она, – кто все это пишет?
– Что именно? – спросил Мартин. Он взял измятую полоску бумаги и прочитал: – «…Незаурядный государственный служащий… человек широких интересов…» Ой, Дигби. Некрологи. Я сегодня проходил мимо их дома. Он продан.
– Уже? – удивилась Элинор.
– Вид такой заброшенный, – добавил Мартин. – В цокольном этаже сидит какая-то грязная старуха.
Элинор вынула из волос шпильку и принялась разделять фитиль под чайником на волокна. Мартин некоторое время наблюдал за ней молча.
– Я любил там бывать, – наконец сказал он. – Я любил Эжени.
Элинор ответила не сразу.
– Да… – проговорила она без уверенности. Она никогда не чувствовала себя рядом с Эжени непринужденно. – Хотя она все преувеличивала, – добавила Элинор.
– Ну, разумеется, – засмеялся Мартин, по-видимому что-то вспомнив. – Чувства меры в ней было меньше, чем… Его пора выбросить, Нелл, – перебил себя он, раздраженный ее возней с фитилем.
– Нет-нет, – возразила Элинор. – Он вскипает вовремя.
Она помолчала. Протянув руку за чайницей, она отмерила чай для заварки, считая:
– Одна, две, три, четыре.
Она пользуется все той же старинной серебряной чайницей, отметил Мартин, – с задвижной крышкой. Он молча смотрел, как сестра методично отмеряет чай: одна, две, три, четыре ложки…
– Мы не спасем свои души ложью, – вдруг резко выговорил он.
О чем это он? – подумала Элинор.
– Когда я была с ними в Италии… – сказала она вслух.
Но тут открылась дверь, и вошла Кросби с блюдом. За ней в комнату вбежала собака.
– Я хотела сказать… – продолжила было Элинор, но она не могла сказать то, что намеревалась, пока Кросби крутилась в комнате.
– Мисс Элинор нужен новый чайник, – сказал Мартин, указав на старый медный чайник с почти стершимся орнаментом в виде роз, который он всегда терпеть не мог.
– Кросби, – сказала Элинор, все еще орудуя шпилькой, – не одобряет новых изобретений. Кросби и метрополитену себя не доверит, верно, Кросби?
Кросби усмехнулась. Они всегда говорили о ней в третьем лице, потому что она никогда не отвечала – лишь усмехалась. Собака принюхалась к блюду, которое Кросби только что поставила на стол.
– Кросби слишком раскормила животину, – сказал Мартин, указывая на собаку.
– Я постоянно это ей говорю, – откликнулась Элинор.
– На вашем месте, Кросби, – сказал Мартин, – я урезал бы ее рацион и каждое утро устраивал бы ей пробежки по парку.
Кросби широко открыла рот.
– Ах, мистер Мартин! – возмутилась она его жестокости.
Собака последовала за ней вон из комнаты.
– Кросби все та же, – сказал Мартин.
Элинор приподняла крышку чайника и заглянула внутрь. Пузырьков пока не было.
– Чертов чайник, – сказал Мартин. Он взял одну из вырезок и начал скручивать из нее жгут.
– Не надо, папа хочет сохранить их, – сказала Элинор. – Он был совсем не такой. – Она положила руку на вырезки. – Ничего общего.
– А какой он был? – спросил Мартин.
Элинор помолчала. Она могла ясно представить себе дядю: он держит в одной руке цилиндр, а другую положил ей на плечо; они остановились перед какой-то картиной. Но как описать его?
– Он водил меня в Национальную галерею, – сказала она.
– Человек он был весьма образованный, – сказал Мартин, – но при этом жуткий сноб.
– Только с виду, – сказала Элинор.
– И всегда придирался к Эжени по мелочам, – добавил Мартин.
– Представь, каково было жить с ней. Эти манеры…
Она выбросила руку в сторону, но не так, как это делала Эжени, подумал Мартин.
– Я любил ее, – сказал он. – Любил бывать там.
Он вспомнил неприбранную комнату: пианино открыто, окно тоже, ветер раздувает занавески, и тетя идет к нему навстречу, протягивая руки. «Какая радость, Мартин! Какая радость!» – обычно говорила она. Из чего состояла ее личная жизнь? – задавался он вопросом. У нее были романы? Должны были быть – разумеется, еще бы.
– Кажется, была некая история, – начал он, – насчет письма?
Он хотел сказать: «Кажется, у нее был с кем-то роман?» – но с сестрой говорить откровенно было труднее, чем с другими женщинами, потому что она все еще обращалась с ним как с мальчиком. Влюблялась ли когда-нибудь Элинор? – думал он, глядя на нее.
– Да, – сказала она, – была история…
Но в этот момент резко прозвенел электрический звонок. Она не договорила.
– Папа, – сказала Элинор и привстала.
– Не надо, – возразил Мартин. – Я схожу, – он встал. – Я обещал ему партию в шахматы.
– Спасибо, Мартин. Ему будет приятно, – сказала Элинор, чувствуя облегчение от того, что он вышел, оставив ее одну.
Она откинулась на спинку кресла. Как ужасна старость, думала она. Она отнимает у человека его способности – одну за другой, оставляя лишь что-то живое в сердцевине, оставляя – она сгребла в кучу газетные вырезки – лишь партию в шахматы и вечерний визит генерала Арбатнота.
Лучше умереть, как Эжени и Дигби, в расцвете сил, не потеряв ни одной из своих способностей. Но он был совсем не такой, думала Элинор, глядя на вырезки. «Мужчина исключительно привлекательной внешности… рыбачил, охотился, играл в гольф…» Нет, ничего похожего. Он был странным человеком. Слабым, чувствительным, любящим титулы, живопись. Часто его подавляла, как догадывалась Элинор, чрезмерная эмоциональность жены. Элинор отодвинула вырезки и взяла свою книгу. Удивительно, как по-разному двое воспринимают одного и того же человека, думала она. Вот Мартину нравилась Эжени, а ей – Дигби. Она начала читать.
Ей всегда хотелось больше знать о христианстве – с чего оно началось, что оно означало у своего истока. Бог есть любовь, Царствие Небесное внутри нас – все эти изречения, думала она, листая страницы, что они значат? Сами слова были прекрасны. Но кто сказал их – и когда? Носик чайника выпустил в нее струю пара, и она отодвинула его. Ветер гремел окнами в глубине дома, гнул низкорослые кусты, на которых все еще не было листьев. Эти слова сказал человек под фиговым деревом на горе, думала она. А другой человек записал их. Но что если сказанное тем человеком так же ложно, как и то, что этот человек – она прикоснулась ложкой к газетным вырезкам – говорит о Дигби? И вот я, думала она, глядя на фарфор в голландском буфете, сижу в гостиной, и во мне звучит отголосок сказанного кем-то много лет назад – слова дошли до меня (фарфор стал из голубого сине-серым) – через горы, через моря.
Ее мысли прервал звук, донесшийся из передней. Кто-то вошел? Она прислушалась. Нет, это ветер. Дул жуткий ветер. Он прижимал дом к земле; хватал его мертвой хваткой, а потом отпускал – чтобы тот развалился на части. Наверху хлопнула дверь; там в спальне, вероятно, открыто окно. Штора постукивает. Трудно сосредоточиться на Ренане. Впрочем, он ей нравился. По-французски она, конечно, читала легко. И по-итальянски. И немного по-немецки. Но какие большие пустоты, какие пробелы, думала она, опираясь на спинку кресла, есть в ее знаниях! Как мало она знает обо всем. Взять хотя бы эту чашку. Она подняла чашку перед собой. Из чего она состоит? Из атомов? А что такое атомы и что держит их вместе? Гладкая и твердая фарфоровая поверхность с красными цветами на секунду показалась ей чудесной тайной. Однако из передней опять что-то послышалось. Это был ветер, но и чей-то голос, кто-то говорил. Наверное, Мартин. Но с кем он может говорить? Элинор прислушалась, но не смогла разобрать слов из-за ветра. И почему он сказал: «Мы не спасем свои души ложью»? Он имел в виду самого себя. Всегда понятно по интонации, когда человек говорит о самом себе. Возможно, он оправдывал свою отставку из армии. Мужественный поступок, подумала Элинор, но не странно ли – она прислушалась к голосам, – что он при этом такой франт? На нем новый синий костюм в белую полоску. И усы он сбрил. Ему не надо был становиться военным, подумала она, – он слишком задиристый… В передней все еще разговаривали. Она не слышала, что он говорит, но звук его голоса навеял ей мысль, что, наверное, у него было много романов. Да – ей стало это совершенно ясно по его голосу, звучавшему за дверью – у него было очень много романов. Но с кем? И почему мужчины придают романам такое значение? – задала она себе вопрос, когда дверь открылась.








