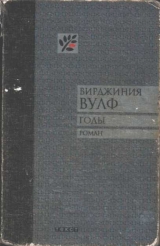
Текст книги "Годы"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
– Да, но нам повезло, – добавили Милли, – у нас там несколько крупных имений. Нам повезло, – повторила она, – если не считать мистера Фиппса, – она едко усмехнулась.
Норт очнулся. Она говорит всерьез, подумал он. Ее ехидство придало ей подлинности. Настоящей стала не только она: вся их деревня, большой дом, малый дом, церковь и круг старых деревьев предстали перед ним совершенно реально. Он был не против пожить у них.
– Это наш священник, – объяснил Хью. – По-своему неплохой малый, но слишком близок к католичеству. Свечи и все такое.
– А его жена… – начала Милли.
Элинор вздохнула. Норт посмотрел на нее. Она засыпала. Остекленелый взгляд, застывшее выражение лица. В какое-то мгновение она была ужасно похожа на Милли, дрема выявила семейное сходство. Затем она широко раскрыла глаза, усилием воли не давая векам опуститься. Но она явно ничего не видела.
– Ты должен приехать, и увидишь, как будет хорошо, – сказал Хью. – Как насчет первой недели сентября? – Он раскачивался с боку на бок, как будто его добросердечие перекатывалось в нем. Он был похож на слона, который собирается встать на колени. А если он встанет на колени, как он поднимется обратно? – спросил себя Норт. И если Элинор заснет и захрапит, что мне тогда делать, если я буду сидеть между колен у слона?
Он огляделся, ища повода уйти.
В их сторону шла Мэгги, не ведая, что ее ждет. Они увидели ее. Норту очень захотелось крикнуть: «Берегись! Берегись!» – потому что она находилась в опасной зоне. Длинные белые щупальца, которые бесформенные твари распускают по течению, чтобы ловить себе еду, затащат, засосут ее. Всё, они ее увидели: она обречена.
– А вот и Мэгги! – воскликнула Милли, поднимая взгляд.
– Сто лет тебя не видел! – сказал Хью, пытаясь приподнять себя.
Мэгги пришлось остановиться и вложить свою руку в бесформенную лапу. Норт встал, истратив на это последнюю каплю энергии, которая осталась в нем от адреса в жилетном кармане. Он уведет Мэгги. Он спасет ее от семейной заразы.
Но она не обратила на него внимания. Она стояла на месте, отвечая на приветствия, сохраняя полное самообладание, – как будто используя специальный набор снаряжения для экстренных случаев. О Господи, сказал себе Норт, она не лучше их. Она покрыта коркой неискренности. Они уже говорят о ее детях.
– Да, это тот малыш, – говорила Мэгги, указывая на юношу, танцевавшего с девушкой.
– А дочь, Мэгги? – спросила Милли, оглядываясь вокруг.
Норт заерзал. Это заговор, понял он. Это каток, который все сглаживает, стирает, обкатывает до безликости, придает всему одинаковую округлость. Он прислушался. Джимми был в Уганде, Лили была в Лестершире, мой мальчик, моя девочка… – вот что они говорили. Но им не интересны чьи-то дети, кроме своих, заметил он. Только свои, их собственность, их плоть и кровь, которых они будут защищать, выпустив когти в своем болоте, думал он, глядя на маленькие лапки Милли, – даже Мэгги, даже она. Ведь она тоже говорила о «моем мальчике, моей девочке». Как они могут быть цивилизованными?
Элинор засопела. Она клевала носом – бесстыдно, беспомощно. В беспамятстве есть нечто непристойное, подумал Норт. Ее рот приоткрылся, голова завалилась набок.
Но настал его черед. Повисла пауза. Надо подстегнуть разговор, понял он, кто-то должен что-то говорить, иначе человеческое общество прекратит существование. Хью прекратит существование, Милли тоже. Он уже собирался найти какие-то слова, чтобы заполнить эту огромную пустоту древней утробы, но тут Делия – то ли из присущего хозяйкам желания всегда встревать, то ли из человеколюбия, Норт сказать не мог – подошла, быстро кивая.
– Ладби приехали! – прокричала она. – Ладби!
– Где они? Наши дорогие Ладби! – воскликнула Милли. И они подняли свои тела и ушли, поскольку Ладби, как выяснилось, редко выбирались из Нортумберленда.
– Ну что, Мэгги? – спросил Норт, повернувшись к ней, но в этот момент у Элинор в горле что-то слегка щелкнуло, и ее голова наклонилась вперед. Теперь ее сон был глубок, и он добавлял ей достоинства. Она как будто была где-то очень далеко, погруженная в тот покой, который иногда придает спящим сходство с мертвыми. Минуту-другую Норт и Мэгги сидели молча. Они были наедине, им никто не мешал.
– Зачем, зачем, зачем… – наконец проговорил он, делая такое движение, будто срывает с ковра пучки травы.
– Зачем? – переспросила Мэгги. – Что зачем?
– Да Гиббсы… – сказал он, кивнув в их сторону: они стояли у камина и разговаривали. Грузные, жирные, бесформенные, они казались Норту карикатурой, шаржем, уродливым разрастанием плоти, которая разрушила форму изнутри и подавила собой, потушила внутренний огонь. – Что такое? – спросил Норт.
Мэгги посмотрела на них, но ничего не сказала. Мимо медленно двигались танцующие пары. Одна из девушек остановилась. Она подняла руку, и ее жест бессознательно выразил всю серьезность, с которой очень юное существо ждет от будущей жизни только добра. Это тронуло Норта.
– Зачем? – Он указал большим пальцем на молодежь. – Ведь они так прелестны…
Мэгги тоже посмотрела на девушку, которая прикрепляла к груди чуть было не упавший цветок. Мэгги улыбнулась. И промолчала. А затем без всякого смысла, как эхо, повторила его вопрос: «Зачем?»
На мгновение он опешил. Выходило, она отказалась помочь ему. А он так хотел, чтобы она ему помогла. Почему она не может снять бремя с его плеч и дать ему то, чего он так жаждет, – уверенности, определенности? Потому что она такой же урод, как все остальные? Он посмотрел на ее руки. Сильные и красивые. Но, подумал он, увидев, что пальцы чуть согнулись, если дело коснется «моих» детей, «моего» имущества, ее пальцы мгновенно разорвут посягнувшему брюхо, или зубы вопьются в глотку, покрытую нежной шерсткой. Мы не способны помочь друг другу, думал он, мы все уроды. И все же, хотя ему было неприятно свергать ее с пьедестала, на который он сам ее водрузил, возможно, она была права: мы, творящие идолов из людей, наделяющие кого-то – мужчину или женщину – властью над нами, мы лишь множим уродство и уничижаем самих себя.
– Я поеду к ним в гости, – сказал Норт.
– В Тауэрс?
– Да. В сентябре, охотиться на лисят.
Она не слушала. Только смотрела на него. Она относит его к какой-то категории, почувствовал он. Ему стало неуютно. Она смотрела на него так, как будто он был не он, а кто-то другой. Он чувствовал ту же неловкость, как когда Салли описывала его по телефону.
– Я знаю, – сказал он, напрягая лицо, – я похож на изображение француза со шляпой в руках.
– Со шляпой в руках?
– И с жиром в боках, – добавил он.
– …Шляпа в руках? У кого шляпа в руках? – спросила Элинор, открывая глаза.
Она растерянно огляделась. Ей казалось, что секунду назад Милли говорила о церковных свечах, но с тех пор, по всей видимости, произошло многое. Хью и Милли сидели рядом с ней, а теперь их нет. Был какой-то провал, наполненный светом покосившихся свечей и неким ощущением, которое она не могла описать словами.
Элинор совсем проснулась.
– Что за чушь ты несешь? – возмутилась она. – У Норта нет шляпы в руках! И никакого жира в боках, – добавила она. – Ни капли, ни капли. – Она нежно похлопала его по колену.
Ей было необычайно хорошо. Как правило, после пробуждения в памяти остается какой-то сон – сцена или образ. Но это ее недолгое забытье, в котором были косые, все удлинявшиеся свечи, оставило по себе лишь ощущение – чистое ощущение.
– У него нет в руках шляпы, – повторила Элинор.
Норт и Мэгги засмеялись над ней.
– Ты заснула, Элинор, – сказала Мэгги.
– В самом деле? – удивилась Элинор. Да, верно, в разговоре был большой пробел. Она не могла вспомнить, о чем они беседовали. И рядом была Мэгги, а Милли и Хью ушли. – Я задремала всего на секунду, – сказала она. – Ну, а что ты собираешься делать, Норт? Какие у тебя планы? – весьма деловито спросила она. – Мы не должны отпускать его обратно, Мэгги. На эту жуткую ферму.
Она хотела выглядеть до крайности практичной – частью чтобы доказать, что она не спала, частью – желая сберечь необычное ощущение счастья, которое еще держалось в ней. Ей казалось, если скрыть его от чужих глаз, оно не исчезнет.
– Ты достаточно скопил? – спросила Элинор.
– Скопил? – переспросил Норт. Почему, интересно, люди, которых сморил сон, всегда стараются показать, что у них нет сна ни в одном глазу? – Четыре-пять тысяч, – добавил он, не думая.
– Что ж, этого хватит, – не унималась Элинор. – Пять процентов, шесть процентов… – Она попыталась сделать вычисления в уме. Пришлось прибегнуть к помощи Мэгги. – Четыре-пять тысяч, это сколько будет, Мэгги? Ведь на жизнь хватит, правда?
– Четыре-пять тысяч… – повторила Мэгги.
– Под пять или шесть процентов, – напомнила Элинор. У нее не получалось считать в уме и в лучшие времена, но сейчас ей почему-то казалось особенно важным опереться на факты. Она открыла сумочку и нашла там письмо и огрызок карандаша. – Вот, посчитай на этом, – сказала она.
Мэгги взяла бумагу и провела несколько линий карандашом, как бы пробуя его. Норт заглянул ей через плечо. Решала ли она задачу, думала ли о его жизни, его потребностях? Нет. Она рисовала шарж на крупного мужчину в белом жилете, сидевшего напротив. Она дурачилась. Норт ощутил некоторую нелепость ситуации.
– Что за глупости? – сказал он.
– Это мой брат, – ответила Мэгги, кивнув на мужчину в белом жилете. – Он когда-то катал нас на слоне… – Она добавила к жилету росчерк.
– Мы говорим о серьезных вещах! – возмутилась Элинор. – Если ты, Норт, хочешь жить в Англии, если ты хочешь…
Он перебил ее:
– Я не знаю, чего хочу.
– А, понятно! – сказала она и засмеялась. К ней вернулось ощущение счастья, тот самый необъяснимый восторг. Ей казалось, будто все они молоды и перед ними лежит будущее. Ничто еще не устоялось, впереди – неизвестность, жизнь только начинается и полна возможностей.
– Ну не странно ли? – воскликнула она. – Разве не удивительно? Не потому ли жизнь – как это выразить? – чудо? Я хочу сказать… – она попыталась объяснить, потому что Норт выглядел озадаченным: – Говорят, старость это то-то и то-то, а ведь все не так. Она другая, совсем другая. В детстве, в юности, всегда – моя жизнь была бесконечным открытием. Чудом. – Она умолкла. Опять наговорила чепухи. После того сновидения у нее слегка кружилась голова.
Когда начался танец, Пегги оказалась всеми покинутой у книжного шкафа; она стояла как можно ближе к нему. Чтобы скрыть свое одиночество, она взяла с полки книгу. Книга была в обложке из зеленой кожи, Пегги перевернула ее и увидела вытесненные в коже золотые звездочки. Очень кстати, подумала она, потому что можно сделать вид, будто я любуюсь переплетом… Но не могу же я долго стоять и любоваться переплетом. Она открыла книгу. Пусть угадает мои мысли, подумала Пегги. Если открыть книгу наугад, прочтешь свои мысли.
«La médiocrité de l’univers m’étonne et me révolte», – прочла она. Вот именно. Точно. Она стала читать дальше: «…la petitesse de toutes choses m’emplit de dégoût». Она подняла голову. Ей наступали на ноги, «…la pauvreté des êtres humains m’anéantit» [68]68
«Посредственность Вселенной поражает и возмущает меня… всеобщая ничтожность наполняет меня отвращением… убожество людей меня убивает» ( фр.). Источник цитаты не установлен.
[Закрыть]. Она закрыла книгу и поставила ее на место.
Точно, подумала Пегги.
Она поправила часы на запястье и тайком посмотрела на них. Время шло. В часе шестьдесят минут, сказала она себе; в двух часах сто двадцать: Сколько мне еще придется пробыть здесь? Нельзя ли уже уйти? Она увидела, что Элинор кивает ей. Пегги пошла к сидевшим в креслах.
– Иди сюда, Пегги, поговори с нами! – позвала Элинор.
– Элинор, ты знаешь, который час? – спросила Пегги, подходя, и показала на свои часы. – Не пора ли нам?
– Я забыла о времени, – сказала Элинор.
– Но завтра тебе будет тяжело, – предостерегла Пегги, стоя рядом с ней.
– Узнаю врача! – поддразнил сестру Норт. – Здоровье, здоровье, здоровье! Но здоровье – это не самоцель. – Он поднял на нее глаза.
Пегги не обратила на него внимания.
– Ты что, хочешь досидеть до конца? – вновь обратилась она к Элинор. – Это же на всю ночь. – Она посмотрела на пары, кружившие в такт граммофонной музыке, как будто какое-то животное умирало в медленной, но мучительной агонии.
– Но ведь нам хорошо, – сказала Элинор. – Присоединяйся, порадуйся с нами.
Она указала на пол рядом с собой. Пегги опустилась на пол. Хватит думать, анализировать, копаться в себе – вот что хотела сказать Элинор, Пегги это поняла. Радуйся мгновению. Но всякий ли на это способен? – спросила она себя, натягивая юбки вокруг своих ног. Элинор наклонилась и похлопала ее по плечу.
– Скажи-ка мне, – она хотела втянуть племянницу, выглядевшую слишком мрачно, в разговор, – ты же врач, ты в этом разбираешься. Что означают сны?
Пегги рассмеялась. Очередной вопрос Элинор. Сколько будет дважды два и откуда взялась Вселенная?
– Точнее, даже не сны, – продолжила Элинор. – Ощущения. Ощущения во время сна.
– Дорогая Нелл, – произнесла Пегги, подняв взгляд на нее, – сколько раз я тебе говорила. Врачи очень мало знают о теле и совсем ничего – о душе. – Она опять опустила глаза.
– Я всегда считал их мошенниками! – воскликнул Норт.
– Жаль! – сказала Элинор. – Я надеялась, ты сможешь объяснить мне… – Она склонилась вперед. Пегги заметила румянец на ее щеках. Она была взволнована, но с чего, интересно?
– Что объясню? – спросила Пегги.
– А, ничего, – сказала Элинор. Ну вот, я срезала ее, подумала Пегги.
Она опять посмотрела на свою тетку. Ее глаза блестели, щеки были красные – или это просто индийский загар? На лбу надулась синяя жилка. Но с чего такое волнение? Пегги оперлась спиной о стену. С пола ей было видно множество ног, двигающихся в разные стороны, в мужских кожаных туфлях, в дамских атласных, в носках и в шелковых чулках. Они плясали – ритмично, напористо, подчиняясь звукам фокстрота. «А как насчет попить чайку? – сказал он мне, сказал он мне…» Мелодия все повторялась и повторялась. А над головой Пегги звучали голоса. Бессвязные обрывки долетали до нее: «…в Норфолке, где у моего брата есть яхта…», «…да, полный крах, я согласен…». На приемах люди обсуждают всякую ерунду. А рядом говорила Мэгги, говорил Норт, говорила Элинор. Вдруг Элинор взмахнула рукой.
– Это же Ренни! – воскликнула она. – Ренни, которого я никогда не вижу. Ренни, которого я люблю… Иди сюда, поговори с нами, Ренни.
Пара мужских туфель пересекла поле зрения Пегги и остановилась перед ней. Ренни сел рядом с Элинор. Пегги было видно лишь его профиль: большой нос, костистую скулу. «А как насчет попить чайку? – сказал он мне, сказал он мне…» – вымучивал из себя граммофон; пары двигались мимо, кружа. Но небольшая компания в креслах беседовала и смеялась.
– Я знаю, ты со мною согласишься… – говорила Элинор. Из-под полуопущенных век Пегги видела, что Ренни обернулся к ней. Она видела его костистую скулу, его большой нос; его ногти, заметила она, были коротко острижены.
– Смотря что ты скажешь, – откликнулся он.
– О чем мы говорили? – Элинор задумалась. Уже забыла, заподозрила Пегги.
– …Что все изменилось к лучшему, – услышала она голос Элинор.
– С тех пор как ты была маленькой? – это вроде бы спросила Мэгги.
Затем вмешался голос, шедший от юбки с розовым бантом на кайме:
– …Не знаю почему, но жара на меня больше не действует, как раньше…
Пегги подняла голову Она увидела пятнадцать розовых бантов, аккуратно пришитых к платью. И не Мириам ли Пэрриш принадлежит увенчивающая платье благообразная овечья головка?
– Я хочу сказать, что мы сами изменились, – сказала Элинор. – Мы стали счастливее, свободнее…
Что она понимает под «счастьем», под «свободой»? – подумала Пегги, опять прислоняясь спиной к стене.
– Вот, например, Ренни и Мэгги, – продолжала Элинор. Она помолчала немного и заговорила опять. – Ты помнишь, Ренни, ту ночь, когда был налет? Я тогда познакомилась с Николаем… мы сидели в погребе, помнишь?.. Идя вниз по ступенькам, я сказала себе: «Вот счастливый брак»… – Последовала очередная пауза. – Я сказала себе… – Пегги увидела, что Элинор положила руку на колено Ренни. – «Если бы я знала Ренни в молодости…» – она замолчала. Она имеет в виду, что тогда влюбилась бы в него? – подумала Пегги. Опять вмешалась музыка: «…сказал он мне, сказал он мне…» – Нет, никогда… – Пегги опять услышала голос Элинор. – Никогда…
Хочет ли она сказать, что никогда не любила, никогда не хотела выйти замуж? – подумала Пегги. Все засмеялись.
– Да вы выглядите на восемнадцать лет, – сказал Норт.
– И чувствую себя так же! – воскликнула Элинор. Но завтра утром ты превратишься в развалину, подумала Пегги, взглянув на нее. У Элинор было красное лицо, на лбу проступили сосуды.
– У меня такое чувство… – Элинор запнулась и поднесла руку к голове, – как будто я побывала в ином мире! Мне так хорошо!
– Вздор, Элинор, вздор, – сказал Ренни.
Так и думала, что он это скажет, с каким-то удовлетворением отметила про себя Пегги. Она видела его профиль за коленями своей тетки. Французы – рационалисты, они благоразумны, думала она. Но все равно, пусть Элинор пощиплет себя за душу, если ей это нравится, почему нет?
– Вздор? Что значит вздор? – спросила Элинор, наклонившись вперед и подняв руку ладонью вверх, как бы призывая Ренни ответить.
– Ты всегда говоришь об ином мире, – сказал он. – А чем плох этот?
– Но я имела в виду этот мир! Мне хорошо в этом мире, с живыми людьми. – Она отвела руку, точно желая обнять всех присутствующих: молодых, старых, танцующих, беседующих, Мириам с розовыми бантами, индийца в тюрбане. Пегги откинулась к стене. Ей хорошо в этом мире, думала она, хорошо с живыми людьми!
Музыка прекратилась. Молодой человек, который ставил пластинки на граммофон, куда-то ушел. Пары распались и стали продвигаться к выходу. По-видимому, они намеревались поесть. Они собирались высыпать в сад и рассесться по жестким закопченным стульям. Музыка, которая сверлила мозг Пегги, больше не звучала. Установилось временное затишье. Вдалеке Пегги слышала звуки вечернего Лондона: автомобильный клаксон, сирену на реке. Эти далекие звуки, принесенное ими напоминание о других мирах, безразличных к этому миру, о людях – тяжко трудящихся, тянущих лямку в непроглядной тьме, в толще ночи, заставили Пегги повторить слова Элинор: «Мне хорошо в этом мире, хорошо с живыми людьми». Но как человеку может быть «хорошо», спросила себя Пегги, в мире, который переполнен горем? С каждого плаката на всех перекрестках смотрит Смерть, или того хуже – тирания, жестокость, мучительство, крах цивилизации, конец свободы. Мы здесь, думала она, лишь прячемся под утлым листком, который будет уничтожен. А Элинор говорит, что мир стал лучше, потому что двум человекам на много миллионов – «хорошо». Пегги неподвижно смотрела в пол, который теперь был пуст, если не считать муслиновой нитки из чьего-то платья. Но зачем я все замечаю? – думала она. Она передвинулась на другое место. Почему я должна думать? Она не желала думать. Ей хотелось бы, чтобы существовали шторы, как в вагонных купе, которыми можно закрыться от света и загородить сознание. Синие шторы, которые опускают во время ночных поездок. Думать – это пытка. Вот бы перестать думать и отдаться течению грез… Но мерзость мира заставляет меня думать. Или это поза? Не натянула ли она на себя удобную личину того, кто указует на свое обливающееся кровью сердце и терзается мировой скорбью, а ближних-то вовсе и не любит? Опять она увидела перед собой залитый красным светом тротуар и лица людей, толпящихся у входа в кинотеатр. Равнодушные, безвольные лица. Лица одурманенных дешевыми удовольствиями, тех, у кого даже не хватает мужества быть самими собой, кто всегда рядится, притворяется, прикидывается. А здесь, в этой гостиной… – думала она, остановив взгляд на одной из пар… Нет, я не буду думать, повторила она себе. Она заставит свой мозг освободиться, стать пустым, расслабиться и принимать все спокойно и снисходительно.
Она прислушалась. Сверху до нее долетали обрывки фраз: «…в Хайгейте квартиры с ванными комнатами… Твоя мама… Да, Кросби еще жива…» Семейные сплетни. Они это любят. Но разве я могу это любить? – спросила она себя. Она была слишком утомлена, кожа вокруг глаз натянулась, голову сдавил обруч. Она попыталась отвлечься мыслями о темных полях. Но это было невозможно: рядом смеялись. Пегги открыла глаза, раздосадованная этим смехом.
Смеялся Ренни. Он держал в руке листок бумаги, голова его была откинута назад, рот широко открыт. Из него раздавалось: «Ха! Ха! Ха!» Это смех, сказала себе Пегги. Такие звуки производят люди, когда им весело.
Некоторое время она смотрела на Ренни. Наконец ее мышцы начали самопроизвольно подергиваться. Она сама не могла удержаться от смеха. Пегги протянула руку, и Ренни передал ей листок. Он был сложен. Оказывается, они играли. Каждый нарисовал часть картинки. Сверху была женская голова, напоминавшая королеву Александру, в ореоле кудряшек, ниже – птичья шея, затем туловище тигра, а завершали изображение толстые слоновьи ноги в детских штанишках.
– Это я нарисовал, это я! – сказал Ренни, ткнув пальцем в ноги, с которых свисали длинные тесемки. Пегги смеялась, и смеялась, и смеялась, не в силах сдержать смех.
– Сей лик погнал за море тьму судов! [69]69
Цитата из трагедии Кристофера Марло (1564–1593) «Доктор Фаустус».
[Закрыть]– сообщил Норт, указывая на другую часть химеры. Все опять захохотали. Пегги перестала смеяться, ее губы разгладились. Однако собственный смех возымел на нее странное действие. Он снял напряжение, будто освободил ее. Она почувствовала или, скорее, увидела – не место и людей, а состояние души, в котором был искренний смех, было настоящее счастье, и поэтому изломанный мир предстал как нечто целое, единое, обширное и свободное. Но как это выразить?
– Послушайте… – начала она. Она хотела сформулировать что-то казавшееся ей очень важным – о мире, в котором люди составляют единство, где они свободны… Но они смеялись, а она была настроена серьезно. – Послушайте… – опять начала она.
Элинор перестала смеяться.
– Пегги хочет что-то сказать, – произнесла она. Остальные замолчали, но – в неудачный момент. Пегги уже не знала, что сказать, хотя отступать было поздно.
– Послушайте, – начала она в третий раз, – вот вы тут все рассуждаете о Норте… – Норт удивленно взглянул на нее. Она говорила совсем не то, что хотела сказать, но надо было продолжать – раз начала. К ней были обращены лица с открытыми ртами – похожие на птиц, разевающих клювы. – Как он будет жить, где он будет жить. Но зачем, какой смысл говорить это?
Она посмотрела на брата. Ею овладело чувство враждебности к нему. Он все еще улыбался, но под ее взглядом улыбка постепенно стерлась с его лица.
– Что толку? – сказала она, глядя ему в глаза. – Ты женишься. Заведешь детей. Чем ты будешь заниматься? Зарабатывать деньги. Писать книжонки ради денег…
Она все испортила. Она хотела сказать нечто не имеющее отношение ни к кому конкретно, а вместо этого сразу перешла на личности. Но дело сделано, теперь надо выпутываться.
– Ты напишешь одну книжонку, потом другую, – сказала она со злостью, – вместо того чтобы жить… жить по-другому, иначе…
Пегги умолкла. Мысль еще крутилась в ее голове, но она не могла ухватить ее. Она словно отколола лишь маленький кусочек от того, что хотела сказать, и в придачу рассердила своего брата. И все-таки целое лежало перед ней – то, что ей открылось и что она не выразила. Однако, резко откинувшись спиной к стене, она почувствовала, будто что-то ее отпустило; ее сердце сильно колотилось, вены на лбу надулись. Она не сумела сказать, но она попыталась. Теперь можно отдохнуть под сенью их насмешек, которые не в силах уязвить ее, можно погрезить о далеких полях. Ее глаза почти закрылись, она представила себя на террасе, вечером; сова летит – вверх-вниз, вверх-вниз, – ее белые крылья выделяются на фоне темной изгороди; с дороги доносятся пение сельских жителей и скрип телеги.
Затем постепенно проступили иные очертания: Пегги увидела контур шкафа напротив, нить муслина на полу; две больших ноги в туфлях – таких тесных, что видны были шишки на ступнях, – остановились перед ней.
Некоторое время никто не двигался и не говорил. Пегги сидела неподвижно. Ей не хотелось шевелиться, произносить слова. Она хотела отдохнуть, растянуться, видеть сны. Она чувствовала себя очень усталой. Затем рядом остановились другие ноги и край черной юбки.
– Вы спускаетесь ужинать? – спросил квохчущий голосок. Пегги посмотрела наверх. Это были ее тетя Милли с мужем.
– Ужин внизу, – сказал Хью. – Ужин внизу.
И они удалились.
– Как они раздались! – насмешливо произнес голос Норта.
– Но они так добры к людям! – возразила Элинор. Опять семейное чувство, подумала Пегги.
Зашевелилось колено, за которым она укрывалась.
– Надо идти, – сказала Элинор.
Подожди, подожди! – хотела взмолиться Пегги. Ей надо было что-то спросить у Элинор, что-то добавить к своей выходке, потому что никто не напал на нее, никто не смеялся над ней. Но было поздно: колени разогнулись, красная накидка повисла прямо. Элинор встала. Она принялась искать свою сумочку или носовой платок, шаря в подушках кресла, в котором сидела. Как всегда, она что-то потеряла.
– Простите старую копушу, – извинилась она и потрясла подушку. На пол упали монеты. Шестипенсовик покатился по ковру и остановился у пары серебристых туфелек.
– Смотрите! – воскликнула Элинор. – Смотрите! Это же Китти!
Пегги подняла голову. Красивая пожилая женщина с вьющимися седыми волосами, украшенными чем-то блестящим, стояла в дверях и осматривалась – видимо, только что пришла и тщетно искала хозяйку. К ногам этой дамы и подкатилась монета.
– Китти! – Элинор поспешила ей навстречу, протягивая руки. Все встали. Пегги тоже встала. Вот и кончилось, все испорчено, поняла она. Не успело что-то соединиться, как опять рассыпалось. Она ощущала пустоту. Теперь надо подбирать осколки и составлять что-то новое, иное, думала она, пересекая гостиную и подходя к иностранцу, которого все звали Брауном, но чье настоящее имя было Николай Помяловский.
– Кто эта дама, – спросил ее Николай, – которая появляется так, будто весь мир принадлежит ей?
– Это Китти Лассуэйд, – сказала Пегги. Из-за того, что Китти стояла в дверях, никто не мог выйти.
– Боюсь, я страшно опоздала, – услышали они ее четкий, властный голос. – Но я была в балете.
Это, кажется, Китти, подумал Норт, глядя на нее. Одна из тех ладных мужеподобных старух, которые вызывали у него легкую неприязнь. Вроде была женой кого-то из наших губернаторов… Или вице-короля Индии? Он легко мог представить ее принимающей гостей в губернаторской резиденции. «Вы садитесь сюда, вы – туда. А вам, молодой человек, стоит больше двигаться». Он знал этот тип женщин. У нее были короткий прямой нос и голубые, широко поставленные глаза. Она могла выглядеть очень эффектно в восьмидесятые годы, подумал Норт, – в узкой амазонке, маленькой шляпке с петушиным пером; возможно, у нее был роман с адъютантом; а потом она остепенилась, стала деспотичной и рассказывала истории о своем прошлом. Он прислушался.
– Да, но Нижинскому он в подметки не годится! – говорила она.
Весьма в ее духе, подумал Норт. Он стал рассматривать книги в шкафу. Вынул одну и перевернул вверх ногами. Одна книжонка, потом другая, – он вспомнил колкость Пегги. Эти слова уязвили его непропорционально своему очевидному смыслу. Она напала на него с такой жестокостью, как будто презирала его, и вид у нее был, точно она вот-вот заплачет. Он открыл книжку. Латынь, что ли? Он прочел одно предложение и пустил его плыть по своему сознанию. Слова были прекрасны, хотя и не имели смысла, однако составляли некий рисунок: «…nox est perpetua una dormienda» [70]70
«…вечную ночь спать суждено» ( лат.). Строка из Катулла.
[Закрыть]. Норт вспомнил, как его учитель говорил: «Начинай с длинного слова в конце фразы». Слова парили в воздухе… Но когда они уже вот-вот должны были раскрыть свой смысл, у двери началось движение. Старый Патрик медленно подошел и галантно подал руку вдове генерал-губернатора, после чего они со старомодно-церемониальным видом начали спускаться по лестнице. Остальные последовали за ними. Молодое тащится за старым, подумал Норт, ставя книгу обратно на полку и направляясь к выходу. Только и они не столь молоды; у Пегги видна проседь – ей, должно быть, уже тридцать семь… Или тридцать восемь?
– Ну как ты, Пег? – спросил Норт, когда они стояли позади всех. Он чувствовал к ней смутную враждебность. Она казалась ему злой, прагматичной и очень придирчивой к другим, особенно к нему.
– Иди первым, Патрик, – услышали они благозвучный и громкий голос леди Лассуэйд. – Эта лестница не приспособлена… – она сделала паузу, вероятно, выставляя вперед ревматическую ногу, – для стариков, которым… – еще одна пауза – на следующей ступени, – приходилось ползать по мокрой траве, давя слизней.
Норт посмотрел на Пегги и засмеялся. Он не ожидал такого конца фразы, впрочем, подумал он, у вдов вице-королей должны быть сады, в которых они давят слизней. Пегги тоже улыбнулась. Но ему было неуютно рядом с ней. Ведь она напала на него. А сейчас они стояли бок о бок…
– Ты видел старого Уильяма Уотни? – спросила она, поворачиваясь к нему.
– Не может быть! – воскликнул Норт. – Он еще жив? Вон тот седоусый морж?
– Да, это он, – сказала Пегги. В дверях стоял старик в белом жилете.
– Старый Квази-Черепах [71]71
Квази-Черепаха – персонаж сказки Льюиса Кэрролла «Аписа в Стране чудес».
[Закрыть], – сказал Норт. Им надо было вытащить свои детские словечки, оживить воспоминания детства, чтобы преодолеть разделявшую их дистанцию, враждебность. – А помнишь… – начал он.
– Ночной побег? – откликнулась она. – Я тогда спустилась из окна по веревке.
– И мы устроили пикник в римском лагере.
– Нас никогда бы не уличили, если бы нас не выдал этот мерзкий мальчишка, – сказала Пегги, спустившись на одну ступень.
– Гаденыш с красными глазами, – сказал Норт.
Больше им вроде и нечего, было сказать друг другу.
Они стояли рядом и ждали, пока другие не пройдут и не освободят им дорогу. А ведь он читал ей свои стихи в яблочном амбаре и когда они бродили среди розовых кустов. А теперь им нечего сказать друг другу.
– Перри, – сказал Норт, спустившись на еще одну ступень и вдруг вспомнив имя красноглазого мальчишки, который утром видел, как они возвращались домой, и наябедничал.
– Альфред, – добавила Пегги.
Она до сих пор многое знает обо мне, подумал Норт, нас все еще объединяет нечто глубинное. Вот почему, понял он, меня так задело, когда она при других сказала о моем «писании книжонок». Это их общее прошлое обличало его настоящее. Он взглянул на нее.
Черт побери этих женщин, они такие жесткие, у них нет фантазии. Будь прокляты их утлые любопытные умишки. К чему приводит их «образование»? Ее оно лишь сделало придирчивой, скептичной. Старушка Элинор, со всей своей нестройной болтовней, стоит дюжины таких, как Пегги. Ни то ни се, думал он, глядя на нее. Ни модница, ни аскетка.








