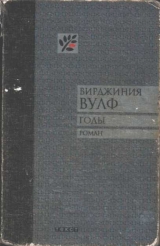
Текст книги "Годы"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– А ты прекрати читать мне лекции, – парировала Сара, открывая дверь на улицу.
Ренни улыбнулся Элинор, когда те на секунду остановились у детской коляски.
– Набираются опыта! – сказал он.
– Спокойной ночи, – попрощалась Элинор, с улыбкой пожимая ему руку. Вот за этого мужчину, выйдя на морозный воздух, сказала она себе с внезапной убежденностью, я хотела бы выйти замуж. Она обнаружила в себе ощущение, которого никогда еще не испытывала. Но он на двадцать лет моложе меня и женат на моей двоюродной сестре. На мгновение она возненавидела убегающее время и обстоятельства жизни, которые оттолкнули ее «от всего этого». Она представила себе сцену: Мэгги и Ренни сидят у камина. Счастливый брак, подумала она, – вот что я ощущала все время. Счастливый брак. Она подняла голову и пошла по темной улочке за Николаем и Сарой. Широкая полоса света, похожая на крыло ветряной мельницы, медленно ползла по небу. Она как будто вбирала в себя мысли Элинор и выражала их широко и просто, точно какой-то чужой голос произносил их на другом языке. Затем луч остановился и ощупал подозрительное место на небе.
Налет! – вспомнила Элинор. Я же забыла про налет!
Николай и Сара дошли до перекрестка и остановились.
– Я забыла про налет! – сказала Элинор, подойдя к ним. Это удивило ее, но так и было на самом деле.
Они стояли на Виктория-стрит. Улица уходила вдаль, изгибаясь; она выглядела шире и темнее, чем обычно. По тротуарам спешили маленькие фигурки; они появлялись на мгновение под фонарем, а затем опять исчезали. Улица была почти пуста.
– Интересно, омнибусы ходят как обычно? – спросила Элинор.
Все трое посмотрели вдаль. Пока что по улице ничего не ехало.
– Я подожду здесь, – сказала Элинор.
– Тогда я пойду, – вдруг заявила Сара. – Спокойной ночи!
Она помахала рукой и пошла прочь. Элинор полагала, что, разумеется, Николай пойдет с Сарой.
– Я подожду здесь, – повторила она.
Но он не двинулся с места. Сара уже исчезла из виду. Элинор посмотрела на Николая. Он рассержен? Или расстроен? Она не знала. Но тут в темноте замаячила махина с закрашенными синей краской фарами. В омнибусе сидели нахохлившись молчаливые люди; в синем свете они были похожи на покойников.
– Спокойной ночи, – сказала Элинор, пожимая руку Николаю.
Она посмотрела назад и увидела, что он все еще стоит на тротуаре со шляпой в руке. Он выглядел высоким, импозантным и одиноким. По небу все так же шарили лучи прожекторов.
Омнибус ехал. Элинор уставилась на старика, который сидел в углу и ел что-то из бумажного пакета. Он поднял голову и перехватил ее взгляд.
– Вам интересно, что у меня на ужин, леди? – спросил он, приподняв одну бровь. Глаза у него слезились и часто моргали. Он продемонстрировал Элинор кусок хлеба с ломтиком то ли ветчины, то ли колбасы.
1918
Пелена тумана покрывала ноябрьское небо; в ней было много слоев и складок, и соткана она была так плотно, что нигде не виднелось ни единого просвета. Дождя не было, но туман оседал влагой на поверхности, отчего сельские дороги были мокрыми и мостовые в городах жирно блестели. Здесь и там на травинках и листьях живых изгородей висели неподвижные капли. Стояло полное безветрие. Проходя сквозь туман, все звуки – блеяние овцы, карканье грачей – глохли и выдыхались. Голоса уличного движения сливались в один монотонный гул. То и дело – будто открывалась и закрывалась дверь или пелена раздвигалась и сходилась опять – рокот города вдруг начинал звучать громче, но затем сразу же опадал.
– Грязное животное, – бормотала Кросби, ковыляя по асфальтовой дорожке через Ричмонд-Грин. У нее болели ноги.
С неба вроде ничего не капало, но широкое открытое пространство было заполнено туманом; поблизости никого не было, так что она могла говорить сама с собой.
– Грязное животное, – опять проворчала она. У нее развилась привычка думать вслух.
В пределах видимости не было ни души, конец дорожки терялся в тумане. Было очень тихо. Лишь грачи, сгрудившиеся на верхушках деревьев, время от времени отрывисто каркали, или листок, испещренный черными крапинами, падал на землю. Лицо Кросби во время ходьбы кривилось, как будто ее мышцы привычно восставали против терзавших ее помех и тягот. За последние четыре года она сильно состарилась. Она выглядела такой маленькой и сгорбленной, что казалось, у нее вряд ли хватит сил преодолеть эту бело-туманную ширь. Но ей надо было добраться до Хай-стрит и сделать там покупки.
– Грязное животное, – еще раз буркнула она.
Утром у нее был разговор с миссис Бёрт о ванне графа. Он туда наплевал, и миссис Бёрт велела ей помыть ванну.
– Тоже мне граф. Он такой же граф, как вы, – продолжала ворчать Кросби. Она обращалась к миссис Бёрт. – Вам я готова сделать одолжение.
Даже сейчас, в тумане, когда Кросби могла говорить все, что ей заблагорассудится, она избрала примирительной тон, потому что знала: от нее хотят избавиться. Сообщая Луизе, что она готова сделать ей одолжение, Кросби жестикулировала свободной от сумки рукой. И ковыляла дальше.
– И съехать я не против, – добавила она с горечью, но это – уже самой себе.
Ей больше не доставляло радости жить в этом доме, хотя податься ей больше было некуда, и Бёрты прекрасно это знали.
– Я очень даже готова сделать вам одолжение, – произнесла она громче, как будто Луиза и впрямь слышала ее. Однако на самом деле она уже не могла работать так, как раньше. У нее болели ноги. Чтобы сделать покупки для самой себя, ей требовалось собрать все силы, не говоря уж о мытье ванны. Но теперь выбирать не приходилось. Вот в былое время она послала бы их куда подальше. – Неряха, нахалка, – бормотала Кросби.
Эти слова относились к рыжей молодой служанке, которая вчера сбежала от хозяев без предупреждения. Ей-то легко найти другую работу. Ей-то что. А Кросби придется мыть ванну графа.
– Грязное, грязное животное, – повторяла она.
Ее бледно-голубые глаза бессильно поблескивали.
Она вспомнила плевок, который граф оставил на стенке ванны, – этот бельгиец, называвший себя графом.
– Я привыкла служить благородным господам, а не таким грязным инострашкам, как ты, – говорила она ему, ковыляя в тумане.
Чем ближе она подходила к призрачному ряду деревьев, тем громче звучал гул уличного движения. Она уже видела дома за деревьями. Вглядываясь бледно-голубыми глазами вперед, она шла к ограде. Одни только глаза выражали ее несгибаемую решимость: она не сдастся, она твердо вознамерилась выжить. Мягкий туман медленно поднимался. На асфальтовой дорожке лежали влажные багряные листья. В кронах деревьев возились и каркали грачи. Наконец в тумане показалась темная линия уличной ограды. Гул Хай-стрит все усиливался. Кросби остановилась и пристроила сумку на ограду, перед тем как ринуться в битву с толпой покупателей на Хай-стрит. Ей придется толкаться и пихаться и терпеть толчки со всех сторон, а у нее так болят ноги. Им все равно, покупаешь ты или нет, думала она; часто бывало, что ее сталкивала с места какая-нибудь наглая стерва. Тяжело дыша, держа сумку на ограде, Кросби опять вспомнила ту рыжую девчонку. Как же болят ноги. Вдруг раздался долгий и тоскливый вой сирены. Затем глухо ударило.
– Опять пальба, – пробормотала Кросби, с раздражением взглянув на бледно-серое небо. Грачи, спугнутые выстрелом, взлетели и стали кружить над деревьями. Глухой удар повторился. Человек, стоявший на лестнице у одного из домов и красивший окно, замер с кистью в руке и оглянулся. Остановилась и женщина, которая шла по улице с буханкой хлеба, наполовину завернутой в бумагу. Оба ждали, как будто что-то должно было произойти. Клок дыма вырвался из трубы и перелетел через улицу. Опять грохнул залп. Мужчина на лестнице что-то сказал женщине на тротуаре. Она кивнула. Затем он макнул кисть в банку и продолжил красить. Женщина пошла дальше. Кросби собралась с силами и засеменила через дорогу к Хай-стрит. Пушки продолжали бухать, а сирены – выть. Война кончилась – так ей кто-то сказал, когда она заняла очередь у прилавка в бакалейном магазине. А пушки все бухали, и выли сирены.
Наши дни [58]58
Роман вышел в свет в 1937 г., но, по некоторым признакам, в этой главе речь идет о времени между 1931 и 1933 г.
[Закрыть]
Был летний вечер, солнце садилось; небо еще было голубым, но уже отливало золотом, словно покрытое тонкой вуалью; здесь и там в золотисто-голубой шири висели острова облаков. Деревья в полях стояли роскошно убранные – каждый из их бесчисленных листьев был позолочен. Овцы и коровы – жемчужно-белые и пестрые – лежали на земле или, жуя, прокладывали себе путь в полупрозрачной траве. Все предметы были окружены ореолом света. Над пыльными дорогами поднималась красно-золотая дымка. Даже маленькие краснокирпичные виллы вдоль шоссе как будто стали пористыми и пропитались светом, а цветы в палисадниках, сиреневые и розовые, как хлопчатобумажные платья, горели всеми своими прожилками, точно свет рождался у них внутри. Когда люди, стоявшие у дверей коттеджей или бредшие по тротуарам, обращали свои лица к медленно заходившему солнцу, их озаряло то же красноватое сияние.
Элинор вышла из своей квартиры и прикрыла дверь. Ее лицо было освещено лучами лондонского заката, на секунду они ослепили ее, а потом она посмотрела на крыши и шпили за окном. В ее комнате разговаривали люди, а она хотела наедине перекинуться словом-другим со своим племянником. Норт, сын ее брата Морриса, только что вернулся из Африки, и ей все никак не удавалось пообщаться с ним. В тот вечер пришло так много людей – Мириам Пэрриш, Ральф Пикерсгилл, Энтони Уэдд, ее племянница Пегги и, кроме всех прочих, этот говорун, ее приятель Николай Помяловский, которого она для краткости называла «Браун». Она редко говорила с Нортом наедине. Некоторое время они стояли в квадрате солнечного света на каменном полу коридора. В квартире все так же гудели голоса. Элинор положила руку на плечо Норта.
– Так приятно тебя видеть, – сказала она. – А ты не изменился… – Она посмотрела на него. Она по-прежнему видела черты кареглазого веселого мальчишки в этом крупном мужчине, таком загорелом, с проседью на висках… – Мы не отпустим тебя назад, – продолжила она, начиная спускаться рядом с ним по лестнице, – на эту ужасную ферму.
Норт улыбнулся.
– Вы тоже не изменились.
Она выглядела очень бодрой. Недавно побывала в Индии. Ее лицо загорело на солнце. Благодаря светлым волосам и смуглым щекам она едва ли выглядела на свои годы, но ведь ей должно быть сильно за семьдесят, подумал Норт. Они шли по лестнице об руку. Надо было спуститься на шесть пролетов каменной лестницы, но она настояла на том, что проводит его.
– Да, Норт, – сказала она, когда они вышли в холл, – будь осторожен… – Она остановилась на пороге. – Ездить в Лондоне не то же самое, что в Африке.
У подъезда стояла маленькая спортивная машина, мимо в вечернем свете шел человек, кричавший: «Старые стулья, корзины починяем!»
Норт помотал головой: голос Элинор утонул в крике. Он посмотрел на доску с фамилиями, висевшую в холле. На ней аккуратно велся учет всех, кто был дома и кто отсутствовал, – это слегка удивило его, после Африки. Голос человека, кричавшего о старых стульях и корзинах, медленно затих в отдалении.
– Ну, Элинор, до свидания, – сказал Норт, обернувшись. – Мы скоро увидимся. – Он сел в машину.
– Ой, Норт!.. – вскрикнула она, вдруг вспомнив, что хотела сказать ему. Но он уже завел двигатель и не слышал ее голоса. Он махнул ей рукой. Она стояла на верхней ступеньке парадного, седые волосы трепетали на ветру. Автомобиль тронулся рывком. Когда Норт заворачивал за угол, она помахала ему в последний раз.
Элинор все та же, думал Норт, разве что чуть больше рассеянна. В доме полно гостей – ее тесная комнатка едва вместила всех, – а она настояла на том, чтобы показать ему свой новый душ. «Нажимаешь на эту штучку, – сказала она, – и, смотри…» Вниз ударили бесчисленные водяные иглы. Он расхохотался. Они сели рядом на край ванны.
Однако сзади упорно сигналили машины; они гудели и гудели. С чего бы? – удивился Норт. Вдруг он понял, что сигналят ему. Светофор переключился, теперь горел зеленый, а Норт не давал никому проехать. Он тронулся резким рывком. Он еще не освоил искусство вождения в Лондоне.
Гул Лондона все еще казался ему оглушительным, а скорость, с которой люди ездили, устрашающей, но здесь было интереснее, чем в Африке. Даже магазины, думал он, проносясь мимо стеклянных витрин, даже магазины изумительны. А вдоль края тротуара выстроились тележки с цветами и фруктами. Везде – изобилие, избыток… Опять зажегся красный свет, Норт притормозил.
Он огляделся. Он был где-то на Оксфорд-стрит. По тротуарам двигалось множество людей; толкая друг друга, они роились вокруг витрин, которые все еще были освещены. Яркость, красочность, разнообразие казались после Африки удивительными. За все эти годы, думал Норт, глядя на развевающееся полотнище из прозрачного шелка, он привык к необработанному сырью – к шкурам и шерсти, а здесь он видел законченные изделия. Его взгляд привлек дорожный несессер из желтой кожи, наполненный серебряными бутылочками. Но светофор вновь зажег зеленый свет. Норт поехал дальше.
Он вернулся всего десять дней назад, и у него в голове царила полная неразбериха. Ему казалось, что он без перерыва разговаривает, жмет руки, здоровается. Люди появлялись отовсюду: его отец, сестра, какие-то старики вставали с кресел и спрашивали: «Вы меня не помните?» Те, кого он оставил несмышлеными мальчишками, стали студентами, девочки с косичками – замужними женщинами. Все это еще приводило его в растерянность. Они все так быстро говорят; наверное, они считают меня тупым, думал он. Ему приходилось отступать к окну и говорить себе: «Что, что, что они хотят сказать?»
Например, этим вечером у Элинор был какой-то человек с иностранным акцентом, который выдавил себе в чай лимон. Кто бы это мог быть? – заинтересовался Норт. «Один из дантистов Нелл», – сказала его сестра Пегги, наморщив губку. Им все всегда было ясно, на все имелись готовые фразы. Нет, то был молчун, сидевший на диване, а Норт имел в виду другого, который выдавил в чай лимон. «Мы называем его Браун», – буркнула Пегги. Почему Браун, если он иностранец? – удивился Норт. Так или иначе, они все романтизировали одиночество и дикость – «Я бы хотел оказаться на вашем месте», – сказал коротышка по фамилии Пикерсгилл, – кроме этого Брауна, который заметил что-то заинтересовавшее Норта. «Если мы не знаем самих себя, как мы можем знать других людей?» – вот что он сказал. Они обсуждали диктаторов, Наполеона, психологию великих личностей. Опять зажегся зеленый с надписью «Проезжайте». Норт вновь бросил машину вперед. А потом дама с серьгами разглагольствовала о красотах Природы. Норт прочел название улицы слева. Он должен был ужинать у Сары, но не очень представлял себе, как добраться до места. Он только услышал, как ее голос в телефонной трубке сказал: «Приходи ко мне ужинать – Милтон-стрит [59]59
Милтон-стрит – вымышленная улица.
[Закрыть], пятьдесят два, на двери моя фамилия». Это где-то рядом с Тюремной крепостью [60]60
По-видимому, имеется в виду лондонский Тауэр.
[Закрыть]. А что касается этого Брауна – трудно было сразу отнести его к какой-то категории людей. Он говорил, растопыривая пальцы, многословно, как человек, который со временем станет занудой. А Элинор бродила по квартире с чашкой в руках, рассказывая всем о своем новом душе. Норту хотелось, чтобы они тверже держались темы. Ему было интересно беседовать. Серьезно обсуждать абстрактные вопросы. «Чем хорошо одиночество; чем плохо общество?» Вот что было интересно; однако они все время перескакивали с одного на другое. Когда крупный мужчина сказал: «Одиночное заключение – самая мучительная пытка в нашем арсенале наказаний», тощая старуха с редкими растрепанными волосами сразу вскрикнула, приложив руку к сердцу: «Его надо отменить!» Как видно, ей случалось бывать в тюрьмах.
– Черт, куда я забрался? – спросил Норт сам себя, вглядываясь в название улицы на угловом доме. Кто-то нарисовал мелом на стене круг с ломаной линией внутри [61]61
Молния в круге – символ Британского союза фашистов (чернорубашечников), основанного Освальдом Мозли в 1932 г.
[Закрыть]. Норт посмотрел вдаль. Дверь за дверью, окно за окном повторяли один и тот же образец. Все было озарено красновато-желтым сиянием, потому что солнце садилось в лондонскую мглу. Город окутывала теплая золотая дымка… Тележки, полные фруктов и цветов, стояли в ряд вдоль края тротуара. Солнце вызолотило плоды; цветы – розы, гвоздики, лилии – лучились жухловатым великолепием. Он думал было остановиться и купить букет для Салли, но сзади гудели машины. Он поехал дальше. Букет, зажатый в руке, думал он, смягчит неловкость встречи и обмен обычными фразами. «Как приятно тебя видеть… Ты пополнел», – и так далее. Он ведь только слышал ее голос по телефону, а люди за столько лет меняются. Он точно не знал, та это улица или нет, и медленно свернул за угол. Остановился. Проехал еще немного. Это была Милтон-стрит, сумрачная улица со старыми домами, в которых теперь сдавались квартиры; но они видали и лучшие времена.
«Нечетные на той стороне, четные на этой», – пробормотал Норт. Улица была запружена фургонами. Он посигналил. Остановился. Посигналил опять. Мужчина подошел к голове лошади, запряженной в телегу с углем, и животное неторопливо побрело вперед. Дом номер пятьдесят два был чуть дальше. Норт медленно подкатил к двери и остановил машину.
С той стороны улицы донесся голос женщины, певшей гаммы.
– Какая грязная, – произнес Норт, еще сидя в машине (улицу перешла женщина с кувшином под мышкой), – гадкая, не подходящая для житья улица.
Он заглушил мотор, вышел и стал читать фамилии на двери. Они были написаны одна над другой – некоторые на визитных карточках, иные на медных табличках: Фостер, Эбрахамсон, Робертс; «С. Парджитер» было выбито на алюминиевой полоске, на самом верху. Норт позвонил в один из множества звонков. Никто не появился. Женщина продолжала петь гаммы, медленно повышая голос. Настроение приходит и уходит, думал Норт. Иногда он писал стихи; и сейчас, пока он ожидал, к нему опять пришло поэтическое настроение. Он сильно нажал кнопку звонка два или три раза. Но никто не вышел. Тогда он толкнул дверь, она оказалась не заперта. Внутри стоял непривычный запах вареных овощей; засаленные бурые обои создавали сумрак. Норт поднялся по лестнице дома, который, вероятно, некогда служил жильем какому-то благородному господину. Балясины были резные, однако замазанные каким-то дешевым желтым лаком. Норт медленно добрался до лестничной площадки и остановился, не зная, в какую дверь постучать. В последнее время он то и дело оказывался перед дверьми незнакомых домов. У него было ощущение, что он – непонятно кто и непонятно где. С той стороны улицы продолжал звучать голос, натужно карабкавшийся вверх по гаммам, точно по лестнице; наконец женщина умолкла – лениво и вяло, как будто донеся до вершины звук своего голоса и бросил его там. Затем Норт услышал из-за двери смех.
Это ее голос, подумал он. Но она там не одна. Ему стало неприятно. Он рассчитывал застать ее одну. Голос что-то говорил и не ответил, когда Норт постучал. Он очень осторожно открыл дверь и вошел.
– Да, да, да, – говорила Сара.
Она стояла на коленях и разговаривала по телефону, но никого, кроме нее, в квартире не было. Увидев Норта, она подняла руку и улыбнулась ему, но руку не опустила, как будто шум, издаваемый им, не позволял ей чего-то расслышать.
– Что? – спросила она в трубку. – Что?
Норт стоял молча, глядя на силуэты своих бабушки и дедушки на каминной полке. Он заметил отсутствие цветов. Надо было принести. Он прислушался к тому, что говорила Сара, стараясь понять смысл.
– Да, теперь слышу… Да, ты прав. Ко мне пришли… Кто? Норт. Мой родственник из Африки…
Это про меня, подумал Норт. «Родственник из Африки». Это мой ярлычок.
– Вы знакомы? – спросила Сара и помолчала. – Ты так считаешь? – Она обернулась и посмотрела на Норта.
Они обсуждают меня, подумал он. Ему стало неуютно.
– До свидания, – сказала Сара и положила трубку. – Он говорит, что сегодня видел тебя. – Она подошла и взяла Норта за руку. – И ты ему понравился, – добавила она с улыбкой.
– Кто это? – спросил Норт, чувствуя неловкость. Надо было принести ей цветы.
– Человек, с которым ты познакомился у Элинор.
– Иностранец?
– Да. Мы называем его «Браун». – Она подвинула Норту стул.
Он сел на этот стул, а она устроилась напротив по-турецки. Он вспомнил ее манеру вести себя. Ее образ возвращался к нему по частям: сперва голос, затем манера, хотя что-то еще оставалось незнакомым.
– Ты не изменилась, – сказал он. Невзрачные лица слабо меняются, а вот красивые дурнеют. Она выглядела ни молодой, ни старой; только какой-то потрепанной; и комната была не прибрана; в углу стоял горшок с пампасной травой. Обычная комната в доходном доме, убранная второпях, подумал он.
– А ты… – начала она, глядя на него. Казалось, она старается совместить две различных его версии: одну – телефонную и вторую – сидевшую на стуле. Или была еще какая-нибудь? Это полузнание людей, полузнание ими тебя и ощущение взгляда на своем теле, точно ползающей мухи – как это все неприятно, думал он; но неизбежно – после Стольких лет. Столы были завалены всякой всячиной, и Норт не знал, куда положить шляпу. Сара улыбалась, глядя, как он сидит и неуверенно держит шляпу в руке.
– Кто сей молодой француз, – сказала она, – с цилиндром на картине?
– На какой картине? – спросил Норт.
– Тот, что сидит с растерянным видом, держа в руке шляпу.
Он положил шляпу на стол, но сделал это неуклюже. Книга упала на пол.
– Прошу прощения, – сказал он. Вероятно, сравнивая его с растерянным человеком на картине, она имела в виду неуклюжесть Норта; он всегда таким был. – Это не та квартира, в которой я был в последний раз? – спросил он.
Он узнал кресло – с позолоченными ножками в форме птичьих лап; было здесь и всегдашнее пианино.
– Нет, та была за рекой, – сказала Сара. – Ты тогда приходил прощаться.
Он вспомнил. Он навестил ее вечером накануне своего ухода на войну. И повесил фуражку на бюст дедушки. Бюст теперь исчез. А она издевалась над Нортом.
«Сколько кусков сахара лейтенанту Его Величества полка Королевских крысоловов?» – он живо представил ее, бросающей куски сахара ему в чай. Тогда они поссорились. И он ушел. В ту ночь был налет. Он вспомнил: темно, лучи прожекторов медленно ползут по небу, то и дело останавливаясь, чтобы ощупать подозрительное место; короткие шлепки выстрелов; люди бегут пустыми улицами, синими от защитного освещения. Он ужинал в Кенсингтоне со своими родными; попрощался с матерью; тогда он видел ее в последний раз.
Голос певицы прервался. «A-а, о-о, а-а, о-о», – пела она на другой стороне улицы, лениво ползая вверх и вниз по гамме.
– Она так каждый вечер? – спросил Норт. Сара кивнула. Звуки, проходившие сквозь гудящий вечерний воздух, казались медлительными и чувственными. У певицы явно не было недостатка времени: она останавливалась на каждой ступени.
Никаких признаков ужина Норт не заметил, только блюдо с фруктами на дешевой скатерти, принадлежавшей доходному дому, с желтыми пятнами от какой-то подливки.
– Почему ты всегда выбираешь трущобы… – начал Норт, вздрогнув от крика детей под окном, но тут дверь открылась и вошла девушка с пучком ножей и вилок. Типичная для доходных домов прислуга, подумал Норт, – с красными руками и в щегольском белом чепце, какие нацепляют на голову девицы в доходных домах, когда у постояльца прием. В ее присутствии надо было изображать беседу. – Я виделся с Элинор, – сказал Норт. – Это у нее я встретил твоего знакомого Брауна.
Девушка стала со стуком раскладывать ножи и вилки на столе.
– Ах, Элинор, – сказала Сара. – Элинор… – Но она засмотрелась на девушку, которая неуклюже двигалась вокруг стола, при этом довольно тяжело дыша.
– Она только что вернулась из Индии, – сказал Норт. Он тоже наблюдал за девушкой, накрывавшей на стол. Теперь она поставила среди дешевой хозяйской посуды бутылку вина.
– Слоняется по всему свету, – проговорила Сара.
– И развлекает всяких старомодных чудаков, – добавил Норт. Он вспомнил коротышку со свирепыми голубыми глазами, который хотел жить в Африке, и растрепанную женщину в бусах, судя по всему, посещавшую тюрьмы. – А этот человек, твой знакомый… – начал он. В этот момент девушка вышла из комнаты, но дверь оставила открытой – знак того, что она скоро вернется.
– Николай, – сказала Сара, закончив фразу Норта. – Которого все называют Брауном.
Последовала пауза. Затем Сара спросила:
– А о чем вы говорили?
Норт попытался вспомнить.
– О Наполеоне, о психологии великих личностей; если мы не знаем себя, как мы можем знать других людей… – Он замолчал. Было трудно с точностью припомнить, о чем шла беседа даже всего час назад.
– А потом, – сказала Сара, выставив одну руку и прикоснувшись пальцем к носу совершенно так же, как это делал Браун, – «Как мы можем создавать законы, религии, которые годятся в дело, в дело, когда мы сами не знаем себя?»
– Да, да! – воскликнул Норт. Она точно уловила его манеру, легкий иностранный акцент, дважды сказанное «в дело» – как будто он был не совсем уверен в существовании коротких слов в английском языке.
– А Элинор, – продолжила Сара, – сказала: «Как же нам… Как же нам стать лучше?» – сидя на краешке дивана, да?
– На краю ванны, – поправил ее Норт со смехом. – Этот разговор у вас уже бывал, – сказал он. Именно это он и чувствовал. Все говорилось не в первый раз. – А потом, – продолжил он, – мы обсуждали…
Но тут опять появилась прислуга. На этот раз она несла тарелки: дешевые хозяйские тарелки с голубыми каемками.
– …общество и одиночество – что лучше, – закончил Норт.
Сара все так же смотрела на стол.
– И что же… – проговорила она так, как говорит человек, поверхностным восприятием наблюдающий за чем-то, но думающий о другом. – И что же выбрал ты? Проведя столько лет в одиночестве. – Девушка вышла. – Среди своих овец, – Сара замолчала. Внизу на улице заиграл тромбонист, а женщина так и продолжала распевать гаммы, и они были похожи на людей, старающихся выразить в одно и то же время два совершенно разных мироощущения. Голос взбирался вверх, тромбон завывал. Сара и Норт рассмеялись. – …сидя на веранде, – продолжила мысль Сара, – глядя на звезды.
Норт посмотрел на потолок: похоже, она что-то цитирует. Ах, ну да – он вспомнил, что написал ей, когда впервые уехал.
– Да, глядя на звезды, – сказал он.
– Сидя на веранде в тишине, – добавила она. За окном проехал фургон, на короткое время заглушив все звуки. – А потом… – сказала Сара, когда грохот фургона начал удаляться, но сделала паузу, точно выбирая из памяти какой-то другой кусок его письма. – Потом ты оседлал лошадь и ускакал прочь!
Она вскочила, и Норт впервые увидел ее лицо полностью освещенным. Рядом с носом было пятно сажи.
– Знаешь, – сказал Норт, глядя на нее, – у тебя лицо испачкано.
Она прикоснулась не к той щеке.
– Нет, с другой стороны, – сказал Норт.
Она вышла из комнаты, не взглянув в зеркало. Из чего мы делаем вывод, заключил он про себя, будто писал роман, что мисс Сара Парджитер никогда не была объектом мужской любви. Или была? Он не знал. Эти маленькие моментальные снимки людей так недостаточны, они лишь поверхностные изображения, которые мы создаем в своем сознании, точно муха, ползущая по лицу и чувствующая: вот это нос, а это бровь.
Норт отошел к окну. Солнце, должно быть, садилось, потому что кирпичи углового дома были окрашены в яркий желтовато-розовый цвет. Одно-два окна в верхнем этаже горели золотом. Прислуга была в комнате, и она раздражала Норта – так же как и лондонский шум, к которому он все еще не привык. На фоне глухого уличного гула, шороха колес, скрипа тормозов, рядом слышались внезапный крик женщины, испугавшейся за своего ребенка, монотонные крики торговца овощами, а вдалеке – игра шарманки. Она замолкла, потом возобновилась. Я писал ей письма, подумал Норт, поздними вечерами, когда мне было одиноко, когда я был молодым. Он посмотрел на себя в зеркало и увидел загорелое лицо с широкими скулами и маленькими карими глазами.
Девушку-прислугу поглотила нижняя часть дома. Дверь была распахнута. Ничего вроде бы не происходило. Норт стоял в ожидании. Он чувствовал себя чужаком. За столько лет все нашли себе пары, обосновались, обросли делами и занятиями. Приходишь к ним, а они звонят, они вспоминают былые разговоры, выходят из комнаты, оставляют тебя одного… Норт взял книгу и прочел несколько слов: «…Тень – ангела со светлыми кудрями…» [62]62
Шекспир, «Ричард III», акт I, сцена 4-я. Перевод А. Радловой.
[Закрыть]
Затем вошла Сара. Однако в последовательности событий случилась какая-то запинка. Дверь была распахнута, стол – накрыт, но ничего не происходило. Они стояли рядом, спинами к камину, и ждали.
– Как, должно быть, странно, – продолжила разговор Сара, – вернуться через столько лет – как будто упасть с неба, пролетая на аэроплане, – она указала на стол, точно это было поле, на которое приземлился Норт.
– На неведомую землю, – сказал Норт. Он наклонился вперед и дотронулся до ножа на столе.
– И обнаружить людей, которые говорят… – добавила Сара.
– …говорят, говорят, – сказал Норт, – о деньгах и политике, – он слегка, но со злостью пнул каблуком каминную решетку.
Вошла прислуга. У нее был важный вид – потому что она несла блюдо, накрытое металлической крышкой. Девушка подняла крышку с явной торжественностью. Под ней лежала баранья нога.
– Давай ужинать, – сказала Сара.
– Я голоден, – согласился Норт.
Они сели, Сара взяла нож и сделала длинный надрез. Из него потекла тонкая струйка красного сока: мясо было недожарено. Сара посмотрела на него.
– Баранина не должна такой быть, – сказала она. – Говядина – да, но не баранина.
Оба смотрели, как сок стекает в углубление блюда.
– Отправим назад, – спросила Сара, – или съедим так?
– Съедим, – сказал Норт. – Мне приходилось есть куски и похуже, – добавил он.
– В Африке… – проговорила Сара, поднимая крышки над блюдами с овощами. В одном была кляклая масса капусты в зеленоватой жиже, в другом – желтые картофелины, на вид недоваренные. – …в Африке, в дебрях Африки, – продолжила она, накладывая Норту капусты, – на твоей ферме, где никто не появлялся месяцами и ты сидел на веранде, слушая…
– Овец, – закончил Норт. Он резал свою баранину на продолговатые кусочки. Она была жесткая.
– И ничто не нарушало тишину, – продолжила Сара, беря себе картофеля, – кроме звука упавшего дерева или камня, сорвавшегося со склона дальней горы… – Она посмотрела на Норта, чтобы проверить, правильно ли она цитирует его письма.
– Да, – сказал он. – Там было очень тихо.
– И жарко, – добавила она. – Палящая жара в полдень, к тебе постучался старый бродяга?..
Норт кивнул. Он опять увидел себя молодым и очень одиноким.
– А потом… – вновь начала Сара, но тут по улице протарахтел большой грузовик. На столе что-то задребезжало, стены и пол задрожали. Сара раздвинула два бокала, позвякивавшие один об другой. Грузовик проехал, его громыхание стало удаляться. – И птицы, – продолжила Сара. – Соловьи, поющие под луной?








