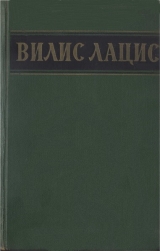
Текст книги "Собрание сочинений. Т.4."
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц)
– В Риге, вероятно, кто-нибудь и остался, но среди моих друзей и знакомых евреев и коммунистов нет.
Солдаты осмотрели все комнаты, гоготнули при виде беременной Ольги и ушли. После этого Прамниек не мог найти серебряную коробку для табака, а у Ольги пропали с подзеркальника серьги. Прамниеку стало не по себе, когда он подумал, что не смеет даже заявить об этом. Он больше не властен ни над своим имуществом, ни над своими мыслями.
3
В Риге начались аресты. Каждый день по улицам прогоняли под конвоем большие партии людей. То ли для устрашения жителей, то ли в издевку над ними немцы водили арестованных по самым многолюдным улицам. Черную работу выполняла вспомогательная служба – молодчики из бывших айзсаргов, полицейских и тому подобная публика. Они врывались в квартиры и днем и среди ночи, отводили свои жертвы в полицейский участок, где происходил первый допрос. После этого арестованных перегоняли в префектуру. Там все было так переполнено, что люди не могли ни прилечь, ни присесть. В префектуре заключенных просеивали в зависимости от характера обвинения. Большинство женщин отправляли в пересыльную тюрьму, мужчин – в центральную, где их обрабатывали по всем правилам гестаповской науки. Здесь решалась судьба несчастных людей. Заключенных морили голодом, и только позже, когда у немцев возникла мысль использовать их для каторжных работ, тюремная администрация разрешила передачи.
Большинство арестов производили силами вспомогательной службы, но когда дело доходило до рабочегвардейцев, которые по тем или иным причинам не успели уйти из Риги, на операцию отправлялись сами немцы – значительными, хорошо вооруженными группами.
Весь город знал об этих повальных расправах. Люди угрюмо молчали. Никто не был гарантирован, что его не бросят в тюрьму, а оттуда редко кто возвращался. Достаточно было одного доноса, что человек работал в советском учреждении или был знаком с коммунистом, и его немедленно арестовывали. Эдгар Прамниек старался по мере возможности скрывать эти факты от Ольги, чтобы не волновать ее, – ведь кто мог поручиться, что какая-нибудь услужливая сволочь не донесет немецким властям о его родстве с видным коммунистом Силениеком.
Вечером, в середине июля, у Ольги начались родовые схватки. Прамниек отвез ее на извозчике в одно из тех второразрядных лечебных учреждений, которые немцы еще оставили для обслуживания латышского населения. Знакомый врач взял на себя заботу о роженице.
В ту ночь Прамниек совсем не ложился. Все у него валилось из рук, и, чтобы как-нибудь убить время, он всю ночь провозился в своей библиотеке. Доставал с полок книги советских авторов, политическую литературу, советские журналы и газеты. Всю ночь топился камин, а Прамниек разбивал щипцами обуглившиеся переплеты и листы, пока они не превращались в мелкий пепел. Не успокоившись на этом, он выгреб в ведро весь пепел до последней щепотки, облил его водой и среди ночи снес во двор и высыпал в мусорный ящик. Потом вымыл руки, сполоснул покрытое копотью лицо и в первый раз за всю ночь задымил трубкой.
В девять часов утра ему позвонили из больницы.
– Поздравляю с сыном, – сказал врач. – Все сошло благополучно. Мать чувствует себя сравнительно хорошо, малыш здоров. К вашему сведению, весит он три тысячи восемьсот граммов. Короче говоря, молодец-парень.
– Можно мне прийти в больницу? – жалобно попросил Прамниек. Решительно, он больше не мог вытерпеть ни одной минуты, не повидав Ольги и своего первенца. – Ну, на несколько минут хотя бы, господин врач. Я только взгляну на них.
– Нельзя, господин Прамниек. Надо дать матери отдохнуть несколько часов. Позвоните мне часа в два, тогда договоримся. Ручаюсь, что вы и сами не спали, – знаю я вас, молодых отцов. Поспите часок, а потом запасайтесь букетом и, если есть под рукой, захватите бутылку хорошего вина.
Прамниек хотел было спросить, какой марки вино требуется в таких случаях, но врач уже повесил трубку.
Сын… Аугуст Прамниек! (Относительно имени они уже давно уговорились с Ольгой.) Он уже есть, он требует забот, любви. Но как можно не любить его, своего первенца, своего потомка, исполнение самой большой своей мечты! «Мы будем большими, большими друзьями, мой маленький мальчуган… – мысленно разговаривал Прамниек с сыном. – Ты будешь прибегать ко мне в мастерскую, пачкать в красках свои крохотные пальчики. У тебя у самого будет маленький мольберт и кисти, но разве тебе этого достаточно? Ха-ха… Иногда ты положишь такое неожиданное пятно на мою картину, что мне придется целый час ликвидировать результат твоей помощи, но я не особенно сильно буду бранить тебя».
Он немного опьянел и поглупел от радости в это утро. В идиллических мечтах его фантазия забежала лет на десять – пятнадцать в будущее, открывая в нем все новые и новые перспективы. Он был счастлив, он совсем обезумел от счастья.
В таком настроении и застал его молодой человек, который явился к нему в десять часов утра.
Молодой человек не назвал ни своей фамилии, ни должности, спросил только, имеет ли он честь разговаривать с художником Прамниеком, и, получив утвердительный ответ, сказал:
– Шеф пропаганды приглашает вас явиться сегодня к нему в бюро, к двенадцати часам дня.
– Смею узнать, по какому делу? – спросил Прамниек.
– Это вам сообщит сам шеф пропаганды, – ответил молодой человек. Прамниеку показалось, что этого юношу он не раз уже видел разгуливавшим в корпорантской шапочке. – Прошу явиться точно без пяти двенадцать. Я вас встречу в бюро. До свидания, господин Прамниек.
Без пяти минут двенадцать Прамниек явился в бюро руководителя гитлеровской пропаганды. В приемной его встретил давешний молодой человек.
– Присядьте, пожалуйста. Вам придется немного подождать. Шеф занят с другими посетителями.
Прамниек присел и от нечего делать стал разглядывать роскошную мебель и картины на стенах. Раньше здесь находилось какое-то культурно-просветительное учреждение, а картины, вероятно, были взяты из частных коллекций. Прамниеку показалось несколько странным, что портрет Гитлера был повешен между каким-то средней руки этюдом обнаженного тела и натюрмортом старого голландского мастера. На противоположной стене, против Гитлера, висела в коричневой раме эмблема нацистской Германии – черная свастика на красном фоне.
Приотворилась тяжелая дубовая дверь в глубине комнаты. Оттуда вышел известный литератор – полубеллетрист, полупублицист, а за его спиной показался романист Алкснис. Заметив Прамниека, он в первый момент смутился, но затем лучезарная улыбка заставила его лицо собраться в жирные складки, а глаза добродушно прищурились сквозь очки.
– Привет, привет, господин Прамниек. – Алкснис потряс руку художника. – Это хорошо, что и вы впрягаетесь в работу. Тут особенно раздумывать нечего. Все, кого бог не обидел талантом, должны приложить руку к большому делу. Только так мы и построим новую Европу.
Раздался звонок. Молодой человек ринулся в дубовую дверь и тотчас же вернулся. Слегка поклонился Прамниеку:
– Шеф просит вас в кабинет.
Этот кабинет был рассчитан на парадные приемы: роскошная стильная мебель, всюду фарфоровые и серебряные безделушки, замысловатые люстры, тяжелые письменные приборы и пепельницы, две большие картины в массивных рамах, еще недавно висевшие в городском музее. Портрет Гитлера был еще огромнее того, что Прамниек видел в приемной; и здесь тоже против главаря фашистов висела черная свастика.
Шеф пропаганды – нестарый, небольшого роста человек, с темными, точно приклеенными к черепу волосами, в коричневом мундире чиновника партии «национал-социалистов» – был очень занят. С казенной улыбкой, в которой не было ни веселости, ни любезности, он небрежно протянул руку Прамниеку и пригласил сесть. Разговор велся на немецком языке.
– Вы художник Эдгар Прамниек?
– Да, я занимаюсь живописью, – ответил Прамниек. – Брался и за графику, но моя излюбленная область – портрет.
– Знаю, господин Прамниек, – уже совершенно деловитым тоном сказал шеф пропаганды, – мне о вас говорили. Нам как раз нужен художник вашего жанра. У меня мало времени, поэтому разрешите сразу приступить к делу.
– Я понимаю, господин шеф, пожалуйста, пожалуйста… – Прамниек сделал глубокий поклон, насколько это было возможно сидя. – Я к вашим услугам.
– Мы хотим издать сборник о периоде большевистского правления в Латвии. Впоследствии будем делать и фильм. В сборнике будут представлены документальные материалы, фотографии, рисунки художников, которые покажут методы большевистского правления, наиболее характерные типы, ужасы чека. У нас много хорошего материала, но его надо сделать более наглядным, более броским. Вам, художнику, нетрудно преподнести любой незначительный факт так, чтобы у зрителя мурашки по телу бегали. Пустите в ход всю вашу творческую фантазию. Рисуйте изуродованные тела, перекошенные в предсмертных судорогах лица. Чем ужаснее будут нарисованные вами картины смерти и агонии, тем лучше. Сборник должен быть готов через месяц. Заплатят вам хорошо. Жду вашего ответа, господин Прамниек.
Прамниек испугался. У него даже пот на лбу выступил. Он сразу понял, чего от него хотят, но внутри все у него дрожало от какого-то тоскливого возмущения. Нет, нет, ведь он хотел быть лояльным, без политики, а это политика, и какая подлая политика…
– Господин шеф… ваше предложение делает мне честь, но это так неожиданно… – не помня, что говорит, пробормотал он. – В этом жанре я еще не работал. Я далеко не уверен, удастся ли мне это. Буду весьма признателен, если вы разрешите мне подумать один день…
– Хорошо. Мы можем дать вам один день на размышления. Завтра в двенадцать придете ко мне с готовым ответом. Надеюсь, что он будет положительным. Учтите, что мы своих сотрудников хорошо оплачиваем. Но мы не забываем и тех, кто не желает с нами сотрудничать. До свиданья.
Шеф пропаганды пожал Прамниеку руку еще сдержаннее, чем при встрече. Холодно посмотрел ему вслед, когда тот, растерявшись, неловко толкал дверь не в ту сторону; потом нажал кнопку звонка.
Очутившись на улице, Прамниек некоторое время ходил, как ошарашенный, по городу. «Что предпринять? Как отделаться от предложения шефа пропаганды? Почему они выбрали именно меня, а не другого? Ведь столько в Риге художников».
– Пойду к Эдит. Вот кто даст мне хороший совет. А она сейчас в чести.
Прамниек сразу ожил и чуть не бегом помчался к Эдит.
4
В квартире Эдит было столько всякого добра, что негде было повернуться. Началось это с вечера первого июля, тут же после прихода в Ригу немцев. Всю ночь работал дворник не переводя духа, пока не перетащил к ней обстановку соседней квартиры, хозяин которой эвакуировался в тыл. Но это еще не все. Эдит хотелось обставить свое гнездышко с такой роскошью и комфортом, чтобы Освальд Ланка – когда он вернется – от удивления и восторга рот разинул. Кто-кто, а она это заработала своей отчаянно смелой работой в пользу «Великогермании». Могла, того и гляди, свернуть шею! Зато как приятно пожинать плоды своих трудов! А возможности-то какие – голова кружится. Эдит как пять пальцев знала в своем районе все брошенные квартиры. Как усердный муравей, тащила она к себе все ценное – старинную мебель, ковры и гобелены, картины и хрусталь. Ее шкафы ломились от добра, квартира стала походить на лавку антиквара.
Первого июля ее навестило высокое начальство из гестапо, и она передала ему несколько важных списков с адресами, которые весьма облегчили ему работу. По материалам Эдит тридцать самых важных арестов произвели в следующую же ночь. Гестапо получило подробную информацию о настроениях многих известных общественных деятелей, о том, кого из них можно привлечь к работе. Казалось, теперь бы только и пожить в свое удовольствие, но Эдит об этом и думать не хотела.
«В самый разгар охоты сидеть дома, стать простым зрителем! Это мы успеем еще в старости».
Эдгар Прамниек столкнулся с ней на лестнице. Эдит собралась куда-то уходить.
– Ты ко мне, Эдгар?
– Эдит, мне нужен твой совет, – умоляюще сказал художник. – Я ненадолго, не задержу тебя.
– Зайдем в квартиру. На лестнице неудобно.
Она отворила дверь и пригласила Прамниека в кабинет. На стене уже появился портрет Гитлера, а фотография Освальда Ланки стояла посреди письменного стола.
– Итак – счастливый отец? – Эдит улыбнулась. – Можно поздравить с сыном?
– Разве ты уже знаешь? – удивился Прамниек.
– Я и не то еще знаю. Расскажи, Эдгар, для чего тебя вызывал шеф пропаганды? Вышло там что-нибудь?
Она села в огромное кресло, положила ногу на ногу. Прамниек от волнения стал хрустеть пальцами.
– Вот об этом я и собирался поговорить. Они хотят, чтобы я дал рисунки для какого-то сборника… Против большевиков… Но я этого не могу… Ведь это же подлог. У художника тоже есть совесть… Искусство должно быть правдивым. Как мне работать, когда я сам буду презирать эту работу? Эдит, если ты мне друг, помоги увильнуть от нее.
– Так, так. Боишься скомпрометироваться! Совершенно напрасно. Большевики никогда сюда не вернутся. Мы останемся здесь навсегда. И тебе ни перед кем не придется оправдываться в том, что ты помогал нам. Не бойся, Эдгар, рисуй все, что тебе велят.
– Я не в состоянии. У меня ничего не выйдет.
– То есть как это не выйдет? Когда есть желание, всегда выходит.
– В том-то все и дело, что я не желаю. Как можно творить против своего желания?
– Надо желать. Через несколько недель, когда в наших руках будут Москва и Ленинград, найдется очень много желающих послужить нам. Как ты думаешь, дорого мы их оценим? Нам надо, чтобы они сейчас приходили. Вот поэтому не будь дураком, Эдгар, перестань упрямиться.
– Ты… не хочешь мне помочь? Пойми, Эдит, ведь я не политик.
– А сейчас надо стать политиком. Подумай о своей жене и ребенке. Они хотят жить, и от тебя теперь зависит, какой будет их жизнь.
– Эдит, почему они не закажут эти рисунки кому-нибудь другому? Художников ведь достаточно, и я не самый лучший.
– Это дело вкуса. Шефа пропаганды, очевидно, заинтересовала твоя манера. По правде говоря, я с ним согласна.
Напрасно старался Прамниек доказать свою непригодность и уговорить Эдит, чтобы она за него заступилась. Эдит только качала головой.
– Я не в силах помочь тебе. Разговаривай сам с шефом пропаганды. Впрочем, от этого дело не изменится. Лучше привыкай к мысли, что рано или поздно придется выполнить этот заказ. Ах, господи, я ужасно запаздываю. Извини, пожалуйста.
Прамниек поднялся и попрощался.
Под вечер его минут на пять впустили к Ольге. Ольга спала, и врач не разрешил будить ее. Няня поставила цветы на ночной столик, а бутылку вина спрятала в шкафчик.
– Когда проснется, скажу, что вы приходили. А теперь покажу вам сына. Только не дышите на него. Славный мальчик у вас, господин Прамниек. Смотрите, как спокойно спит.
Прамниек с умилением рассматривал крохотное существо, лежавшее в кроватке. Так вот он какой, его сын… Нельзя даже сказать, на кого он походит – на мать или на отца. Но это не так важно. Важно, что он есть, что он существует в мире. Прамниек чувствовал, что уже любит его и готов отдать все, чтобы только ему было хорошо. «Бай-бай, мой сыночек… – шептал он. – В другой раз поговорим, а сейчас спи, бай-бай, и расти большим».
Из больницы Прамниек пошел домой, собрал что было из еды и немного закусил. Потом сел за письменный стол и, больше не раздумывая, написал ответ шефу пропаганды.
«Основательно и всесторонне обдумав ваше предложение, я пришел к выводу, что не в состоянии выполнить такое важное поручение. Моя предшествующая художественная деятельность протекала совсем в иной области, для того же, чтобы достойным образом выполнить Ваш заказ, требуется мастер, который на протяжении многих лет развивал свой талант именно в этом направлении. Надеюсь, что Вы, высокочтимый шеф, найдете возможным извинить меня.
Глубоко уважающий Вас
Эдгар Прамниек».
На следующее утро он отнес письмо в бюро пропаганды и сдал тому самому молодому человеку, который приходил к нему на квартиру. Молодой человек не стал расспрашивать о содержании письма, а Прамниек и подавно не счел нужным разговаривать с ним. Выйдя из бюро, Эдгар сразу почувствовал себя легко.
«Теперь меня оставят в покое… Другой раз не будут привязываться».
После обеда, когда Эдгар Прамниек собрался навестить Ольгу, его арестовали и отвели в префектуру.
5
В конце июля Ольга вышла из больницы. Эдгар больше так и не навестил ее. Один раз приходила Эдит и скороговоркой объяснила, что Эдгар неожиданно получил командировку в Германию, что-то там по части музеев. Он так торопился, что не успел даже написать письмо, только очень просил передать поздравление. Ольгу это удивило и встревожило, но она была так слаба, что побоялась расспрашивать о подробностях.
В тот день, когда Ольга должна была выписаться из больницы, Эдит приехала во второй раз. Она привезла стеганое одеяльце, подушку для ребенка и ключи от квартиры Прамниеков. У больничных ворот их уже ждал извозчик. Ребенок был неспокоен всю дорогу, и Ольге было не до разговоров. У дома Прамниеков Эдит отпустила извозчика и поднялась с ней наверх.
Ольга дала ребенку грудь и, когда он заснул, уложила его в колясочку, которую Эдгар купил еще накануне войны, задернула на окнах занавески и вышла на цыпочках из спальни. После ухода Эдгара одно окно осталось отворенным – в квартире было полно мух. Ольга медленно обошла все комнаты, заглянула в мастерскую и только в кабинете задержалась на несколько минут. Ящики письменного стола были выдвинуты, на полу валялись разные бумаги, счета за квартиру и электричество. Посреди комнаты лежал рисунок углем, на нем отпечатался грязный след сапога. Больно сжалось сердце Ольги.
Она вошла в гостиную, села на диван и вопросительно посмотрела на Эдит. Та не выдержала взгляда Ольги и опустила глаза.
– Так что же произошло, Эдит? – строго спросила Ольга. – Зачем ты скрываешь от меня правду? Где Эдгар?
Эдит громко вздохнула, пересела на диван к Ольге и обняла ее за плечи.
– Не огорчайся, Олюк, не так все страшно. Пока ты лежала в больнице, не хотелось тебя волновать.
– Я знаю, он арестован… – сурово прозвучал голос Ольги. – За что? Что он сделал дурного?
– Насколько мне известно, он отказался сотрудничать. Ему предложили выполнить один важный заказ – несколько рисунков. Эдгар заупрямился, хотя это были обыкновенные иллюстрации и он бы легко с ними справился. Он приходил ко мне советоваться. Я сказала – пусть соглашается без разговоров, долго его уговаривала, но на него мои доводы не подействовали. Жаль, что тебя не было дома. Тебя бы он послушался.
– Чего они от него требовали?
– Я же говорю, ничего особенного. Иллюстрации для какого-то сборника о зверствах большевиков в Латвии. Обещали хорошо заплатить. Ну почему он не мог это сделать? Ведь он же не большевик. Капризы артистической натуры, а теперь придется за это дорого расплачиваться.
– И за это его держат в тюрьме?
– По-твоему, это недостаточно серьезная причина? Эдгар открыто выразил неуважительное отношение к немецким учреждениям. Сейчас время военное, и мы не можем позволять своим противникам делать, что им вздумается. А у Эдгара была возможность выбирать, тюрьму ему никто не навязывал. В конце концов получил то, что выбрал.
– Я теперь понимаю. Значит, от него требовали невозможного. Вы хотели, чтобы он рукой художника подписался под вашей политической декларацией. Зачем вам понадобился именно он? Разве в Риге мало политических хорьков, которые за деньги готовы на все?
– Хорьки никуда не денутся, они сами придут предлагать свои услуги. К твоему сведению – они уже делают это. Другое дело, если с нами солидаризируется человек, за которым прочно установилась репутация честного и прогрессивного деятеля.
– Вот он для чего понадобился…
– Конечно, для этого. И потом, я хотела, чтобы твой муж сделал карьеру в новом обществе. Вам бы очень неплохо жилось, Ольга.
– Что же теперь будет? Долго вы продержите его в тюрьме?
– Странный вопрос… Как будто я его арестовала. Если бы это зависело от меня, я бы его хоть сейчас освободила и вернула тебе мужа, а твоему ребенку – отца. Нет, Ольга, теперь все зависит от вас самих.
– От нас? – Ольга горько усмехнулась. – Выходит, что мы сильнее твоих всесильных покровителей.
– Парадоксально, но факт.
– И что, по-твоему, мы должны сделать?
– Пусть Эдгар немедленно соглашается выполнить заказ. Если ты его любишь, если тебе дорог твой ребенок, ты сейчас же напишешь письмо мужу и дашь ему этот совет. Тебя он послушается. Я, с своей стороны, позабочусь, чтобы твое письмо сегодня же попало к нему в руки. Будь умницей, Олюк, плюнь на все эти глупые предрассудки и не порть себе жизнь… Ну, что же ты молчишь? Будешь писать или нет? Я могу пока подождать.
Ольга так посмотрела на нее, как будто видела в первый раз.
– Не стоит беспокоиться. Письма не будет.
– Это окончательно?
– Оставь меня, я устала.
– Завтра я тебе позвоню. Ты отдохнешь, успокоишься и, надеюсь, передумаешь…
У двери Эдит остановилась и еще раз обернулась к Ольге.
– Тебе не надо достать чего-нибудь из продовольствия?
Не дожидаясь ответа, Эдит вышла и тихо прикрыла за собой дверь. И сразу пустота квартиры ледяной глыбой навалилась на Ольгу. Она порывисто встала и вышла в спальню. Долго стояла перед колясочкой, с невыразимой нежностью и мукой глядела на своего ребенка, – а он спокойно дышал во сне, равнодушный ко всему происходящему в мире. Маленький, беленький, беспомощный и такой любимый… «В тяжелую пору ты появился, мой мальчик… Трудное будет у тебя детство…»
Ольга соскользнула на колени и уткнулась лицом в подушку. Подушка намокла от слез, а Ольга все плакала – тихо, неслышно, боясь разбудить ребенка. Скоро он сам проснется, проголодается, начнет искать грудь. Хватит ли ему молока?
Часа через два у двери позвонили. Ребенок давно проснулся и плакал от голода, – слишком мало молока было у матери. Ольга убаюкивала, а он все не мог успокоиться, требовал своего. Ольга застегнула блузку и с ребенком на руках вышла в переднюю.
– Кто там?
– Это я, Зандарт. Нужно кое-что передать вам.
Ольга открыла дверь. В руках у Зандарта был небольшой чемодан.
– Душевно рад поздравить вас с прибавлением семейства, – заторопился он. – У-у, какой геройский парень! А голосище-то! Надо думать, будет певцом или офицером. Вы не скажете, куда выложить из чемодана? Госпожа Эдит прислала кое-какие продукты. Где вам выстаивать в таких длинных очередях! В случае, когда что понадобится, вы только мне скажите, я…
– Передайте госпоже Эдит, что мне ничего не нужно, – сухо сказала Ольга. – Может не беспокоиться. Мы… обойдемся.
– Как так обойдетесь? – растерялся Зандарт. – Вы, может, думаете, мне трудно? Ради дружбы можно и потрудиться немного.
– Пока Эдгар в тюрьме, я прошу не заговаривать со мной о дружбе. У меня больше нет друзей. И вообще прошу ко мне не ходить. Мне это неприятно.
– Вы бы успокоились, госпожа Ольга. В вашем положении очень вредно волноваться, я вам говорю. Со временем все устроится.
– Идите, господин Зандарт, мне трудно говорить. Дайте мне немного отдохнуть. Идите. Ну, почему вы меня не слушаете?
– Понимаю, госпожа Ольга, понимаю, понимаю… Но мне вы, как истинному другу, можете поверить – я вам желаю одного добра. Вы все-таки послушайтесь моего совета: напишите-ка это письмо Эдгару, тогда его сразу выпустят, и вы опять заживете по-прежнему. Иду, иду, госпожа Ольга. А чемоданчик пусть останется пока здесь. До свиданья, госпожа Прамниек. Если что понадобится, позвоните мне в кафе.
Ушел. Ребенок опять расплакался. Ольга долго ходила по квартире, нежно убаюкивая его.
6
– Джеки, поди посмотри, кто там ломится в дверь, – сказала Фания, когда звонок настойчиво затрещал второй раз. – Не немцы ли?
Час был поздний. Мадам Атауга уже улеглась; угомонилась и Дзидра – годовалая дочка четы Бунте.
Бунте сунул ноги в домашние, верблюжьей шерсти туфли – подарок жены ко дню рождения – и вышел в переднюю. Звонок затрещал в третий раз. «Вот ведь не терпится, наверное не привык ждать. А нам наплевать, могут и подождать, если кому надо. Здесь приличная семья живет… Не кто попало».
Он был уверен, что пришли из полиции, и несколько опешил, когда увидел в полумраке лестничной площадки обтрепанного, небритого человека в каком-то разномастном наряде. Тот с выжидательной улыбкой глядел на Бунте, выказывая явное намерение немедленно переступить порог.
– Вам чего? – спросил Бунте, придерживая дверь.
– Да ну тебя, Джек, отворяй скорее. Что, у тебя куриная слепота? Родственников перестал узнавать?
– Ну и дела! – закричал Джек. – Индулис? Заходи, старик. Ей-богу, не узнал.
Индулис Атауга вошел в переднюю, сам включил свет и предстал перед зятем во всем своем жутком великолепии. Сапоги у него были в пыли, широкие бриджи стали пестрыми от обильно покрывающих их пятен, серая жокейка разорвана по шву. Лицо Индулиса сильно загорело; он несколько дней не брился и казался старше.
– Что, все уже улеглись? – спросил Индулис. – Ну и сонное царство.
– Нельзя сказать, что все, – поправил его Джек, – и Фания не ложилась, и я. Проходи в комнаты, Индулис, зачем нам здесь стоять.
Фания узнала брата по голосу и, накинув халат, вышла в столовую.
– Добрый вечер, сестренка.
Они пожали друг другу руки, и все трое замолчали.
– Ужинать хочешь? – спросила, наконец, Фания.
– Если дадут, поужинаю. Следовало бы сначала принять ванну, да вряд ли есть горячая вода.
– Возможно, еще осталась, – сказала Фания. – Мы недавно ребенка купали.
Гость показался ей похожим на дикаря с картинки, и Фания несколько раз внимательно всмотрелась ему в лицо, желая окончательно удостовериться, что перед ней родной брат Индулис Атауга, олдермен корпорации, денди, задававший тон золотой молодежи. Не говоря уж о костюме, что-то новое, непривычное появилось в его лице – лихорадочно бегающий, неспокойный взгляд, судорожное подергивание щеки.
Пока Фания приготовляла ванну и доставала чистое белье, мужчины разговаривали в столовой, стараясь не шуметь, чтобы никого не разбудить. Однако мадам Атауга уже проснулась и поспешила прижать к сердцу пропадавшего столько времени сына.
– Индулит, сыночек мой… похудел ты как… – охала она, приглаживая ему растрепанные волосы. – У вас там, в лесу, наверно, есть нечего было. Почему ты раньше не приезжал? Как тебе живется, сыночек?
– Об этом, мать, после поговорим… – ответил Индулис. – Голодать мне не приходилось. Но зато работы хватало.
Его позвали в ванную, и в распоряжении женщин осталось целых полчаса, чтобы накрыть на стол. Прошли те времена, когда все можно было купить. Краюшка довольно черствого хлеба, рыбные консервы, купленный у спекулянтов сахар и кусочек высохшего сыра – вот и все, что нашлось в доме в этот торжественный вечер. Зато Джек не осрамился, достал из буфета бутылку коньяку.
Вымывшись, побрившись и переодевшись в чистый костюм, Индулис уже перестал казаться таким странным. Пока он утолял голод, к нему не приставали с расспросами, а Фания, по старой привычке, уселась в уголок дивана и держалась так, будто ей ни до чего нет дела. Мать следила за каждым движением сына и все время пододвигала ему то одно, то другое, чтобы не пришлось тянуться, а Джек подливал в рюмочку коньяку, не забывая и себя. Скоро в бутылке не осталось ни капли. В глазах Индулиса появился стеклянный блеск; охмелев, он заговорил про свои «подвиги», упиваясь собственными словами:
– Я со своими ребятами взялся за работу на третий же день войны. Район удобный – кругом леса. Мы что делали – стреляли в спину красноармейцам, охотились на дорогах за советскими активистами. Нельзя сказать, что с голыми руками их брали, – у них было оружие, мы поэтому старались иметь дело с мелкими группками… Выследим ее в лесу или где-нибудь в безлюдном месте, окружим, в два счета уничтожим, и – на новое место. Однажды нам удалось поймать двух комсомолок. Сначала ребята с ними пошалили, – девчонки довольно хорошенькие были, – и повесили тут же возле дороги. Мы потом часто повторяли этот номер, если был под рукой подходящий сук и веревка.
– А ты тоже вешал? – оживилась вдруг Фания.
– Иногда приходилось. Знаешь, это довольно интересное ощущение.
– И женщин?
– Почему же нельзя женщин? Раз мы целую семью повесили. Какой-то сапожник с женой и детьми.
– И детей повесили?
– Детей пристрелили, веревок не хватило.
– Ты расстреливал детей? – Фания, как на привидение, посмотрела на своего брата. Когда Индулис повернулся в ее сторону, она отпрянула от него. Куда делась ее всегдашняя флегма: руки у ней дрожали, губы побелели и подергивались.
– Да, – продолжал Индулис, – когда повесили родителей, надо было куда-то девать малышей. Ты что вздрагиваешь, Фания, ведь это были жиденята.
– Это им за то, что отца выслали, – поддакнула мадам Атауга. – Как же с ними иначе! Они моего старичка не пожалели – посадили в вагон и увезли неизвестно куда.
– Правильно, мамочка… С этой публикой нечего нянчиться. Ну-с, когда эвакуация кончилась, мы стали работать легально. Немецкое командование облекло нас широкими полномочиями. Мы стали единственной реальной силой в округе и сразу принялись за работу по чистке. У нас были списки, потом нам помогали местные айзсарги и землевладельцы. Советских работников покрупнее мы передавали гестапо, а с мелкотой особенно много не возились, патронов у нас всегда хватало. Джек, разве у тебя больше ничего нет? – он повертел в руке пустую бутылку. – Не мешало бы еще.
Бунте стал шарить в буфете.
– Одна водка.
– А еще хозяин называется! Ну, ничего, сойдет и водка. Тоже неплохая вещь. – Он налил полный стакан и выпил его залпом. Затем продолжал рассказ:
– И потеха была с этими жидами. Я до сих пор не могу понять, почему многие из них остались на месте? Наверно, жалко было бросать имущество… Или надеялись приспособиться? В одном городке их было триста человек, считая стариков и детей. Нам поручили ликвидировать их в один день. Выгнали, приказали рыть в лесу ров. Сказали, что там будет боевая позиция. Пока взрослые рыли, дети играли в песке. А когда ров был готов, мои ребята за два часа обстряпали это дело так, что ничего больше не осталось.
– И ты руку приложил? – робея, спросил Джек.
– Как же иначе, – засмеялся Индулис. – Начальник должен показывать пример своим подчиненным. Сам военный комендант смотрел это представление до конца. Остался доволен, обещал доложить по начальству. Что ты все кривишься, Фания? Если мы распустим слюни, ни одна собака не станет нас бояться. Новую Европу построят те, у кого не дрожат руки. Лучше пусть один раз как следует прольется кровь, зато оздоровится организм нации.








