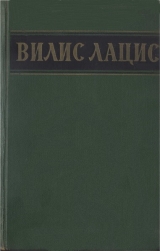
Текст книги "Собрание сочинений. Т.4."
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
– Мы его попробуем завтра, когда будем праздновать наши сегодняшние успехи, – пошутил обергруппенфюрер и приказал адъютанту отнести зайца в машину. Остальные господа посмеивались над практичностью высокого чина.
К вечеру палачи изрядно устали, а ко рвам подгоняли все новые и новые толпы. Убить за один день десять тысяч человек было нелегким делом.
Уже смеркалось, когда в Румбульском лесу замолкли последние выстрелы. На поляне эсэсовцы делили добычу. Раскапывали вороха одежды и, если случалось найти что-нибудь стоящее, быстро прятали под шинели. Понте еще днем снял с руки молодой женщины кольцо с драгоценным камнем, а в кармане у Ланки позвякивали платиновые серьги и золотые зубные протезы. Не с пустыми руками ушел и Индулис Атауга. Каждый хватал, что мог. Когда мелкота поднимала спор из-за какого-нибудь меха или пары новой обуви, офицеры водворяли порядок – просто откладывали предмет спора для себя. Наступила ночь, а на поляне, как гиены, копошились в груде тряпья темные фигуры. Когда добыча была поделена, откуда-то взялись бутылки, и тут же, на огромном кладбище, где вся земля пропиталась человеческой кровью, началась пьяная гульба.
В ту ночь Понте принес Сильвии хороший подарок. Кольцо с камнем пришлось ей впору. Индулис Атауга порадовал поэтессу Айну Перле. В благодарность за подарок Айна предложила в следующее воскресенье съездить куда-нибудь за город. Эдит Ланка, даже ложась в постель, не сняла серег, которые муж привез из Румбульского леса.
– Завтра мы устраиваем небольшой ужин с танцами, – сказал Ланка. – Я пригласил несколько коллег: Понте, Атаугу и свое начальство – штурмбанфюрера Винтера с дамой. После этой сумасшедшей работы хочется немного рассеяться.
6
Вся Рига знала об этом. В прачечной, где работала Анна Селис, одна работница жила на Московской улице и видела, как гитлеровцы гнали евреев из гетто. У окна ее квартирки целый день лежало трое убитых. Одного она знала: он жил в соседнем доме и до войны работал браковщиком на лесопильном заводе. А те двое, наверное, были брат и сестра. Эсэсовцы напали на молодую девушку и начали ее бить. Брат бросился на помощь и ударил эсэсовца в лицо. Обоих тут же и пристрелили.
– Что же это на свете творится, – плача, говорила женщина. – Они и на людей-то непохожи, это бешеные волки, а не люди. Сколько народу загубили… Господи, если ты есть, зачем ты допускаешь это? Вот говорят, без его воли и волос не упадет с головы. Как же это понять, если тут убивают тысячи невинных людей? Почему он не вступится, когда немцы уничтожают малых детей вместе с матерями? Долго ли нам придется это терпеть? Неужели на свете не осталось правды?
– Правда в другом месте, – тихо сказала Анна. – Ее не надо искать у немцев. Правда и здесь есть, у честных людей. Но они не могут громко говорить.
По совету «Дяди» Анна некоторое время жила смирно, чтобы не привлечь внимания полицейских органов. Она исправно стирала и гладила белье немецких офицеров и молча слушала рассказы других прачек.
– Ты все-таки не спеши, товарищ Селис, – уговаривал ее «Дядя», когда Анна, не вынеся бездействия, однажды выставила в окне сложенную газету. – Твое время еще придет. Сегодня пусть действуют другие, на кого не падало подозрений. Мы не можем безрассудно растрачивать свои силы.
А незримая армия продолжала свою работу. Казалось бы, что могли значить еле заметные на первый взгляд уколы – все эти листовки, лозунги на заборах, выбывшие из строя машины и трупы солдат, которые по утрам находили в темных подворотнях? Но немцы очень болезненно реагировали на них. Больше всего их приводило в ярость то, что о каждом таком событии мгновенно узнавало все население. Каждый пример находил последователей. Если акты саботажа возникали на одном-двух предприятиях, то вскоре они охватывали почти все фабрики и заводы. По городу распространялись дерзкие анекдоты, в которых высмеивались самые помпезные мероприятия гитлеровцев. Читая листовки с воззваниями, в которых звучал смелый голос подполья – голос совести народной, – человек, запуганный и одурманенный гитлеровским террором и пропагандой, начинал видеть неизбежность грядущей победы, обретал силы выдержать испытание. И еле заметные уколы оборачивались ударами меча.
Гитлеровские власти отвечали новыми зверствами, терроризирующими приказами и арестами. Но в Латвии уже разгорались костры партизанской войны.
Анна Селис не могла больше бездействовать. Она еще раз вложила меж оконных рам сложенную газету и стала ждать. Через два дня к ней пришел Роберт Кирсис.
– Дайте мне, наконец, какую-нибудь работу, – сказала Анна.
– Работу мы тебе дадим, но ты должна действовать очень осторожно. Ты будешь распространять в своем районе литературу. Только не доверяйся непроверенным людям.
Две недели Анна распространяла листовки и сообщения Совинформбюро. Оставляла их у фабричных ворот, опускала в почтовые ящики частных квартир, наклеивала на заборы, рядом с немецкими приказами. Когда в районе появлялись подозрительные, незнакомые лица, Анна уходила в другой район, дальше от своей квартиры и места работы. Несколько недель она проработала в соседнем районе, и ей казалось, что никто ничего не замечает. По утрам она выходила на работу на полчаса раньше обычного и успевала обойти несколько соседних улиц. В прачечной Анна не говорила лишнего, а когда к ним поступили две новые работницы, вообще старалась больше молчать. Два раза Кирсис посылал ее с заданиями на дальние окраины Риги – в Мильгравис и Болдераю, к рабочим фабрики авиационной фанеры. Оба раза все обошлось хорошо, и скоро рижане заговорили о новых актах саботажа, в результате которых Геринг целую неделю не получал ни листа фанеры.
Три дня Анна прятала у себя в квартире одного подпольщика, пока товарищи доставали для него документы. Он уехал на работу в Лиепаю, а через два дня в квартиру Анны среди ночи ворвалась полиция и сделала обыск. Ничего, конечно, не нашли, на все вопросы Анна давала ясные и убедительные ответы. Полицейские велели подписать протокол допроса и ушли, а утром, когда Анна шла на работу, ее арестовали на улице. У нее ничего не было, но гитлеровцам достаточно было одних подозрений.
Роберт Кирсис узнал об аресте Анны на другой день. Он дал знать товарищам, которые держали связь с Анной, и они перестроили сеть районного подполья, чтобы с арестом Анны даже на время не прервалась работа организации. Это было необходимо и для спасения Анны. Если бы теперь на фабриках и в домах перестали находить листовки и сообщения Совинформбюро – гестапо уверилось бы, что их распространяла Анна Селис. Один из лучших подпольщиков без промедления стал на ее место, и работа в районе продолжалась по-старому.
Четыре дня спустя в районе Гризынькална был убит полицейский чиновник. Так подполье ответило гитлеровцам на арест своего товарища.
Глава десятая1
12 сентября 1941 года Латышской стрелковой дивизии вручали боевые знамена, а стрелки давали воинскую присягу. Полки выстроились на огромном поле. День был прохладный, ветреный, несколько раз принимался моросить дождь.
Вот они вьются на осеннем ветру – красные боевые знамена. С гордостью и любовью глядели на них стрелки. Рейте, милые! Ведите полки в далекий путь к Латвии. Не все увидят Балтийское море, но те, кто дойдут до него, расскажут Родине о великой любви ее сынов и дочерей. Ничто им не будет казаться трудным в этой священной войне, которая решает судьбы будущих поколений. Рейте гордо, алые героические знамена!
Сомкнутыми рядами стояли полки и батальоны, все в новых, только что выданных шинелях и стальных касках. Уже произнесены слова присяги. Друг за другом подходят стрелки к столику, подписываются под ее текстом и снова возвращаются в строй. С этого момента они становятся полноправными воинами Красной Армии, непобедимой армии советского народа, и мысль об этом поднимает в собственных глазах каждого бойца.
Пламенные слова звучат на торжественном митинге. Бойцы вспоминают своих старших братьев, старых латышских стрелков, и дают обещание продолжать их славные боевые традиции.
– Доложите товарищу Сталину, что мы готовы и с нетерпением ждем первого боевого приказа, – говорили они представителям Центрального Комитета Коммунистической партии и правительства Латвии, которые вручали дивизии знамена.
В эти дни, когда гитлеровские полчища рвались к сердцу Советской страны, они хотели быть там, в первых рядах ее защитников. Им казалось, что каждый лишний день, проведенный в лагере, украден у Родины. Высказывали разные предположения об отправке на фронт, называли разные числа, но точно никто ничего не говорил.
– Товарищ Сталин скажет, когда мы понадобимся фронту, – говорили командиры. – Нас не забудут.
Когда заиграл оркестр и роты развернулись для торжественного марша – тогда все присутствующие впервые получили представление о дивизии как о боевой единице. Это была действительно внушительная сила. Полковые колонны растянулись на километры. Головные части дивизии с песнями подходили к лагерю, который отстоял на несколько километров от поля парада, и на нем все еще стоял гул от чеканного шага батальонов и рот, все еще маршировали мимо командования дивизии и гостей стройные шеренги.
Как река из ручейков, собиралась эта большая сила. С заводов и колхозных полей, со всех концов советской земли стекались сюда патриоты Советской Латвии, ставшие сегодня под боевые знамена 201-й Латышской стрелковой дивизии.
2
Надежда на то, что дивизию пошлют на фронт сразу после вручения знамен, не сбывалась. Шли неделя за неделей, а по всем признакам в лагере оставалось пробыть еще немало времени. Каждый день происходили занятия. Артиллеристы и минометчики выезжали на большой полигон. Роты и полки проводили тактические учения, которые иногда походили на настоящие маневры. Снайперы совершенствовались на стрельбищах в своем искусстве, а разведчики упражнялись в разрешении сложных задач и в дневных и в ночных условиях.
Приближалась зима. Саперы и специальные рабочие группы продолжали спешно строить землянки, и, глядя на это, стрелки только головами качали.
– Неужели нам и зиму придется здесь провести? Похоже, мы здесь устраиваемся на постоянное жительство. Что же это такое? Немец рвется к Москве, а мы плесневеем в тылу.
Но у главного командования, очевидно, были свои планы, о которых еще рано было говорить. Не одна латышская дивизия ждала с нетерпением боевого приказа. Люди рассуждали между собой, что это, конечно, не случайно. Товарищ Сталин знает, когда они понадобятся фронту. Выходит, надо подождать. Потерпеть. Но это терпение давалось не легко – жизнь в лагере всем осточертела.
Так подошел канун годовщины Октябрьской революции. На праздник в дивизию приехали гости – и из Москвы и из областей. Вместе с Айей приехала небольшая бригада артистов; среди них была и Мара Павулан.
Мара всю дорогу не спала – так ей хотелось попасть скорее в дивизию. И когда она очутилась на территории лагеря, у нее чуть слезы на глазах не выступили – ей вдруг показалось, что она снова в Латвии.
На каждом шагу звучала латышская речь, и даже в незнакомых лицах угадывались давно знакомые, привычные черты. Ее трогали и заснеженные сосны, и серые фигуры стрелков в зимних шапках, и даже ряды землянок с железными трубами, из которых вились струйки синеватого дыма. Иногда навстречу попадались, девушки в длинных шинелях и ушанках, улыбающиеся, розовые от холода.
Картины лагерной жизни вызывали в ней одно общее ощущение чего-то свежего, как этот чистый морозный воздух.
Под вечер на площадке под открытым небом началось торжественное собрание. Батальонный комиссар Андрей Силениек говорил о значении Великой Октябрьской революции, о величии и мощи социалистического государства, о Великой Отечественной войне. Когда Силениек, заканчивая речь, сказал о боевом приказе, которого вся дивизия ждала с таким нетерпением и которого, очевидно, долго ждать не придется, – далеко по лесу прокатилось единодушное «ура».
С радостным волнением слушала Мара уверенный голос Силениека, а взгляд ее все время бродил по лицам стрелков. «Какие спокойные – ни страха, ни сомнения… Таких людей нельзя победить. А сколько их, – подумала она, с новой силой ощутив все величие советского народа, его армии. – Миллионы…»
Как только кончилось собрание, Мара подошла к Силениеку. Он уже слышал о приезде артистов, но про Мару ему не говорили. И вдруг она стоит перед ним – в сапожках, ладно подогнанной шинели и белом шелковом платке на голове.
– Вот так чудеса! Ведь знал, что вы успели эвакуироваться, а все-таки неожиданно. Знаете, я так радуюсь каждому знакомому, так доволен, что вы не остались там. Жалко, что не смогли эвакуироваться всем театральным коллективом, тогда бы вы не были одиночкой.
– Разве я одиночка? – улыбнулась Мара. – У нас целая бригада артистов. Мечтаем постепенно собрать всех латышских актеров, певцов и музыкантов и сколотить настоящий художественный ансамбль. Публики ведь хватает. А там когда-нибудь вы разрешите навестить стрелков, если у них будет время.
– Не только разрешим – просить об этом будем. Вы сегодня где-нибудь выступаете?
– В вашем полку. Кажется, через час начало. А далеко до полкового клуба?
– Пять минут ходу, но одна вы не найдете. Разве вам не дали провожатого?
– Меня будут ждать в политотделе. Признаться, я нарочно отстала от своих товарищей. Хотелось побродить по лагерю одной – ведь так больше увидишь.
– Это верно, но на сегодня я вам все-таки дам провожатого. Иначе заблудитесь и опоздаете к началу концерта. Мне через полчаса надо быть у дивизионного комиссара, а то бы взял на себя эту роль, хотите вы там или не хотите. Идемте, товарищ Павулан.
Силениек повел Мару по дорожке, между двумя рядами землянок.
– Смотрите, ведь все здесь устраивали сами стрелки. Кто ни приезжает к нам из военного округа или из наркомата, нахвалиться не могут.
Навстречу им молодцевато шагал статный сержант. Когда он поздоровался с Силениеком, тот остановился и спросил:
– Товарищ сержант, что, командир второй роты уже вернулся с собрания?
– Так точно, товарищ батальонный комиссар. Сейчас только в землянку вошел.
Мара взглянула на сержанта, и в памяти ее сразу всплыл путь из Латвии, налеты немецких самолетов, смертельная усталость тех дней…
– Товарищ Пургайлис, вы меня не забыли? – спросила она и протянула сержанту руку. – Помните, как вы мне помогли?
Разглядев Мару, Пургайлис заулыбался, но чувство дисциплины одержало верх: он вопросительно оглянулся на Силениека и, лишь заметив, что батальонный комиссар с удовольствием наблюдает сцену встречи, успокоился.
– Как же не помнить, товарищ Павулан. А вы с тех пор поправились!
– Что вы здесь делаете?
– То же, что и другие. Сам учусь и других учу. Пока меня назначили командиром взвода.
– Хвалить их нельзя – сейчас же загордятся, – сказал Силениек, – но Пургайлис, надо сказать, один из лучших комвзводов во всем полку, он, разбойник, и сам это понимает.
– Пишите Марте письмо, я завтра зайду за ним, – сказала Мара, – или, когда уезжать буду, приходите проводить.
– Если начальство разрешит, – усмехнулся Пургайлис.
– Придется поговорить с командиром роты, – сказал Силениек.
Они пошли дальше, захватив с собой и Пургайлиса. Поровнявшись с одной из землянок, Силениек остановился, помог Маре спуститься вниз и постучался. Изнутри послышалось: «Войдите». Приоткрыв дверь, Силениек, не заходя, просунул в нее голову, для чего ему пришлось изрядно согнуться, и сказал:
– Я тут тебе гостя привел. Через полчаса надо будет отвести его в полковой клуб. Ты уж, пожалуйста, сделай это, а к концу художественной части я тоже подойду.
Он повернулся к Маре:
– Заходите смелей.
Пропустив мимо себя озадаченную Мару, Силениек закрыл за ней дверь.
– Пургайлис, придется сегодня тебе быть за хозяина, ничего не поделаешь. Надо приготовить настоящий праздничный ужин… Поговори со старшиной и в военторг зайди. Вина бы не мешало.
– Понятно, товарищ батальонный комиссар. Вы не беспокойтесь, лицом в грязь не ударим. У нас кое-что найдется. А много гостей?
– Да так человек десять.
– Будет выполнено, товарищ комиссар.
Как всякий настоящий хозяин, Пургайлис немедленно взялся за дело, и Силениек отправился к дивизионному комиссару в полной уверенности, что все будет сделано как следует.
Войдя в землянку, такую низкую, что там нельзя было выпрямиться, Мара прищурилась от яркого света электрической лампочки. Освоившись, она увидела так же согнувшегося и так же растерявшегося, как и она сама, человека. Это был командир второй роты – лейтенант Жубур. Он только что повесил шинель на стенку и торопливо затягивал ремень поверх защитной гимнастерки.
– Чего только не бывает на белом свете, – шутливо вздохнул он, сильно пожимая руку Мары. – Все-таки выбралась в дивизию! Великолепно, Мара. Страшно рад, что ты здесь… Да… Присаживайся, пожалуйста. Вот сюда, на топчан. Ты ведь знаешь, мне никогда не удавалось предоставить своим гостям даже элементарные удобства. Что поделаешь, раз человек жить не умеет.
Мара смотрела на Жубура и улыбалась.
– Не умеешь жить? Я всегда завидовала тебе – какая у тебя полная жизнь… как ты находишь в ней настоящее место. А удобства… бог с ними, с удобствами.
Жубур выдвинул из-под топчана круглый чурбачок и сел на него. Он не мог опомниться от радости и не знал, как ее выразить. Они сидели в маленькой землянке, в которой двоим негде было повернуться, глядели друг на друга и улыбались.
– Я очень часто думаю о тебе, Жубур, но когда Силениек повел меня сюда, мне и в голову не пришло, что это к тебе. Ведь вот какой – ни полсловом не обмолвился. Я почему-то была уверена, что не застану тебя.
– Наверно, хотел сделать нам обоим сюрприз. И это ему удалось. Так это неожиданно, что не знаю, с чего начать.
– А я… то же самое и со мной. Вот что значит несколько месяцев не видеть друг друга.
– И каких месяцев! Сколько событий, как все изменилось с тех пор. Мы и сами не те, какими были до войны.
– И уже не будем такими. Но об этом как-то и жалеть не хочется. Правда? Назло войне, а может быть, это из-за нее живешь такой напряженной, полной жизнью, о которой раньше и понятия не имел. Придешь вечером домой и прямо валишься на кровать от усталости, зато совесть спокойна – делаешь, что можешь, и кажется – твоя работа нужна людям. Ты не подумай, что я себя чувствую жертвой какой-то, совсем нет… Я никогда не получала столько от жизни, как сейчас. Каждый день как-то зорче видишь, лучше понимаешь события. Ближе к людям стала – вот в чем дело. Раньше у меня весь мир театром ограничивался, если по-настоящему-то говорить. Ну, пусть шире – искусством. А теперь? Вот мы сейчас шли с сержантом Пургайлисом, ты его, наверно, знаешь. Когда мы из Латвии уходили, ну, был такой тяжелый момент, и они с женой очень помогли мне… Какие это замечательные люди, Жубур!.. У меня получается, пожалуй, что война – это хорошо… Нет, я ведь не это хочу сказать, ты пойми. Но только у нас страна такая особенная – даже самое страшное бедствие и то не уродует людей, а, наоборот, заставляет показать, сколько в них силы, красоты… Видишь, сколько я всего наговорила, наверно не поймешь ничего.
– Нет, Мара, все понял. Я вот вспоминаю, как ты мечтала поехать в Москву, посмотреть, поучиться. По-другому получилось, конечно, но и я чувствую, что в тебе много нового появилось.
– Да, я только теперь начала понимать, что это значит – советский народ. И такое чувство гордости иногда испытываю: все-таки и я частичка этого народа…
– Я рад, Мара, что встретил тебя такой… И ведь заметь – время очень трудное, положение под Москвой угрожающее, а вот уверены все в победе, да и только. И как раз самые трезвые люди лучше всего и сознают, почему мы победим. А в дивизии у всех один разговор – когда же на фронт? Признаться, и самому иной раз невтерпеж…
Мара робко посмотрела на него.
– Послушай, Жубур, а как у тебя со здоровьем? Тебе не тяжело?
Жубур засмеялся.
– Отличное здоровье, Мара. За все время войны ни разу в медсанбате не был. Ты лучше про себя скажи.
– Ты, наверно, смеяться будешь, но, честное слово, никогда я не чувствовала себя такой крепкой и бодрой, как сейчас. А ведь условия жизни нелегкие, не то, что до войны.
– Время, видно, такое, Мара. Время нас закаляет.
Снова между ними установился прежний дружески-непринужденный тон. И по-прежнему не то робость, не то сдержанность не позволяла им открыть друг другу давно уже крепко связавшее их чувство.
Незаметно пролетели полчаса. Жубур надел шинель, проверил, прогорели ли в чугунной печке угли, и вместе с Марой пошел в полковой клуб.
3
Недавно построенное здание полкового клуба представляло собой обыкновенный барак: стены были из сосновых, не очищенных от коры бревен, потолок из таких же жердей. Единственный вход вел в единственное же, служившее залом, помещение с небольшим помостом-эстрадой и рядами наскоро сбитых скамеек. Вдоль стен, украшенных еловыми ветками, висели портреты Ленина, Сталина и маршалов Советского Союза.
Когда Жубур и Мара появились в клубе, там уже было полно народу. Мест для всех не хватило, и многие стояли. Жубур сразу заметил знакомую компанию, расположившуюся поближе к печке. Там был помощник командира батальона по хозяйственной части лейтенант Юрис Рубенис с Айей, там же сидел политрук третьей роты Петер Спаре и командир роты лейтенант Закис. Прижавшись друг к другу, сидели Лидия Аугстрозе и Аустра Закис.
– Не найдется ли и для нас местечка? – спросил Жубур.
Лейтенант Закис вскочил и уступил свое место Маре. Это произошло так быстро, что Лидия подозрительно посмотрела на Аугуста, но, заметив рядом с незнакомой гостьей Жубура, успокоилась и подвинулась в сторону, чтобы хватило места для обоих.
– А Силениека разве не будет? – спросила Айя у Жубура.
– Обещал прийти к концу. – Ему было неловко от любопытных взглядов товарищей: «Первый раз в жизни появился в обществе с дамой, и они, конечно, строят разные предположения».
У Мары таких мыслей не возникало, и она с интересом наблюдала молодых командиров. Они очень заботились о своей выправке, поминутно подтягивали наплечные ремни, проверяли, не сдвинулась ли назад кобура револьвера, проводили ладонями по гладко причесанным волосам. Девушки сидели особняком, и с их стороны часто доносились смех и шепот.
Ждали только командира полка, чтобы начать концерт. Наконец, он появился, но не прошел вперед, а остановился у двери и что-то сказал подошедшему к нему Петеру Спаре. И через несколько секунд клуб облетела весть: Сталин делал доклад на торжественном заседании Моссовета.
Петер, с блестящими глазами, с раскрасневшимся лицом, вернулся на свое место.
– Слышали? Сталин сегодня выступал… Завтра в дивизионной газете напечатают… Ведь это же замечательно, товарищи… Слышишь, Аустра? Он сказал, что немецкие захватчики обрекли себя на неминуемую гибель.
И у всех были такие же блестящие глаза, все с волнением переспрашивали друг друга, что сказал Сталин.
Наконец, начался концерт. Трудно было вообразить более пеструю программу, но Маре еще никогда не случалось выступать перед такой благодарной и восприимчивой аудиторией. Сказывалось, конечно, и приподнятое настроение.
Приехавшая труппа артистов сыграла две-три сценки, потом выступали дивизионные и полковые кружки самодеятельности. Мара прочла несколько стихотворений, один из лучших теноров Латвии пел родившиеся здесь же, в дивизии, песни стрелков, а в заключение выступил хор с музыкальным монтажей. Каждое выступление сопровождалось громом аплодисментов, многие номера пришлось повторить.
– Вы вот приезжайте к нам, когда будем на фронте, – сказал Маре Петер Спаре. – Там у нас, правда, не будет такой сцены, да и аплодировать не придется слишком громко, зато вы найдете столько почитателей вашего таланта, что и уезжать не захотите.
– Я бы и отсюда ни за что не уехала.
Общими усилиями сдвинули скамейки к стенам, и оркестр заиграл вальс. Счастлив был тот, у кого была дама. Аугуст Закис и Лидия сразу вышли на середину зала и весь вечер проявляли непростительное бессердечие к остальным любителям танцев. Оставшиеся без дам лейтенанты и капитаны с завистью глядели на них, но они не расстались друг с другом ни на один танец. И если бы у одного из них не красовался на груди боевой орден, а у другой – медаль «За отвагу», можно было подумать, что в жизни у них только и дела было, что танцевать.
Зато досталось Аустре Закис. Петер Спаре не танцевал – не было настроения; видя, что он добровольно отказался от конкуренции, товарищи один за другим приглашали Аустру и не давали девушке дух перевести. Это продолжалось до прихода Силениека, который с помощью Жубура собрал нескольких друзей и пригласил на ужин. Это были Петер Спаре, Айя, Юрис, Жубур, Мара, Аустра. Не забыл он и Аугуста Закиса с Лидией, но те вздумали прогуляться при луне.
– Ничего, сами еще пожалеют, – сказал Силениек.
У Силениека была довольно большая комната в одном из лагерных домов. Сержант Пургайлис уже ждал гостей.
– С посудой вот только у нас бедновато, – сокрушался он.
Вино пришлось пить из маленьких алюминиевых кружек; тарелок хватило только дамам, – мужчины пользовались мисками, а жаркое Пургайлис подал в алюминиевом котелке. Впрочем, эта простота обстановки только способствовала сближению участников ужина.
Узнав, что командир батальона капитан Соколов уже вернулся, Силениек зашел за ним и через несколько минут привел его.
Соколов недавно кончил военную академию и в полку считался одним из самых образованных командиров. За несколько месяцев он успел так сблизиться с латышами, как будто провел среди них долгие годы.
О чем бы ни заводили разговор в тот вечер, все снова и снова возвращались к одной теме: «А что сказал Сталин? А как сейчас в Москве?» Да и могло ли быть иначе? В этих словах заключалась судьба народная и личная судьба каждого человека, будь то русский или латыш, рабочий или колхозник, генерал или рядовой боец.
– А как он метко о Гитлере, – сказал Силениек. – «Гитлер походит на Наполеона не больше, чем котенок на льва…» Вот он – приговор истории над фашизмом.
Соколов днем разговаривал с товарищем, только что приехавшим из Москвы.
– Москвичи чувствуют себя, как на фронте, на улицах – баррикады, противотанковые надолбы. Фашистские самолеты ни днем, ни ночью не оставляют в покое, – шутка ли, базы-то у них теперь рядом… Но настроение бодрое, боевое. «Сталин с нами, и Москву немцам не отдадим», – это буквально каждый человек говорит.
– Эх, черт! – вырвалось у Жубура. – Когда же наша очередь наступит? А какое бы замечательное начало для дивизии – повоевать за столицу.
– Да, хватит нам здесь сидеть, – сказал Соколов. – Я думаю, что теперь вот-вот будет приказ о выступлении. Я за наших стрелков не боюсь – хорошо будут драться. Скорее надо опасаться, как бы ребята в первых боях сгоряча глупостей не наделали.
– Наше дело следить за тем, чтобы глупостей не делали, – сказал Силениек. – А относительно успехов… Многое, я думаю, зависит от первого боя. Если в первом бою мы добьемся успеха, докажем, что способны бить немца, потом даже отдельные неудачи не поколеблют веры стрелков в свои силы.
– Есть у меня предположение, что командование специально приберегает нас для наступательных боев, – оглядывая всех сидящих за столом, сказал Соколов. – Пусть Гитлер выкидывает любые трюки, Москвы он не получит. Хорошо, если и нам удастся принять участие в той битве, которая должна изменить положение. А такая битва должна произойти, иначе и быть не может. Другой вопрос, какой срок назначил для нее товарищ Сталин. Одно только мне ясно: немцев отгонят от Москвы.
Разошлись только после полуночи. Мару уложили тут же, в комнате Силениека, а сам он перекочевал к Соколову. Лагерь утих.
«Если бы можно было и мне остаться здесь», – думала Мара.
4
7 ноября с трибуны Мавзолея Ленина на Красной площади говорил Сталин. В заснеженных шинелях стояли боевые полки – с Красной площади они шли прямо на передовую. В воздухе гудели моторы самолетов, идущих на боевое задание; по временам порывы ветра доносили гул боя с близкого фронта. Но спокойно звучал голос Сталина. Быть может, это был самый тяжелый момент за всю Отечественную войну, когда миллионы сердец сжимались от боли и тревоги за судьбу своей столицы, за судьбу Родины, но это бесспорно был один из самых благородных и героических моментов истории человечества. Советская страна перед всем миром засвидетельствовала уверенность в своей победе. Она говорила голосом Сталина – спокойно, трезво, как сам разум, как сама совесть, которая смотрит в глаза правде:
«Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?»
Метель – светлая, юношески-непокорная – взвивалась над седой Москвой, предвещая близкую перемену.
Голос Сталина долетел и до латышской дивизии.
– Знают командиры, когда выступим, только нам не говорят, – рассуждали стрелки. – Ведь никакого смысла нет держать нас в тылу в такие дни.
Оружие было получено. Летнее обмундирование заменено зимним. Стрелки обулись в валенки, надели овчинные полушубки и ватные брюки. О занятиях как-то не хотелось и думать, все эти маневры в лесах и на полях казались тратой времени.
И вот однажды лагерь облетела взбудоражившая всех весть: один полк уже получил приказ погрузиться со всем своим имуществом. Скоро, впрочем, выяснилось, что приказано было погрузить на платформы только артиллерию полка. Как забегали парни, как засуетились вокруг лафетов и повозок! Где там было подгонять их – не успели оглянуться, а полковая артиллерия уже была на платформах. Но когда погрузка закончилась, командиры посмотрели на часы и… велели сгрузить орудия с платформ и отвезти обратно в лагерь. Оказывается, это была только проверка. С вытянутыми лицами стаскивали артиллеристы орудия и возвращались к своим землянкам. Их не утешало даже то, что при этой погрузке были побиты все рекорды. Бывалые командиры признавались: никогда не видели, чтобы такое задание было выполнено в такой короткий срок.
– Молодцы ребята! – похвалил командир своих артиллеристов. Но молодцы только хмурились. Однако никто не думал над ними смеяться, на их месте каждый бы попал впросак.
Так подошло начало декабря.
Аустра Закис возвращалась из медсанбата – относила Руте письмо от Айи, доставленное кем-то из приезжих. Лагерь жил обыденной жизнью: артиллеристы чистили лошадей и осматривали орудия, по дороге маршировали взводы стрелков, связные бегали по поручениям. Привычная обстановка, давно знакомые звуки. И вдруг все привычное кончилось. Подходя к расположению своего полка, Аустра услышала шум. Сотни людей кричали «ура» так, что в лесу отдавалось. Подойдя ближе, она увидела вовсе странное зрелище. Стрелки обнимались, кидали вверх шапки, некоторые бросались на землю и кубарем прокатывались по снегу, а командиры только улыбались и ничуть не спешили установить порядок.








