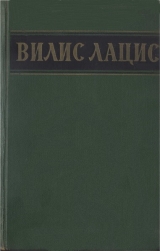
Текст книги "Собрание сочинений. Т.4."
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
Каждый вечер, возвращаясь в лагерь, они слышали звуки ударов и крики: то ротенфюрер Текемейер снова бил кого-нибудь из заключенных стеком, с которым он никогда не расставался. Каждую неделю в лагерь приезжали из Риги гости – начальник политической полиции Ланге со своими друзьями. Тогда Текемейер с Никелем готовили в честь важных гостей спектакль: пороли и гоняли заключенных, приказывали на руках обойти вокруг барака, натравливали на них собак. На скорую руку выбирали жертву и приводили к виселице. Для рижских господ выносили стулья, и доктор Ланге со своими друзьями, как завсегдатай партера, сидя наслаждался зрелищем. Но зрелище обычно протекало однообразно, тихо, без криков, без истерик, без мольбы о пощаде. Смертники равнодушно поднимались на скамейку – в этой казни они видели избавление от нескончаемых мук и унижений. Иной, взобравшись на скамейку, сам надевал на шею петлю и, не дожидаясь, когда палач выдернет из-под ног скамейку, спрыгивал с нее.
Рижским господам это не доставляло большого удовольствия. Они вставали и уходили осматривать лагерь. Взгляд Ланге блуждал по рядам заключенных, пока кто-нибудь из них не привлекал его внимания. Тогда он подзывал его, прикладывал к уху пистолет и нажимал гашетку. Затем выискивал новую жертву. Улыбаясь, предлагал попробовать и другим гостям. Тех просить не приходилось. После отъезда гостей у бараков, во дворе лагеря, на траве у виселицы – всюду лежали трупы.
Эдгар Прамниек стал замечать, что его чувства притупляются. Ничто его больше не поражало, не могло взволновать. И собственные страдания и страдания других людей как будто проходили мимо сознания.
Но иногда, вспоминая предложение шефа пропаганды, он думал, что теперь смог бы работать и в том жанре, от которого когда-то отказался. Проведенное в тюрьме и концентрационном лагере время показало ему, что такое человек-зверь.
«Кровь и муки, преступление за преступлением… тысячи убийц со знаком свастики на рукаве…» – дрожа от ненависти, думал он по ночам, лежа на голых досках; и в душе художника пробуждалось страстное желание увековечить на холсте и на бумаге все виденное и пережитое, составить обвинительный документ против фашизма, который читали бы поколения людей еще через сотни и тысячи лет, – беспощадное по своей правдивости обличение величайшего преступления в истории. «Если я останусь цел, если меня не уничтожат в этой клетке, это станет для меня делом жизни».
Один раз с доктором Ланге приехали в лагерь Освальд и Эдит Ланка. Ни тот, ни другая не узнали Прамниека. Вместе с остальными гостями они сидели перед виселицей, и Эдит с любопытством наблюдала за последними конвульсиями повешенных, не переставая разговаривать с мужем.
«И такие мерзавцы когда-то сидели у меня за столом», – думал Прамниек. Если бы сегодня можно было повесить Освальда и Эдит, он сам бы надел им на шею петлю.
3
Беспощадно палило полуденное солнце. Во дворах концентрационного лагеря незаметно было даже легкого ветерка. Эдгар Прамниек вдвоем с коренастым крестьянским парнем везли через двор тяжелую двуколку, нагруженную тюками грязного белья. С обоих пот ручьем лил; грубая тюремная одежда намокла и прилипла к спине, но ни Прамниек, ни его товарищ не осмеливались скинуть куртки: рядом с двуколкой шагал охранник-эсэсовец, в руках у него была плетка.
Двуколка заехала колесом в канавку и не могла сдвинуться с места. Прамниек всем телом навалился на лямку, упираясь деревянными башмаками в землю. Он дышал, широко открыв рот, и все равно не хватало воздуха. Пот щипал глаза, болело под ложечкой.
– Что, плети захотелось? – заорал охранник, когда Прамниек утер рукавом пот с лица. – Можно всыпать. Для норовистой лошади – лучшее средство. Ну, тащи, тащи, падаль!
Бесшумно, без предостерегающего свиста, плеть жалила плечи, затылок, ноги. Двуколка дрогнула, качнулась и выскочила из канавки.
– Ты не очень старайся, – шепнул напарник Рейнис Приеде. – Делай только вид, а я сам дотащу.
Он появился в лагере недели две назад и еще не дошел до полного истощения. Прамниек посмотрел на Приеде выразительным взглядом, точно руку пожал.
– Спасибо, товарищ… Мне бы немного дух перевести…
Когда двуколку подвезли к прачечной, несколько женщин вышли из барака принимать грязное, рваное, в кровяных пятнах белье.
– Принимай со всеми вшами, – хохотал эсэсовец. – В каждой рубахе по десять дюжин. Можете на сале оладьи печь, ха-ха-ха!
Из глубины барака послышалось:
– Сам жри за завтраком.
Охранник перестал смеяться, повертел головой, подозрительно взглянул на Прамниека и Приеде – не улыбаются ли? Но те думали только, как бы им передохнуть, пока женщины разгрузят повозку.
– Смотрите у меня, сороки, – погрозил охранник. – Рука у меня тяжелая, так надаю по мягкому месту!
Немолодая женщина, не обращая на него внимания, развернула заношенную рубаху и начала энергично вытряхивать ее – так, что пыль полетела во все стороны. Охранник, как ужаленный, отскочил в сторону и стал осматривать мундир: не попала ли вошь.
– Осторожней, ты, сука…
Женщина достала другую штуку белья и стала трясти еще усерднее. Охранник, опасливо обойдя женщину, вошел в барак. Прамниек и Приеде очутились без присмотра. Женщина оглянулась, подошла к ним и сунула по большому сочному помидору.
– Берите, милые… только сразу съешьте, а то отберут. Это подарок от наших женщин, которые на огороде работают.
Прамниек откусил половину помидора и, почти не жуя, жадно проглотил. Вторую половину он сосал долго-долго, смакуя каждую каплю чудесного, пахнущего солнцем и свежестью сока.
Женщина покачала головой, глядя на Прамниека.
– Тяжко вам живется. Давно ли в лагере? Наверно, городской?
Прамниек назвал свою фамилию.
– До войны был художником, а теперь самого разрисовали.
Он расстегнул на груди куртку и рубаху, показывая следы старых и свежих побоев.
– Вот как они разрисовывают, – повторил Прамниек.
Женщина вздохнула:
– Поздно мы начали их ненавидеть. Слишком поздно, милые… А они торопятся, спешат. Дочку мою замучили через два месяца после прихода. Зарыли, как собаку, в Бикерниекском лесу. Каждый день вот стираешь белье! – все-то оно в крови. Это ведь наша кровь, кровь несчастных, хороших людей. Кто за нее заплатит? Только сынок остался у меня на свете, он-то, наверно, будет мстить за нас.
– Красная Армия за все заставит заплатить, – тихо и упрямо сказал Приеде. – Зимой заставили их здорово перетрусить. Гитлера-то отогнали от Москвы.
– Сейчас немцы хвастаются, что их армия опять далеко ушла… – зашептал Прамниек. В последнее время он совсем уж разучился говорить громко. – Плохо это, плохо.
– Надо верить в наше дело, вот что, – ответила женщина. – Мы с вами можем и погибнуть, а наше дело все равно не погибнет. Я вам говорю, нет такой силы, чтобы победила советский народ. Солнце тоже иной раз заслоняют тучи, но только загасить его они не могут. Правду нельзя задавить, она всего сильнее.
– Что вы делали раньше? – спросил Прамниек.
– Всю жизнь стирала белье. Сначала господам, потом своему брату рабочему. Надо держать себя в руках, товарищи. Много чего еще придется нам выстрадать. Все надо вынести.
– Сил у меня больше нет, – вздохнул Прамниек. – Я до того дошел, иногда завидую тем, кого ведут на виселицу. Им больше не надо мучиться. Их никто не станет унижать.
– Нехорошо вы рассуждаете, – укоризненно сказала женщина. – Мы еще как понадобимся народу! Жизнь-то по-новому будем переделывать после войны, как же ее без людей переделаешь? Вы о себе меньше думайте, тогда вам и сил хватит. О народе надо думать.
Разговаривая, она ни на минуту не отрывалась от дела: перетряхивала и сортировала белье, а другие женщины относили его в барак.
– Как вас зовут, товарищ? – спросил Прамниек.
– Анна Селис. Может, когда придется увидеть сынка моего, Иманта Селиса.
Руки у нее опухли от вечной стирки, лицо страшно исхудало, пожелтело, но глаза горели живым, молодым огнем.
«Сильная душа… – с удивлением думал Прамниек. – Как ей все ясно… Темперамент настоящего борца. Такие не спрашивают – они сами живой ответ на все вопросы. Откуда у них берется такая мудрость? Жизненный опыт? Или инстинкт? Коллективный разум класса?»
Прамниек не раз еще встречался и разговаривал с Анной Селис. Больше всего его поражал суровый реализм ее суждений. Анна называла вещи своими именами и для каждого явления находила определение – меткое и неоспоримое. Очень верно, безжалостно даже сказала она и о нем самом:
– Вся беда, что вы ни к чему не приросли душой, потому что на все со стороны смотрели. Многое вам даром доставалось. Вот когда человеку что-нибудь потом и кровью достается, тогда оно и дорого, тогда и жизнь за него отдать не жалко. Вы и советскую власть приняли как подарок, поэтому и не болели душой, когда ей трудно приходилось. Вы только поглядывали да судили, что по-вашему, что – нет. Нельзя вам так дальше, надо найти свое дело, чтобы оно для вас святыней было – такой святыней, чтобы за нее стоило жить и умереть.
Но суровый тон ее речей не отталкивал Прамниека. Наоборот, эти случайные короткие встречи с Анной выводили его из состояния безразличия, заставляли думать.
4
Старый Лиепинь сердился на весь свет. Насупившись, обходил он свои поля, будто отыскивая виновника скверного настроения, на которого можно обрушить громы и молнии. Но виновника незачем было искать: он лежал у него в кармане и шуршал при каждом прикосновении пальцев Лиепиня – маленький листочек, извещение волостного правления, что к 15 июля надо сдать одну свинью, сотню яиц и двадцать килограммов масла… И главное, не последнее извещение, как и не первое, – Лиепинь знал это так же твердо, как то, что дважды два – четыре.
И что за носы у этих «фюреров по хозяйству»: про каждую курочку пронюхают, про каждого поросеночка. В граммах тебе высчитают, сколько продовольствия имеется на каждый день в каждом крестьянском дворе. Только подавай, мужичок, нам пригодится… Не успеешь корову подоить, не успеет курица снестись, а у них уже каждая капля молока, каждое яйцо записаны, и все забирают тепленьким, пока крестьянин сам не успел съесть. А чтобы не походило на грабеж среди бела дня, выдадут тебе несколько остмарок, и сколько ни гляди на эти бумажки, проку все равно не видать. За сданного борова или за голову рогатого скота присудят столько-то пунктов премии: можно коробку спичек купить или пару пуговиц к штанам. Все забирают, ровно насосом выкачивают. А крестьянину чуть-чуть оставят, чтобы только не подох, чтобы и дальше работал «на благо Великогермании и ее непобедимой армии».
– И куда к черту девают они наше добро? – удивлялся Лиепинь. – Берут и берут, угоняют и угоняют – и морем и железной дорогой, и все им мало. Наверно, глотают, как та собака, что сроду доброго куска не видала. Пора бы уж нажраться.
– Да ты не кричи, отец, – одергивала его мамаша Лиепинь. – День тихий, как бы Лиепниеки не услыхали. Макс, он живо донесет властям, – вот тебе за твой длинный язык и назначат двойную порцию.
– Куда еще больше-то? – огрызнулся муж. – И так все подчистую забирают. А воровать для них я не пойду.
– Дорого, ужас до чего дорого обходится нам эта новая Европа, – поддакнула и сама Лиепиниене. – Да разве нам одним – иные люди, которые дождаться не могли немцев, теперь что-то вздыхают – тяжело, говорят. А кто нам мешал при большевиках?
– Никто не мешал, если только сам честно жил. Теперь ни чести, ни жизни нет.
С весны в усадьбе Лиепини работали двое пленных украинцев. Благодаря им вся земля была засеяна, и урожай ожидался хороший, но радости от этого было мало, потому что хорошего урожая ждал и гебитскомиссар со своими крейсландвиртами. Они дождутся, они свою часть получат, а что с тобой будет, старый Лиепинь, об этом поди у гадалки спроси.
Когда в усадьбу заворачивал кто-нибудь из немцев или из волостных властей, старый Лиепинь сердито покрикивал на пленных и гонял их, как староста на барском дворе. Когда же посторонних не оставалось, он подходил к ним и угощал табачком. Они были ребята смышленые – знали, что хозяину иначе нельзя, не то отнимут работников и отдадут другому.
Да, теперь было ясно, что большевикам в Латвию уже не вернуться, – немецкая армия снова двигалась вперед и вперед по южным степям. Обер-лейтенант Копиц из жандармской роты, который время от времени заглядывал в усадьбу Лиепини, совершенно точно знал, что к осени немецкая армия переправится через Волгу и будет на Урале. Как же воевать большевикам, если вся промышленность и главные хлебные районы окажутся у немцев? Придется сложить оружие и просить мира, а Гитлер сделает так, как ему захочется. Может, ему хватит Урала и Кавказа, а может, он пошлет свои войска еще дальше, в Сибирь, где, говорят, и лесов много и в горах всякого добра полно. На то и победитель, чтобы выбирать, его воля – закон.
Маленькая Расма уже начала ходить и училась говорить. Девочка была очень живая и подвижная, и Элла возилась с ней целыми днями. Когда к Лиепиням заезжал обер-лейтенант Копиц, бабушка уносила внучку, а Элла пудрилась и шла занимать гостя. В конце концов ей и самой интересно: жандармский офицер еще молодой и видный мужчина. С какой стати губить свою молодость, сидя за печкой? Погоревала год – и хватит. Петер погиб, а его друзья никогда не вернутся в Латвию. Если человек не собирается умирать, он всегда думает о том, как лучше устроить свою жизнь; и если положение таково, что немецкая власть навсегда останется в Латвии, тогда самое благоразумное – искать друзей среди людей первого сорта и не водиться с каким-то там Максом Лиепниеком, которому немецкие господа время от времени выбрасывают за верную службу обглоданную кость. Элла Спаре отличалась практичностью, которую унаследовала от родителей, и обер-лейтенант Копиц стал желанным гостем в усадьбе Лиепини.
– Мама, тебе не кажется, что он напоминает Петера? – сказала как-то Элла. – Такой же высокий, даже лицом похож, только немного развязнее и решительнее.
– Эллочка, ну как можно сравнивать господина Копица с Петером! – ответила мать. – У него совсем другое обхождение, тонкость в манерах. Сразу видать, что из благородных кругов. А Петер был мужлан мужланом.
В тот день, когда старый Лиепинь получил извещение о сдаче свиньи и разных продуктов, Бруно Копиц навестил их. Лиепиниене сразу утащила куда-то Расму, а хозяин ушел на луг к пленным и так костил их, что у соседей собаки залаяли.
Надев праздничное платье, Элла вышла на веранду к гостю. В отворенную дверь видны были река и луга. Везде убирали сено. Подросшие скворцы собирались в станки и летали над лугами. Волнами ходила под легким теплым ветерком желтеющая рожь. Каждый раз, когда Копиц начинал говорить, Элла скромно опускала глаза, затем, взглянув на него, на всякий случай застенчиво улыбалась. Плоховато знала она немецкий язык.
– Вы никогда не были в Германии? – спросил Копиц.
– Я нигде не была. – Элла снова опустила глаза. – Только дома и в Риге.
– Рига – красивый город, немецкий город. Но если бы вы видали Пруссию, тогда бы узнали, какой в недалеком будущем станет Латвия. Лет через десять здесь все будет, как в Германии.
– Интересно бы посмотреть, но мне, конечно, не удастся, – вздохнула Элла. – Кто меня туда пустит?
– Почему же? – улыбнулся Копиц. Он встал и, звеня шпорами, стал прохаживаться по веранде. В иных условиях, возможно, следовало бы искать более сложных путей достижения цели, но ведь он имеет дело не с дамой, а всего лишь с обыкновенной крестьянской девкой – с туземкой завоеванной страны. Любой самый неотесанный завоеватель несравненно выше самой образованной туземки; здесь перестают действовать старые нормы поведения, а создаются новые – более примитивные и удобные для завоевателей. – Почему же? – повторил Копиц. – Вы можете поехать со мной. Осенью мы кончим воевать, я получу отпуск за три года и смогу целых три месяца отдыхать там, где мне нравится. Но господь бог повелевает всем своим творениям жить парами, и в этом вопросе я с ним вполне согласен. Таким образом, вы сделаете приятное и богу и мне, если… ну вы ведь понимаете, о чем я думаю?
– Но это же будет очень странно, если я с вами поеду. – Элла чуть не до слез покраснела. – Люди неизвестно что подумают.
– Разве жена не имеет право сопровождать мужа?
– Но я ведь вам не жена, – еле слышно сказала Элла.
– Это еще не значит, что вы не можете стать ею.
– Это не от одной меня зависит.
– От кого же еще?
– Прежде всего от вас… Вы, наверно, все только шутите.
– Фрейлейн Элла! – Копии посмотрел на нее проникновенным взглядом. – Если бы вы знали, что происходит в моем сердце… Как терзает меня это вынужденное одиночество… У меня много друзей и знакомых, но нет ни одного близкого человека. Не думайте, что я прихожу к вам развлечься. Одним словом – я люблю вас, от вас зависит мое счастье.
– Нет, этого не может быть… Кто я такая?
– Вы та женщина, к которой я стремлюсь. Видите, я все вам сказал, теперь ваша очередь быть откровенной.
– Как вы это представляете? – спросила Элла. – Сейчас?
Копиц даже чихнул от удовольствия. Придвинул стул поближе к Элле, взял ее руку и стал гладить.
– Пока война не кончилась, формально пусть все останется по-старому. Пусть нас считают обрученными. Несколько месяцев, самое большее полгода, это будет нашей тайной. Как только кончится война, я подам начальству рапорт, получу разрешение на женитьбу, возьму отпуск, и тогда мы поедем в свадебное путешествие.
– Но пока нам нельзя жить вместе.
– Формально нет, но зачем нам формальности? Мы можем любить друг друга и без записей в паспорте.
– Гражданский брак?
– Временно, до победы. Между прочим, многие так живут, и это не мешает их счастью. Мы тоже будем счастливы. Я буду приходить к тебе через день. Родителям ты можешь сказать, это ничего, но только пусть они не разбалтывают другим.
– А если тебя переведут в другое место?
– Мы все выполняем волю фюрера. Но в нашем распоряжении будет почта.
Элла еще немного поломалась для приличия, сказав, что ей надо подумать несколько дней. Но Бруно Копиц был так нежен и настойчив, что крепость, которая и без того давно собиралась капитулировать, не выдержала и одного вечера осады.
Союз был заключен. Элла Спаре солидно устраивала свою жизнь. Вечером она проводила Копица до большака. Над лугами стоял густой аромат скошенного сена. От реки поднимался туман.
– Присядем, подышим немного свежим воздухом, – сказал Копиц и повел ее к ближней копне.
Был июль 1942 года.
5
Сквозь густой туман по скошенному лугу шагал человек. Высокая фигура чуть горбилась, босые ноги бесшумно скользили по отмякшей от росы траве. Прохожий опирался на суковатую палку, видимо только что выломанную, – кора была еще светлая, свежая. Он глубоко погрузился в свои мысли, и, когда за ближайшей копной внезапно раздались приглушенные голоса и за несколько шагов от него как из-под земли возникли два человека – мужчина в мундире немецкого жандармского офицера и женщина в светлом платье, – он вздрогнул от неожиданности и остановился, глядя на парочку: прильнув друг к другу, они тихо разговаривали по-немецки.
– Когда ты придешь, Бруно? – спросила женщина. – Если не хочешь заходить к нам, я встречу тебя в конце аллеи. Можно посидеть у реки.
– Да, так лучше, Элла, – ответил мужчина. – Послезавтра, в одиннадцать часов вечера, жди меня здесь. Если я не приду в течение часа, значит не смогу. Как мне сладко с тобой, милая девочка…
Поцелуй, тихий смех, и парочка медленно направилась к дороге. Тогда зашевелилась фигура по ту сторону копны и зашагала в сторону прибрежных кустов, за которыми начиналась земля хибарочника Индрика Закиса.
«Ай, Петер, как не везет тебе, старина, – думал Закис, возвращаясь в родные края после одиннадцати месяцев тюрьмы. – Жена валандается с немцем – тьфу! А ты… что-то ты сейчас делаешь, друг? И что ты увидишь здесь, когда вернешься?»
Он неодобрительно покачал головой. Справа за кустами тускло блеснула темная поверхность воды, плеснула рыбка, фыркала невидимая в тумане лошадь. Закис остановился на протоптанной к берегу тропке и напряженно стал всматриваться в сгущающуюся темноту. На краю поля стояла хибарка. В окнах было темно. Ни один звук не доносился оттуда. Опершись на палку, Закис долго стоял и глядел на свой дом.
Детишки спят… Мать измучилась за день на работе, тоже, наверно, заснула. Бедняжки мои милые… не знаете, что я здесь, иначе Янцис давно бы выбежал навстречу. А Валдынь, тот принялся бы хлопать в ладошки и кричать: «Папа идет! Папа идет!»
Странно как-то стало на душе: не то заплакать хотелось, не то улыбнуться. Он глубоко-глубоко вдохнул свежий ночной воздух и, успокоившись, тихо зашагал к хибарке. Но как ни глубок сон наработавшегося за день человека, легкие, скользящие шаги по двору тут же были услышаны. Закису не пришлось стучать в окно: гораздо раньше загремел дверной засов, дверь приоткрылась, и он увидел встревоженное лицо жены.
Без слов, с порывистым вздохом бросилась она навстречу мужу, крепко прильнула к его груди и, тихо всхлипывая, гладила его впалые щеки, его плечи, большую, покрытую заживающими шрамами руку.
– Успокойся, ну успокойся, – шептал Закис. – Теперь опять все будет хорошо. Больше я не уйду.
– Да, хорошо… – вздыхала жена. – Мы ждали тебя каждое утро, каждый вечер… Лиепниек сказал, что такие, как ты, больше не вернутся, но я ему не верила. Я знала, что ты вернешься.
Они сели на лавочку возле хибарки. Закис не рассказывал о том, как его били и пытали в тюрьме, как зимой полуголого морозили в карцере на сквозняке. Зачем ей это знать? Он пробовал шутить по-прежнему.
– Конечно, не скажу, что было, как на свадьбе. Эти немцы – страх до чего любопытный народ. О чем только они не спрашивали! Не партийный ли я, не агент ли чека? Кто из моих детей коммунисты и кто состоит в комсомоле и в пионерах? С какими заданиями оставили меня в тылу? Кого из коммунистов и советских активистов знаю в нашей волости? – Что я им отвечал? Сказал, что моя старая глупая голова политикой никогда не занималась, просил объяснить, что это за слово такое «активист», в мое время, говорю, когда я в школу ходил, таким словам не обучали. Ну, должно быть, поверили, что я дурак дураком, и, когда я им надоел, сказали, чтобы убирался к черту и знал свою работу. Если услышат, что в чем-нибудь властям перечить стал, тогда мне конец. Вот так-то я и вернулся к вам. Что ты на это скажешь, старушка?
Закиене не была настолько простодушной, чтобы поверить, будто это все, но раз муж не желал больше ничего рассказывать, наверно так и нужно. Но и она в свою очередь не сразу рассказала, как им жилось без него, – как Лиепниеки измывались над ними, обзывали то красными собаками, то жидовскими прислужниками и как у них часто не было ни капли молока, ни корочки хлеба; однако она не могла промолчать о том, что весь урожай с нового надела снял Лиепниек и он же забрал лес, приготовленный на постройку нового дома. Корову увели немцы – в счет налога, а телка только в конце месяца должна отелиться, да и то волостной староста прислал извещение, сколько надо сдавать от нее молока и масла. Самим ничего не останется.
– Ты скажи, как ребятишки, – спросил Закис, когда жена кончила свой рассказ. – Все ли здоровы? Янцис, наверно, совсем большой?..
Закиене вздохнула и долго ничего не отвечала.
– Говори уж всё… Надо же мне знать…
– Да это так… Не подумай только, что я о них не забочусь. Днями и ночами, как на барщине, работала… Когда невмоготу становилось, шла к Лиепиням и просила помочь. Кое-чем помогли, да ведь не потребуешь с людей, чтобы они о чужих детях как о родных заботились. Сейчас Янцис болен, лежит в жару и бредит… Врач не хочет пешком идти, а лошади нет. Мирдза такая бледная стала, вся в чирьях – чуть одни сойдут, новые выскакивают. Не знаю, что и за хворь у девчонки. Может, с голоду. Майя… – у нее перехватило горло, – Майя умерла весной, двадцать второго апреля. Вся высохла, как шепочка, кашляла, кашляла, так и истаяла от жара. Даже порошков не могла я достать в аптеке. Лиепинь дал лошадь отвезти на кладбище, а пастор не разрешил хоронить… некрещеная, мол. Пришлось зарыть за оградой, на опушке леса, где безбожников хоронят. Могилку обложили дерном и цветочки посадили. Может, потом когда лучше уберем.
Закис молча глядел через поле на пригорок, на строения усадьбы Лиепниеки.
– Да, жизнь такая, – сказал он после долгого молчания. – Но это еще не конец. Мы еще поживем, старушка. Погоди, вот придут Аугуст и Аустра… – Он протянул сжатую в кулак руку в сторону дома на пригорке. – Тогда ты, Лиепниек, увидишь, – есть еще правда на свете…
– Заходи, – сказала Закиене. – Поди, голодный.
Они зашли в хибарку. Закис зажег лучину и, освещая по очереди каждый угол, осмотрел спящих детей. Дольше всего он простоял у постели больного Янциса; очень ему хотелось погладить пылающий лобик сынишки или взять за горячую ручонку, но он не стал тревожить его сон…
Закиене достала из сундука пару чистого белья и налила в таз теплой воды. Когда муж снял рубаху, она увидела на спине и плечах его кровоподтеки, рубцы и струпья еще не заживших ран. Тогда Закиене поняла все. Еле сдерживая всхлипыванья, она прижалась к мужу и стала гладить его изуродованную спину.
– Так-то они с тобой в тюрьме!.. Звери… изверги!.. Да как они смеют так мучить…
– Там разрешения не спрашивают, – сказал Закис, деланно улыбаясь; он стеснялся своего вида. – Ну, ты успокойся, мать, ведь все равно ничего не добились. Разговорчивее я не стал, как они ни хлопотали вокруг меня.
Жена достала мягкую тряпочку, намочила в воде и стала бережно обтирать ему плечи и спину.
Все утро дети не отходили от отца. Не успела еще утихнуть поднятая ими возня, как на пороге появился Макс Лиепниек. Он был десятником и проверял каждое утро и вечер сомнительные дома: все ли на месте, не прячут ли кого из посторонних. Без стука, не здороваясь, вошел он в комнату и обвел взглядом все углы.
– Смотрите, оказывается сам Закис дома! Вот это хорошо, в самое время вернулся. А мне как раз рабочие нужны позарез. Через полчаса чтобы со старухой в поле были. Второй раз приглашать не буду. Ну что, понравились тюремные харчи? Лучше домашних?
Закис глядел в землю и молчал. Дети с любопытством глядели то на Макса Лиепниека, то на отца, ожидая, что он что-нибудь скажет. Но отец молчал.
6
Летом 1942 года Индулис Атауга приехал на несколько дней в Ригу по каким-то одному ему известным делам. Он страшно хвастался новеньким «Железным крестом», который заработал в операциях против белорусских партизан. Кроме того, Индулис получил звание унтерштурмфюрера СС, и теперь квартира его была полна разного добра. Фании он много не рассказывал о своих похождениях в отряде Арая, так как сестра не обладала широтой мысли: эта ограниченная женщина считала, что убивать мирных жителей и сжигать белорусские деревни не геройство, а подлость. И каждый раз, когда у Индулиса вырывалось неосторожное выражение, Фания вздрагивала и отворачивалась. Двухлетнюю дочку Дзидру она и близко не подпускала к брату, как будто он был болен опасной заразной болезнью…
Рассказать ему было о чем. Недаром Волдемару Араю немцы присвоили звание штурмбанфюрера СС, а каждый член его «охотничьей команды» стоил своего начальника. Немецкое командование высоко ценило этих специалистов по «мокрым делам» и доверяло им ответственные задания.
Ничего не сказав Фании, Индулис увел к себе Джека и показал награбленное в набегах добро. Там были и одежда, и обувь, и меха, и даже золотые зубы и церковные подсвечники.
– Как ты думаешь, Джек, сколько можно выручить за это? – спросил Индулис, когда зять внимательно все осмотрел.
– Сразу сказать трудно. Но тысяч на десять здесь будет.
– У меня есть предложение. Не возьмешься ли ты ликвидировать их без лишнего шума? Мне эти вещи не нужны, а деньги я знаю, как пристроить.
– Не знаю, право, я растерял все старые связи.
– Можно завести новые. Четвертая часть тебе – за посредничество.
– Как-то рискованно, – колебался Бунте. – Начнут спрашивать, откуда да как…
– Сошлись на меня и на Арая, тогда любому рот заткнешь.
– Разве попробовать?
– Ну да, попробуй. Если бы получить за самые лучшие вещи валютой – в фунтах или долларах… Эх, Джек, был бы ты человек, а не тряпка, не торчал бы ты в Риге. Управляющий домом – какое это дело! Наш дом немцы все равно не вернут, напрасно ты его бережешь.
Индулис был прав: мелко плавал карапуз Бунте и насилу сводил концы с концами. Раза два он пробовал заикнуться, что следовало бы взяться за что-нибудь более прибыльное, но тут заговорила Фания. В коммерческих вопросах она отставала от мужа, но в остальном была куда дальновиднее, и он это признавал.
– Ты пойми, Джек, что такие порядки, как сейчас, долго продолжаться не могут, – говорила она. – Ни одна власть не удержится убийствами да грабежами. Не марай, Джек, рук, не связывайся ты с ними.
Джек слушался ее. От Фании у него никогда не было секретов. Он рассказал ей о предложении Индулиса и о двадцати пяти процентах, обещанных за посредничество.
– Может, взяться?
– Лучше и не думай, – решительно сказала Фания. – Это же награбленное добро. Каждая вещь кровью забрызгана. Пусть Индулис сам бегает к спекулянтам со своим товаром. Тебе этих проклятых денег не надо.
– Я ему почти обещал…
– Откажись сегодня же. Если у тебя не хватит духу, я сама с ним поговорю.
Таким образом, заманчивая сделка лопнула. Индулис высмеял зятя, назвал его тряпкой, трусом и пригласил одного из прежних воротил черной биржи. За несколько дней все было распродано, и унтерштурмфюрер стал искать собутыльников, чтобы как следует покутить перед отъездом из Риги. Но прежние компаньоны, как назло, разбрелись кто куда: одни были в команде Арая и преследовали партизан, кое-кто уехал на Волховский фронт, а тихони засели в разных тыловых учреждениях и нигде не показывались. Сейчас немецкая армия вновь наступала, но события под Москвой успели кое-кого смутить, и эти уже не могли радоваться так громогласно, как год назад. Чем черт не шутит – как бы опять беды не вышло… Ведь обещания доктора Геббельса не исполнились – сроки победы сорваны. Лучше поосмотрительнее быть.
Из старых друзей Индулису удалось разыскать только Кристапа Понте, которого Штиглиц больше не отпускал из Риги. Ланка с женой тоже были в городе, но они теперь водились только с высокопоставленными лицами, вроде начальника политической полиции доктора Ланге или Витрока; что им какой-то унтерштурмфюрер из туземцев.
…Настроение у Понте было неважное. Все из-за Сильвии. Особой верностью она никогда не отличалась, а с прошлой осени вообще интересовалась больше немецкими офицерами, чем своим долголетним поклонником. И в конце концов нарвалась на неприятность.








