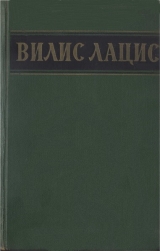
Текст книги "Собрание сочинений. Т.4."
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
Один раз удалось вывернуться, другой раз опоздать на прием, но изворачиваться без конца было не под силу даже Саусуму, со всей его опытностью по этой части. Все чаще прижимали его к стене и заставляли высказывать свое отношение к гитлеровскому режиму. До сих пор еще ни в одной статье Саусума не упоминалось имя Адольфа Гитлера, но долго ли это будет продолжаться? Пока какой-нибудь соглядатай не пороется в его статьях и не обратит внимание шефа прессы… Затем – или пой славословия тирольскому ефрейтору, или тебе дорога в управление труда, а оттуда на каторгу в Германию… Взгляд Саусума, словно в поисках поддержки, скользил по рядам столиков. Какие самодовольные и в то же время испуганно-подобострастные лица! Самодовольные – если поблизости есть какое-нибудь мелкое, еще более серое, униженное существо. Испуганно-подобострастные – если в зале появится кто-нибудь имеющий связи с оккупационными властями или кто носит коричневый мундир члена нацистской партии. Вот Букулт и с ним маленькая актриска, о которой когда-то болтали, что она любовница Никура… В театре оба сейчас большим весом пользуются. Еще бы, в 1941 году выдали политической полиции столько прогрессивных артистов и художников. Сейчас она живет с этим шутом гороховым, которого даже немцы не принимают всерьез, – кутит с ним, доносит на товарищей и с благодарностью поклевывает крошки с его стола.
Вон Айна Перле. Когда-то ей удавались стишки про любовь и природу. Иногда Саусум даже печатал их в своей газете. Теперь она пишет стихи о Восточном фронте, о котором знает столько же, сколько о жизни на Марсе. Вон Мелнудрис, любимец Никура и постоянный лауреат Культурного фонда. Вон Алкснис – теперь он пишет о легионерах, еженедельно публикует статьи об «арийской семье», «о единой судьбе латышей и немцев».
«Клубок червей! – и они еще объявляют себя представителями латышской интеллигенции, выразителями ее дум. Они осмеливаются говорить от моего имени, от имени тысяч интеллигентов, которые ходят с застывшими лицами, пряча в себе ненависть и презрение к поработителям! Они продают честь народа за тридцать сребреников. Зато мы показываем кулак в кармане. А если кто не в состоянии скрыть свои чувства, того убивают или прячут за двойную ограду из колючей проволоки. У кого не хватает сил и веры в победу справедливости, тот находит веревку или пузырек с ядом. В результате – нуль».
Снова вспомнил он про Ольгу Прамниек и чуть не застонал.
В этот момент к его столику подошел Алкснис.
– Предаетесь меланхолии, господин Саусум? Смотрите, меланхолия опасная болезнь. Надо активнее участвовать в событиях эпохи, тогда не будет скучно.
Он продолжал стоять возле Саусума, тщетно дожидаясь приглашения сесть. Впрочем, Саусум всегда был рассеянным, не стоило обращать внимания на его мрачную физиономию.
– Говорят, Никур опять в Риге, – продолжал Алкснис. – Это знаменательный факт, как вы думаете, господин Саусум?
Саусум пожал плечами:
– О чем тут думать?.. Не знаю, что ему здесь надо.
– Я тоже не знаю, но что-то должно почувствоваться, – сказал Алкснис. – Никур не из тех, кто впадает в меланхолию.
Не то намек, не то насмешка…
Саусум поглядел вслед Алкснису и покачал головой. «Подальше от таких. Но где же люди, настоящие люди? Где они – смельчаки и упорствующие? Как их найти? Да и примут ли они меня? – думал Саусум. – Сам-то я кто?»
Выйдя из кафе, он долго бродил по улицам, не зная, куда девать себя. Нигде его не ждали. Он был одинок, мал и беспомощен. Как щепка, которую бросает с волны на волну.
3
В середине лета произошло чудо: Эдгара Прамниека выпустили из Саласпилского концентрационного лагеря. Кое-кто выходил и раньше – те, за кого поручались солидные, известные оккупационным властям лица или те, кого даже в гестапо не считали опасными. Нашлось несколько неустойчивых человечишек, которые когда-то выступали за советскую власть, но теперь не выдержали испытания и, спасая шкуру, превратились в немецких агентов. Прамниека тоже хотели завербовать, но он разыграл дурачка, не понимающего, чего от него хотят, и до тех пор бубнил о своих картинах и рисунках, пока представителю Ланге не надоело его слушать. В конце концов с него взяли подписку, что он не станет заниматься политикой, с большевиками и евреями никаких связей иметь не будет, а если что узнает про них, тотчас сообщит гестапо. Стыдно было Прамниеку, но уж очень заманчива была свобода – хоть и весьма проблематичная, – чтобы от нее отказаться.
«Все равно ничего сообщать им не буду, – думал он. – Главное – свобода, перспектива творческого труда. Друзья меня поймут».
Страшно похудевший, оборванный, шел он по улицам Риги, на все оглядывался с непривычки. Он направился прямо в Задвинье, к Ольге. Последнее письмо от нее Прамниек получил месяца за два до освобождения. Она, как всегда, писала, что здорова, что живется ей сравнительно неплохо, пусть Эдгар за нее не беспокоится, и высказала твердую уверенность, что его скоро освободят, потому что в лагерь он попал по недоразумению. «Если бы ты знал, как я тебя жду, Эдгар! – писала она. – Твой мольберт, палитра и краски тоже ждут не дождутся. Я знаю, что твой талант не погибнет ни в каких условиях и ты еще порадуешь народ прекрасными, правдивыми картинами…»
«Олюк, мой верный, любящий друг, – растроганно думал он, приближаясь к дому. – Настанет хоть один светлый день в нашей жизни. Как-нибудь переживем с тобой это мрачное время. Я буду работать за нас обоих, а ты поможешь мне дождаться восхода солнца».
Столько всего испытал он за последние два года, что, кажется, ничто не могло его поразить, но удар, который он принял через полчаса, мгновенно сломил его. Рассказала обо всем жена дворника, в простоте своей не догадываясь, какую муку причиняет этому незнакомому мужчине.
Прамниек сел на лестнице и заплакал. Все его тело содрогалось от всхлипываний. Радость свободы, надежды на будущее, желание работать и вера в конечное торжество правды – все рухнуло в одну минуту. Никогда, – даже в саласпилской яме, он не чувствовав себя таким одиноким, никогда жизнь не казалась ему такой страшной. «Зачем я живу, стоит ли дальше жить? – мелькала в усталом мозгу одна и та же мысль. – Для чего меня выпустили, знали ведь, что я здесь найду. Олюк, почему не дотерпела, не дождалась меня?»
Выплакавшись, он спросил у дворничихи:
– Можете вы сказать, где ее похоронили?
– Не знаю, милый человек, – женщина соболезнующе покачала головой. – Приехали на грузовике и увезли. Может, в морг, может, на кладбище, кто их знает.
Ольгины вещи тоже были увезены, а в квартирку уже въехал новый жилец. Отдохнув несколько минут, Прамниек вышел на улицу. Он шел, не зная куда, он даже не подумал о том, что до вечера надо найти приют, иначе заберут. Голодный, но забыв о голоде, медленно, как калека, тащился он по тротуару. Прошел все Задвинье и вышел к Понтонному мосту. В лицо подуло свежим ветром. Прамниек некоторое время тупо смотрел на волны реки, пока не очнулся от толчка.
– Чего так долго глядишь? – весело крикнул какой-то шутник, принявший Прамниека за бродягу. – Жить, что ли, надоело? Тогда прыгай в Даугаву, на это разрешения не требуется.
«Нет, пока еще нет, – подумал Прамниек. – Это никогда не поздно».
Он перешел мост, долго пробирался меж развалин Старого города и пошел к центру. Дойдя до знакомого пятиэтажного дома, Прамниек остановился, с сомнением поглядел на окна четвертого этажа, потом вошел в подъезд и поднялся наверх.
Его впустил сам Саусум. Он ничуть не удивился внезапному появлению Прамниека. Как больного, осторожно поддерживая под руку, повел в кабинет и усадил в кресло. Ничего не говоря, достал трубку, вынул из ящика стола завернутую в бумагу щепотку табаку и положил на стол. Потом вышел в коридор и что-то сказал матери. Вернувшись, Саусум сел за стол, напротив.
– Ты уже был дома?
Прамниек кивнул головой.
– Знаешь?
Прамниек еще раз кивнул головой и отвернулся. Взгляд Саусума казался ему назойливым, бесцеремонным. «Что разглядываешь, – думал он, – не видишь разве, как больно?»
– Где они похоронили Ольгу?
– Отдали в анатомичку, – ответил Саусум. – Когда я узнал, было уже поздно помешать этому. Да и вряд ли разрешили бы похоронить на кладбище.
Прамниек набил трубку и закурил, но после первой же затяжки раскашлялся; попробовал еще раз, и опять ничего не получилось.
– Отвык я от таких вещей, Саусум. Забыл уже все свои прежние привычки. Наверно, в лесу и то чувствовал бы себя свободнее… Не пойму, что сталось с людьми, – все мне кажутся странными, чужими.
– Даже и я?
– Даже и ты. Накануне выхода из Саласпилского лагеря мне удалось поговорить с одной женщиной. Ее зовут Анна Селис. Она пожелала мне на прощанье, чтобы я не потерял ясности взгляда, не запутался. В тот момент я не понял, что она хотела этим сказать. Теперь, кажется, начинаю понимать.
– Что ты начинаешь понимать?
– Пока я сидел в лагере, мне казалось ясным, что я буду делать на свободе. Теперь я больше ничего не хочу… мне не за что браться. Чувствую только, что мне больно, и единственное мое желание – освободиться от этой боли. Кажется, больше ничего не могу. Во мне не осталось радости жизни, Саусум. Раньше это показалось бы мне ужасным, а теперь это естественно.
– Понимаю твое состояние. Тебе надо немного прийти в себя, привыкнуть к этой пустоте.
– Но ведь Ольги-то нет и никогда не будет.
– Это правда. Но ты живешь, я живу… живет народ.
– Оставь. Народу до меня нет никакого дела.
– Нам с тобой есть дело до того, что происходит с народом. Мы не можем отвернуться, закрыть глаза, уткнуться лицом в подушку. Мы не имеем права жить только для себя и своего горя. Приходится на старости лет сознаваться, что были до сих пор дураками.
– Что же еще остается нам в такое время?
– Драться, Прамниек…
– Увеличивать число жертв? Будто мало их было?
– Если даже мы не будем сопротивляться, все равно станем жертвами.
– Мое оружие – моя кисть, краски, карандаш. Но разве я могу сейчас показывать действительность? На другой же день меня убьют. Потом, может быть… По крайней мере так я думал в лагере. – Он криво усмехнулся.
– Если мы не будем бороться, нас перебьют, передушат в тюрьмах, рассеют по германским трудовым лагерям, и мы останемся рабами до конца жизни. Знаешь ты, сколько десятков тысяч Заукель угнал на каторгу? Каждый день угоняют нашу молодежь, отнимают у народа молодое поколение.
Они выпили чаю без сахара, съели скудный обед и проговорили до позднего вечера. Саусуму хотелось скорее встряхнуть Прамниека, вывести его из душевного оцепенения. Но когда тот спросил, есть ли у него товарищи и в чьих рядах он будет бороться, – Саусум растерялся.
– Нам еще надо найти пути к подполью, – сказал он. – Только делать это надо очень осторожно. Однажды я чуть не попал в самое осиное гнездо. Видишь, Прамниек, у них здесь есть националистическая подпольная организация… выпускает воззвания, группирует вокруг себя недовольных. Я чуть не связался с нею, но вовремя узнал, что главарем там Альфред Никур, и давай бог ноги… Где Никур – там провокация, это ясно, как дважды два – четыре. С ними нам не по пути.
– Так с кем же?
– С теми, кто слушает Москву, и нам надо найти их.
Саусум дал Прамниеку кое-что из своего платья и оставил жить у себя, хотя в редакции могли весьма косо посмотреть на это. Через некоторое время Прамниек устроился помощником декоратора в одном театрике.
Глава пятая1
В середине мая Ояр Сникер поручил Яну Аустриню направиться в родные места и установить связь с одной небольшой партизанской группой, которая недавно начала свои операции в Малиенских лесах. С помощью Курмита из Саутыней Аустриню удалось встретиться с командиром этой группы, лейтенантом Мироновым, бежавшим из немецкого плена. У Миронова было двенадцать человек и две винтовки; значительных действий такой отряд предпринять не мог. Выяснив, в чем нуждается группа, Аустринь условился встретиться с Мироновым через неделю, на полпути между полковой базой и лагерем группы.
– Оружие и боеприпасы мы дадим, но действовать вам придется в этом же районе, – сказал Аустринь на прощанье. – Командование полка очень заинтересовано в том, чтобы партизаны держали в своих руках как можно больше районов. Это хорошо, что вы обосновались здесь, иначе нам пришлось бы прислать сюда свой отряд.
Последнее он сказал от себя, потому что Ояр ничего подобного ему не говорил. Вообще Аустринь был неплохой парень, но любил иногда прихвастнуть: приятно ведь, когда тебя слушают. Особой рассудительностью он не отличался, и Ояр часто напоминал ему, что надо сперва подумать, а потом действовать. Когда замполит полка Вимба заговорил с ним о политучебе, Аустринь прямо загрустил: ему куда легче было пойти на опасную операцию, чем сесть за книгу.
– На кой черт я буду ломать свою старую башку над профессорскими премудростями? – рассуждал он. – Агитатор из меня все равно не выйдет, а стрелять и взрывать я умею, – дай бог Вимбе угнаться за мной. Если бы я плохо дрался, тогда другое дело, тогда надо выдвигаться как-нибудь иначе. А чем они меня попрекнут?
По правде говоря, старой башке было не больше двадцати восьми лет, и лишние знания ей далеко не повредили бы, но Аустринь был слишком ленив. До войны он служил в Риге рядовым милиционером; честно, как полагается настоящему мужчине, начал воевать, не позорил ни себя, ни своих товарищей и надеялся так же честно дождаться дня победы. Один раз его уже наградили, может быть до конца войны правительство еще раз обратит на него внимание, – против этого Ян Аустринь ничего не мог возразить. Только бы с учебой не очень приставали. Пусть учатся, кто помоложе, – Имант, Эльмар Аунынь, Саша Смирнов…
В обратный путь он двинулся в самом хорошем расположении духа. Задание выполнено, теперь у них будет полное представление о группе Миронова. Ояр опять отзовется о нем, как об одном из самых способных разведчиков. Теперь самое разумное – это поскорее добраться до базы и порадовать командира ценными сведениями. Но Аустриню очень хотелось повидать одну знакомую девушку и немного погреться в лучах ее изумления. Всегда, бывало, накормит, когда он, голодный и усталый, завернет в ее дом. Однажды в скверную осеннюю ночь он даже переночевал там, и, пока отдыхал, Эмма Тетер высушила и заштопала ему носки, пришила недостающие пуговицы и всю ночь не спала, оберегая его, как родного брата.
Не завернуть ли к Тетерам и на этот раз? Придется, правда, сделать небольшой крюк – километров в двенадцать, зато потом, когда по-человечески выспишься и отдохнешь, легче будет наверстать упущенное. И чем ближе подходил Ян Аустринь к домику Тетера, что стоял на опушке леса, тем больше доводов находил он в свое оправдание.
«Ояру об этом говорить не буду, – рассуждал он, заранее радуясь встрече с доброй, ласковой девушкой. – Опять начнет ругаться и из комара сделает слона. А на Эмме, пожалуй, стоит жениться, – не сейчас, понятно, а когда кончится война. Она ведь не кулацкая дочка, почему бы ей не выйти за меня замуж?»
Когда Аустринь стал подходить к домику, залаяла собака, но тут же замолкла – наверно, кто-нибудь цыкнул на нее. Разведчик остановился у опушки и некоторое время оглядывал местность, насколько это вообще было возможно в густых сумерках. Потом он услышал легкие шаги, и его взгляд сразу различил человеческую фигуру. Эмма!
Они не виделись больше трех месяцев, и это свидание обоим доставило много радости. Конечно, Аустринь и на этот раз мог остаться на ночь у Тетеров и как следует отдохнуть несколько часов, зарывшись в солому на сеновале.
В три часа утра домишко окружил отряд немецких жандармов и местных шуцманов. Аустринь спал глубоким, здоровым сном, когда на него навалилось трое верзил. Не успел он выхватить из-под изголовья пистолет, как руки его были связаны. Аустриня сволокли по лестнице вниз и повели в дом. Эмма Тетер и ее родители, тесно сбившись, стояли в углу кухни, тоже со связанными руками.
«Вот и пришел твой конец, старина…» – подумал про себя Аустринь и с жалкой улыбкой взглянул на своих товарищей по несчастью.
2
– Вы знаете этого человека? Кто он? Как его зовут? – спрашивал через переводчика молодой обер-лейтенант, ведший допрос.
Старики Тетеры и в самом деле не знали Аустриня, и допытываться у них было бесполезно, а Эмма, положившись на сообразительность Яна, отрицала, что когда-либо видела его: думала, он сам объяснит, каким образом очутился на сеновале.
Обер-лейтенант велел увести хозяев и начал допрашивать Аустриня. Он задавал вопрос за вопросом, давая понять в то же время, что это чистая формальность.
– Нам все известно, нам надо только уточнить некоторые частности. Отпираться и лгать нет смысла. Если вы будете откровенны, я гарантирую вам пощаду. В противном случае вас повесят нынешней ночью. Из какой партизанской банды? Как зовут? С какими заданиями явились сюда? Отвечайте быстрее, пока у меня не иссякло терпение.
Аустринь никогда не рассчитывал попасться живым в руки немцев, поэтому был застигнут врасплох. Он не заготовил на этот случай ни одной легенды, ни одной сказки.
«Если не будет иного выхода, последнюю пулю себе…» – так представлял он свое поведение в момент возможной катастрофы. Борьба, геройское сопротивление до последнего момента – и честная смерть.
Борьбы не было. Он ничего не мог сделать ни с собой, ни с врагами. А они что захотят, то с ним и сделают. Одним словом – конец. А если конец, ничто уже не может ухудшить его положение.
– Да, я партизан и знаю, что меня ожидает, – твердо сказал Аустринь, когда обер-лейтенант кончил задавать вопросы. – Поэтому всякие разговоры излишни.
– Вовсе ты не знаешь, что тебя ждет, что тебя не ждет, – сказал, ухмыльнувшись, обер-лейтенант. – Ты только подогреваешь, настраиваешь себя. А тебе следовало бы подумать еще кое о чем. Скажи, ты хочешь жить или нет? Возможность спасти жизнь у тебя еще имеется. Мы могли пристрелить тебя на дороге, когда ты шел сюда, но мы этого не сделали, потому что ты нам нужен живой. Но знай: жизнь ты можешь купить только той ценой, которую назначим мы. Никаких разговоров я не допущу. Да или нет – и дело сделано. Свобода – или веревка. Этот час может быть для тебя последним, но он может стать и началом новой жизни. Если ты выберешь первое, то не думай, что мы дадим тебе умереть так быстро и легко, как тебе хочется. Нет, мальчуган! Мы тебя уничтожим постепенно. Взгляни на этих ребят. Если они возьмутся за человека, у него кости трещат, глаза на лоб вылезают. Тебя изобьют и превратят в сплошной кровоподтек, из тебя будут вытягивать кишку за кишкой, а если ты и тогда не заговоришь – тебе выколют глаза, тебе отрежут язык и в таком виде сунут в петлю. Не очень это легко, а?
У Аустриня на лбу выступил пот. С детства он не переносил боли. Только потому и не ходил к зубному врачу, когда начинал болеть гнилой зуб, только потому не дал привить противотифозную вакцину. Он не мог не признать, что смерть – факт неизбежный, но то должна быть скорая смерть, без мучительного вступления. Сжать зубы и умереть! И больше ничего. К этому он был готов. Но то, что рисовал перед ним этот обер-лейтенант, не вязалось с представлением Аустриня о смерти героя. Что это не пустая угроза, он понимал: разве мало пришлось ему видеть замученных гитлеровцами людей – страшно изуродованных, с искаженными мукой лицами? То же самое сделают и с ним, в этом можно не сомневаться.
И ему стало вдруг невыносимо жарко, все его тело обливалось потом.
– Я это знаю, – медленно произнес он.
– Но мы можем этого не делать, – не обращая на него внимания, продолжал обер-лейтенант. – Если от тебя будет польза, мы отпустим тебя через час и даже вернем тебе оружие. Выбирай в течение минуты, что хочешь: смерть в ужасных мучениях или жизнь и впридачу свободу?
«Почему они меня еще не бьют? – думал Аустринь. – Наверно, только играют, как кошка с мышью. Если заметят, что я поверил, сразу станут измываться, начнут бить. Чем они будут меня бить?»
Обер-лейтенант ждал ровно минуту.
– Что ты выбрал – первое или второе?
– Лучше второе, – промямлил Аустринь и опустил глаза. Хотя перед ним были только враги, ему стало стыдно даже их.
– Я это знал, – засмеялся обер-лейтенант. – Каждый разумный человек обязательно выбирает жизнь, если ему предоставляется такая возможность.
«Неправда, неправда! – кричало в груди Аустриня. – Люди умнее, лучше меня, – выбирают первое и умирают. Они сильнее меня. Как хорошо, что Эмма не слышит…»
– Теперь ты нам все расскажешь, – уже другим, повелительным тоном заговорил обер-лейтенант. – Малейшая ложь может тебя погубить. Говори.
Запинаясь, сам не понимая, что делает, Аустринь начал рассказывать. Раз начав, он уже не мог ни остановиться, ни отступить назад. Как сорвавшаяся с крыши черепица, падал он вниз и не волен был остановиться в этом падении. И теперь он лежал в грязи, превращенный в груду осколков.
Он рассказал все, что знал, – говорить меньше ему не позволили. О силах партизан, о вооружении, о дислокации, о Курмите из Саутыней. Рассказал про Миронова, про батальоны Акментыня и Капейки, которые ушли с главной базы на другие места, – куда, он еще не знал. Только одно скрыл Аустринь: что Эмма Тетер знает его и что он раньше бывал здесь. Но это меньше всего интересовало обер-лейтенанта.
Наконец, ему предложили подписаться под протоколом допроса, где были записаны все его показания. Теперь он и по существу и формально стал предателем. – Теперь он уже и пикнуть не посмел, когда немец предложил подписать еще один документ, который превращал его в шпиона и германского агента. Как во сне подписал Аустринь свое имя, как в кошмаре продал свою душу врагу и с этого момента перестал принадлежать самому себе. Он сохранил свое тело для дальнейшего существования, но Ян Аустринь умер. Неизвестный, подлый негодяй присвоил его имя и личность, теперь он будет жить и действовать вместо Яна Аустриня.
После этого его стали инструктировать, как выполнять задания. Он немедленно вернется на базу полка и будет там жить как ни в чем не бывало. Он добудет сведения о базах Акментыня и Капейки, о том, где находится Паул Ванаг со своим батальоном. Он узнает, с кем держит Ояр Сникер связь в Риге. Обо всем слышанном и виденном надо при первой возможности сообщать особому связисту, который будет находиться недалеко от базы полка.
– А самое главное – это шифр партизанских радиопередач, – сказал обер-лейтенант. – Если ты его достанешь и доставишь нам, мы позволим тебе уйти от партизан и выбрать любое занятие.
Убедившись, что Аустринь все понял, немец велел вернуть ему отобранный раньше револьвер со всеми патронами и сказал, что теперь он может идти.
– Удивляешься, что мы тебя так легко отпускаем? – спросил он. – Ведь ты можешь признаться своим товарищам, рассказать, как все произошло, и наплевать на обещание, которое сейчас дал. Наверно, уже подумал об этом?
– Нет… господин обер-лейтенант… – пробормотал Аустринь. – Я думаю о том, что мне надо делать.
– Ну, хорошо. Но имей в виду, что ты сжег за собою все мосты. Обратного пути к большевикам для тебя нет. Хочешь не хочешь, теперь тебе до конца жизни придется быть с нами. Не веришь? Тогда выйди и посмотри.
Аустринь вместе с немцами вышел во двор.
– Посмотри туда, за угол дома, – показал рукой обер-лейтенант.
Аустринь дошел до угла дома. Под большой березой, на самом нижнем толстом суку висели три человека. Эмма Тетер была повешена между своими родителями.
– Эти люди значатся на твоем счету, – сказал обер-лейтенант. – И еще будут. Попробуй теперь оправдаться в глазах партизан. Понимаешь теперь, что обратно тебе нет пути?
Да, Аустринь это понял. Но он понял еще одно: если он может как-то смыть свой позор, то только кровью – кровью врагов и своею кровью.
Дальше все пошло не так, как предлагал обер-лейтенант и его помощники. Аустринь быстро обернулся, выхватил из кармана возвращенный ему револьвер и выстрелил в голову обер-лейтенанту. Один из шуцманов схватился за автомат, но не успел, – Аустринь застрелил и его и еще одного, который оказался перед дулом его револьвера. Следующей пулей он прострелил себе голову.
…Через день в Саутыни нагрянула карательная экспедиция – два взвода пехоты под командой унтерштурмфюрера СС. Эсэсовцы приказали окружить усадьбу, расставили посты вокруг хозяйственных построек и согнали во двор всех людей, после чего начали обыск. Ничего подозрительного не нашли, но для них это не имело значения. Видно было, что немцы очень торопятся. Покончив с обыском, они стали допрашивать Курмита.
– Ты помогаешь партизанам. Ты доставляешь им сведения и продовольствие. Расскажи все, что ты знаешь о них. Где находится Миронов со своими бандитами? С кем из большевиков ты еще встречаешься?
Курмит отрицал все обвинения и держался спокойно. Его долго били, жестоко пытали, но крестьянин вынес все. Видя, что от него ничего не добиться, эсэсовцы принялись на его глазах истязать жену, детей и старуху мать. Курмит стиснул зубы и глядел в сторону, чтобы не видеть их мучений, но он не мог не слышать их стоны. В голове помутилось от них, но даже в эти минуты его не оставляла одна мысль: старший сын, четырнадцатилетний Юрис, ушел в лес, понес продовольствие Миронову, – хоть бы он подольше задержался там, не спешил домой… хоть бы ему остаться в живых. В том, что его самого и всю его семью ждет смерть, Курмит не сомневался.
Когда ему приказали встать на табуретку, чтобы накинуть на шею петлю, он все еще смотрел в сторону леса и мысленно предупреждал своего сынишку: «Не ходи домой, Юрис, останься в лесу… Отнеси товарищам весть о несчастье… Ох, не приходи, сыночек…»
Остальных эсэсовцы пристрелили посреди двора. Затем подожгли все постройки, ограбив сначала дом и клеть.
Ближние и дальние соседи наблюдали за пожаром. Зарево было видно далеко-далеко; увидел его и Юрис Курмит, возвращавшийся с базы Миронова. Он остановился у опушки леса и со страхом наблюдал, как горит его родной дом. Ветер далеко разносил искры и хлопья пепла – через поля, к озеру. Когда от построек остались только груды развалин и закопченные остовы печей, немцы сели в грузовики и уехали, – может быть, в город – донести о кровавой расправе начальству; может быть, в другую усадьбу, которую ожидала участь Саутыней.
Прячась по канавам и межам, Юрис добрался до огорода, а оттуда дополз до двора. Он увидел повешенного на клене отца. В луже крови лежали мать, сестренка и маленький братишка, поверх, ничком, упала бабушка – ее белые волосы стали серо-черными от пепла и сажи. Лошадь и коров немцы увели, петух с курами спрятались во ржи. Только серый кот, грязный, с опаленной шерстью, мяуча бегал по двору; всюду еще что-то тлело, всюду было горячо.
Юрис пополз обратно к лесу. Там он поднялся на ноги и бегом пустился в чащу, к Миронову и его товарищам.
3
После ухода Аустриня прошла неделя, а он все не возвращался на базу. Тогда Ояр послал по его следу Сашу Смирнова и еще одного партизана, из новичков. Не дожидаясь их возвращения, усилили охрану базы и выставили посты на всех дорогах, на которых могли появиться немцы. Без батальонов Капейки и Акментыня в распоряжении Ояра осталось менее двухсот человек. Но оружие было у каждого, боеприпасов хватало, а самой большой гордостью Ояра были три ручных пулемета, которые им еще весной сбросили с самолета.
Через три дня вернулся Саша Смирнов со своим товарищем. Он привел с собой Юриса Курмита и одного партизана из группы лейтенанта Миронова. Узнав, что произошло в усадьбе Саутыни, Ояр больше не сомневался, что с Аустринем случилась беда.
– Пора менять базу, – сказал он Вимбе и Эзериню. – Если Аустринь попал к немцам в лапы, они постараются выпытать у него нужные сведения.
– Ну, навряд ли, – сомневался Эзеринь. – Аустринь парень надежный. Не верю, чтобы они многого от него добились.
– Да и я не верю, – ответил Ояр. – Но безопасности ради будем действовать так, как будто он им все рассказал. Всегда надо быть начеку, чтобы враг никогда не застиг нас врасплох, как бы хитро и быстро он ни действовал. На этом месте оставаться больше нельзя. Ночью мы перевезем на новую резервную базу все наше хозяйство. Женщины, дети и старики пусть сейчас же собираются в путь. Хорошо, если бы товарищ Вимба взял на себя руководство этой операцией.
– А ты сам? – Вимба недовольно посмотрел на Ояра.
– Я догоню вас. Спрячу имущество, которое нельзя взять с собой, и на прощанье устрою небольшой скандал в полицейском участке.
– А Аустринь не знал о резервной базе? – спросил Эзеринь.
– Знал только, что где-то существует резервная база, но место известно только четверым – Вимбе, Мазозолиню, тебе и мне, – сказал Ояр.
С наступлением сумерек тронулись в путь человек сорок, в том числе мать Анны Лидаки, бабушка Эльмара Ауныня, Юрис Курмит и все жившие на базе родственники партизан. Ояр не терял времени и спрятал в хорошо замаскированных ямах все громоздкое имущество. Руте он велел передать шифровку Паулу Ванагу и Акментыню, в которой сообщил, что вследствие изменившихся обстоятельств штаб полка переходит на другое место.
В два часа ночи, когда было назначено выступление с базы, прибежал, запыхавшись, начальник штаба Мазозолинь.
– Товарищ Сникер, только что вернулись разведчики! Неприятные вести… немцы стягивают войска вокруг леса.
– Много их? – спросил Ояр, улыбаясь одними уголками губ.
– На пути нашего отхода будет примерно около полуторы роты. Две роты приближаются по дороге с юга, а еще одна располагается вдоль леса, у нас в тылу. Ей придано несколько минометов и – если разведчики не ошибаются – несколько полевых орудий.
– Ишь, как серьезно, – продолжал улыбаться Ояр. Иначе он не мог – Рута все время смотрела на него. Прижавшись к большой сосне, возле своей рации, она стояла немного в стороне и с серьезным, напряженным лицом слушала этот разговор. – Даже орудия… что ты скажешь! Наверно, собираются воевать. Придется доставить им это удовольствие.
Он развернул карту и посмотрел на нее при свете фонарика.
– Итак, фрицы замечены только с трех сторон. На западе полторы роты, две роты с юга, а на севере целое войско с артиллерией и минометами. А на востоке ничего не заметили?
– Разведчики с той стороны еще не вернулись, товарищ Сникер. Может… проверить?
– Пошли еще одну группу. Пусть Рейнфельд примет командование.
– Есть, товарищ командир.
Мазозолинь скрылся в темноте, но через несколько минут вернулся снова.
– Не стоит посылать. Только что пришли разведчики. Вдоль восточной окраины леса развернулась цепь эсэсовцев, человек в двести.
– Тогда ясно, каков их замысел, – с видимым удовлетворением сказал Ояр. – Насколько можно судить по расположению сил, первоначальный удар они хотят нанести с севера. Эти обезьяны воображают, что им удастся напугать нас минами и снарядами. Надеются, что мы после первого удара ринемся сломя голову в противоположную сторону – прямо на их главные силы, где эти две роты пехоты. Тогда они нас слопают без соли. А мы сделаем не так. Одна группа, человек двадцать, с одним ручным пулеметом подкрадется как можно ближе к западному краю леса и нащупает щель на стыке флангов западной и южной групп противника. Не может быть, чтобы фрицы полностью замкнули кольцо окружения, где-то должны быть проходы. Тебе, Мазозолинь, надо будет взять на себя командование этой группой. Остальные – то есть мы все – направляемся сейчас к северному краю леса. Там есть одна незаметная тропка. Мы перейдем по ней через болото мимо правого фланга северной группы немцев, проскользнем к ним в тыл и будем ждать там начала этой музыки. Через час ты со своими ребятами откроешь огонь: наддай им жару по обоим флангам – по правому западной группы и левому южной, а сами после этого поскорее уходите оттуда, прямо на запад. Кто из нас раньше подойдет к старой водяной мельнице, тот будет ждать остальных. Ясно?








