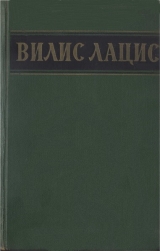
Текст книги "Собрание сочинений. Т.4."
Автор книги: Вилис Лацис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
Жубур пожал ему руку. В дверях Звирбул посторонился, пропуская в землянку Силениека и Соколова, козырнул им и вышел.
Командир полка посмотрел на столик, где лежали вещи Пургайлиса.
– Вещи убитого, да?
– Так точно. Старшего лейтенанта Пургайлиса…
– Вот уж кого жаль, – сказал Соколов. – Храбрый был командир, и с головой. Послать бы его поучиться в «Выстрел», он бы потом командовать батальоном стал. Подумай, товарищ Силениек, как у нас в дивизии люди за войну растут. Вначале он тебе кажется таким незаметным, не на что как будто обратить внимание… А в один прекрасный день вдруг обнаруживается, что он вырос из мундира, что он ему тесен, – я подразумеваю не материальный мундир, – и хочешь не хочешь, приходится искать ему дело побольше, чтобы дать простор способностям. А человек не останавливается, он тебе идет в гору, идет шаг за шагом. Давай ему взвод, роту, батальон, полк, – никто не скажет, где предел его способностям.
– Что ж тут удивительного, – сказал Силениек, – у нас везде так – и в армии и в любой области жизни. Сила советского строя. Того же Пургайлиса взять – до сорокового года был батраком и так бы им и остался, и никто бы не узнал, какие возможности в человеке…
– Мы к тебе, Жубур, опять по старому делу. Хочу еще раз прощупать, не согласишься ли перейти ко мне начальником штаба. Иначе самому придется работать за него.
– Да ведь у нас отличный начштаба, – сказал Жубур.
– В том-то и несчастье, что отличный… – сердито сказал Соколов и замолчал.
Жубур вопросительно посмотрел на Силениека.
– В штаб дивизии берут, – объяснил тот. – А генерал говорит, возьмите на его место кого-нибудь из командиров батальонов.
– Теперь понятно, – засмеялся Жубур. – Нет, из меня начальник штаба не выйдет. Не нравится мне возиться с бумагами. Мое место в роте, в батальоне – здесь я своими глазами вижу, что происходит на боевом участке. Разрешите уж мне до Латвии повоевать в батальоне.
– Говорил же я, что ничего не выйдет, – сказал Силениек.
– А если в порядке приказа? – Соколов, сощурившись, посмотрел на Жубура.
– В порядке приказа можно многое сделать, товарищ подполковник, – ответил Жубур. – Но тогда бы ты со мной так не разговаривал.
– И это правда, – согласился Соколов. – Надеялись уговорить добром. Думал, не откажет в трудную минуту старому боевому товарищу.
– Не сердись, Федор Демьянович, в трудную минуту никогда не откажу. Но ведь в данном случае речь идет лишь об удобствах. Тебе не хочется возиться с неизвестным человеком, поэтому ты и нажимаешь на меня.
– Черт возьми, до чего правильно читает он мои мысли! – рассмеялся Соколов. – Ну, хорошо, не желаешь – насильно навязывать не буду. Но если передумаешь, дай мне знать.
Жубур позвал вестового и велел принести чаю. За чаепитием беседа перешла на другие темы. После боев, когда на фронте устанавливается непривычная тишина, хочется поразмыслить над прошедшим, заглянуть в будущее.
– Не удивительно ли, – заговорил Соколов, – не удивительно ли, что солдат, который каждый день видит смерть своих товарищей, все равно продолжает спокойно глядеть ей в глаза, как будто не сознавая ее ужасного и трагического смысла. И ведь тут дело не только в дисциплине, в чувстве долга. Он бросается вперед, в самое пекло добровольно, это его собственное желание. Вспомните только, что происходит, когда вызываешь охотников на выполнение какого-нибудь опасного задания. Тебе требуются двое, а приходят двадцать. Да еще обижаются, кому откажешь, – целую неделю ходят насупившись. Следовательно, это не только сила приказа, это нечто большее. И это качество проявилось с первых дней войны: Гастелло… Талалихин… [23]23
ГастеллоНиколай Францевич (1907–1941) – Герой Советского Союза. 26 июня 1941 года Н. Ф. Гастелло направил свой загоревшийся в воздушном бою самолет на скопление вражеских танков и автоцистерн.
ТалалихинВиктор Васильевич (1918–1944) – Герой Советского Союза. В ночь на 7 августа 1941 года на высоте 2500 метров протаранил в воздушном бою вражеский бомбардировщик «хейнкель-111», осуществив первый ночной таран в истории авиации.
[Закрыть]комсомольцы, которые обвешивались ручными гранатами и бросались под танк… которые своей грудью прикрывали пулеметные амбразуры врага, сознательно жертвуя собой, чтобы товарищи могли победить. Вот сколько времени воюем, а я не перестаю удивляться нашим людям. Мы еще сами не всегда сознаем, какая это сила – советский строй, как он поднимает отдельного человека.
– Советский человек чувствует себя хозяином жизни, он в ней не раб, не наемник, – подхватил мысль Соколова Силениек. – Все, что есть на его земле, принадлежит ему. Он сам сознательно стал строить на ней самое благородное, самое прекрасное общество. Он построил уже много и убедился, что сделанное – хорошо, что его жизнь с каждым днем становится все краше и богаче. Он с каждым днем все быстрее приближается к своей цели – к коммунизму. Так кто же остановит его? Уж не разбойник ли с большой дороги – будь это Гитлер, будь кто угодно? И даже идя на смерть, советский человек уверен, что его цель будет достигнута, потому и не сомневается в ценности своей жертвы. И останемся ли мы с вами в живых, нет ли, народ все равно будет идти по этому пути. Нет, нетрудно умереть за это. За это стоит умереть. Представьте, какой же это будет человек – человек коммунистического общества…
Когда гости ушли, Жубур еще долго сидел задумавшись, под впечатлением этой беседы; потом стал писать Марте Пургайлис. Письмо вышло длиннее, чем он предполагал, и в нем было многое из того, о чем говорилось в этот вечер.
3
Марта Пургайлис уже четвертый день жила в подсобном хозяйстве детского дома и собиралась остаться там до воскресенья, но план этот пришлось изменить: Буцениеце прислала за ней одного из старших воспитанников.
– К вам гости из города приехали, – докладывал мальчик. – Им надо скорее обратно, и товарищ Буцениеце велела сказать, чтобы вы сейчас же ехали домой. А я пока здесь побуду, вы мне скажете, что делать нужно.
– Что за гости? – удивилась Марта. – Ты их видал?
– Как же, они тоже разговаривали со мной и просили, чтобы я поторопил. Одну я знаю – товарищ Рубенис, а другого в первый раз видел – из дивизии.
«Неужели Ян? – подумала Марта. – Что ж, ничего невозможного: иногда ведь дают отпуск, если человек хорошо воюет. И из дивизии то один, то другой побывают у своих; почему бы и Яну не приехать?» Сердце у нее забилось сильнее, щеки раскраснелись. Марта запрягла лошадь и уложила в телегу пустые мешки, в которых привезла семенной картофель, всю зиму хранившийся в подвале детского дома. На прощанье еще напомнила заведующему, крестьянину из-под Валки, чтобы к понедельнику подготовил парниковые рамы для рассады.
Езды было километров пятнадцать. Марта по этой дороге ездила раз сто, но сегодня она казалась ей удивительно длинной, да и лошадь еле перебирала ногами.
Больше года прожила она в детском доме. Вначале очень боялась, что не сумеет управлять большим хозяйством, а сейчас ничего, привыкла. Теперь у них уже шесть коров, пятьдесят кур, а в закутах хрюкают откормленные свиньи. Прошлой осенью Марта устроила небольшой парничок, – скоро дети получат свежий салат и редиску. Теперь она мечтает о грядках клубники, о маленьком пчельнике. И почему, не мечтать? Рабочих рук достаточно, понемногу все можно сделать. Дети, если их не заставлять работать сверх сил, делают свое дело с удовольствием, с гордостью.
«А что, если и правда Ян? – думала она, когда вдали показалась крыша детского дома. – Вот радость-то… Петерит, наверно, с рук не сходит у него. А может быть, Яну можно не спешить, погостить дня два? Шибче, шибче, лошадка, нас ведь ждут…»
Во дворе ее встретила Валайне, комсорг детского дома.
– Заходи, Марта, я сама распрягу лошадь, – сказала девушка каким-то странным голосом и стала возиться с хомутом. – Они у тебя в комнате.
Весь детский дом знал, какую весть привез Марте усатый военный с погонами старшины. Женщины уже наплакались, дети присмирели – плакать не хотелось, а улыбаться они тоже стеснялись, когда у взрослых были такие печальные лица.
Пристально вгляделась Айя в лицо Марты, когда та вошла в комнату: знает или нет? Но напряженное ожидание, светившееся в ее глазах, было так очевидно, что у Айи сжалось сердце.
Звирбул вскочил со стула и встал навытяжку.
– Добрый день, – поздоровалась Марта и принужденно улыбнулась, чтобы скрыть свое разочарование и не обидеть гостя. Незнакомый военный крепко пожал ей руку.
– Я из одной роты с вашим мужем, – старательно стал объяснять Звирбул. – У меня здесь в районе живет жена с детьми… Значит, когда начальство разрешило мне двухнедельный отпуск, товарищи попросили передать вам письма.
Он вынул из полевой сумки два письма. Марта взяла их – оба конверта были надписаны чужим почерком.
– Спасибо… – растерянно сказала она. – Давно вы в последний раз видали мужа?
– Порядочно… Вот когда ликвидировали Демянский плацдарм…
– А он… разве он не дал письма?
Звирбул покраснел и беспомощно оглянулся на Айю.
– Для тебя тут посылочка есть, – сказала Айя. – Вот она на столе.
На чистой скатерти лежал небольшой плоский сверточек, обшитый бязью.
– Я выйду пока, – сказал Звирбул, когда Марта взяла сверточек и начала распарывать его. – Я там с детишками побуду. Когда надо будет, позовите меня. Может быть, товарищ Пургайлис пожелает услышать, как мы там жили на фронте?
– Хорошо, товарищ Звирбул, – кивнула ему Айя. – Я вас потом позову.
Дверь скрипнула, в комнате стало тихо. Айя подошла к Марте и обняла ее за плечи.
…За полчаса она не проронила ни слова, только глядела на старые конверты, на документы, на орден Отечественной войны, который лежал перед ней. Она не рыдала, не всхлипывала, лишь по окаменевшему лицу бежали и бежали слезы. В мире и в ее собственном сердце мгновенно образовалась пустота, и она знала, что это останется навсегда, – ничто не заполнит эту пустоту. Пройдут годы, многое изменится, а пустота останется и никогда не позволит забыть о ней.
Больно. Как будто в сердце запал раскаленный уголь и прожигал его насквозь. Вся прежняя жизнь, все дни, прожитые с Яном, все их мечты о будущем вставали перед глазами Марты. Больно.
Она еще раз перечитала оба письма – от товарищей Яна и от капитана Жубура. Они писали, что были друзьями ее мужа и считают себя ее друзьями, просили всегда обращаться к ним, когда будет трудно. В письмах они рассказывали о последних минутах Яна Пургайлиса. Марте показалось, что она видит его в окопе, – живого, бесстрашного, полного сил.
Потом она заговорила:
– Пусть он войдет, Айя.
Айя позвала Звирбула. Сначала Марта слушала его, не задавая вопросов, только все время кивала головой. Но когда ему показалось, что все уже рассказано, – она начала расспрашивать сама. Как в тот день был одет Ян? Какая была погода? Что он в последний раз сказал своим товарищам? Где его похоронили? Сухое ли там место? Может ли Звирбул показать на карте, где оно находится?
Звирбул и Айя переночевали в детском доме. Ночью Марта написала ответ стрелкам второй роты и капитану Жубуру. Письма вышли длинные, но с кем еще могла она говорить о Яне, как не с ними?
Кончив писать, Марта подошла к кроватке Петерита. «Не вернется твой папа, сынок, никогда уж не придется тебе посидеть у него на коленях. Но про то тебе не надо знать. Я буду горевать за обоих».
Теперь, без свидетелей, можно было выплакать свою боль до конца.
Утром она вручила Звирбулу письма и еще раз на словах велела передать привет всем, всем товарищам Яна. Звирбул уехал к родным, а Айя провела в детском доме еще один день, стараясь все время быть вместе с Мартой.
Через неделю Марта получила из Кирова вызов на курсы.
4
В середине апреля Мара Павулан приехала в Москву с драматической труппой художественного ансамбля. Она ежедневно, а иногда и два раза в день выступала в больших госпиталях, в войсковых частях, в домах отдыха.
В этот приезд Мара каждый свободный вечер старалась пойти на спектакль в Художественный театр. Смотрела по нескольку раз одну и ту же пьесу и потом подолгу думала над каким-нибудь образом, поразившим ее, даже над отдельной мизансценой. Мара вспоминала свои любимые роли, и ей казалось, что она будет играть их теперь совсем по-другому. Она уже думала о том времени, когда вернется в Ригу, в свой театр, о новых постановках.
С директором театра Мара познакомилась еще до войны: он несколько месяцев помогал рижским актерам во время подготовки к декаде латышского искусства в Москве. Провести декаду помешала война, но установившиеся дружеские связи сохранились, поэтому с приездом в столицу Мара сразу вошла в среду актеров, художников, писателей, музыкантов. Часто после спектакля целой компанией отправлялись к кому-нибудь из них на квартиру и целую ночь за стаканом чая вели разговоры о театре, о проблемах творчества и особенно о том, что сильнее всего волновало людей, – о войне. Мара первое время стеснялась, сидела молча, – ей казалось, что она очень плохо говорит по-русски, но потом осмелела, стала вступать в споры и скоро почувствовала себя, как в родной семье.
В это время руководство латышского художественного ансамбля вело переговоры с дирекцией Художественного театра: речь шла о том, чтобы один из крупных артистов поработал с драматической труппой, помог ей в постановке какой-нибудь современной пьесы. Впоследствии это и было осуществлено: народный артист РСФСР Станицын помог латышским артистам поставить «Русские люди» Симонова.
Некоторые друзья Мары стали уговаривать ее переселиться в Москву и поучиться в театре режиссуре. Но как ни заманчиво было это предложение, у Мары хватило сил отказаться.
– После войны – да, сама буду умолять вас об этом. Приехать на несколько лет, поучиться – что может быть соблазнительнее? А сейчас не могу оставить ансамбль, там и так труппа не укомплектована.
Она не сказала, что с ее уходом труппа лишится самой талантливой артистки.
Перед возвращением в Иваново ансамбль выступил в доме отдыха латышских стрелков. Там Мара случайно встретилась со своим рижским директором – писателем Калеем. Они давно не виделись и обрадовались друг другу.
– Ну, как живете? Выглядите молодцом, – он с удовольствием оглядел ее. – Не надоело, значит, странствовать из города в город?
– Нет, не надоело и не надоест, товарищ Калей, – засмеялась Мара. – Всегда будет интересно. Расскажите вот, как вы живете. Ничуть не стареете.
– По-моему, я еще довольно молод, – отшутился Калей, – во всяком случае не смею соваться со своими пятьюдесятью годами в категорию стариков. Куда ты, скажут, молокосос.
Они вышли в сад, сели на скамью.
– Позвольте узнать, уважаемый автор, чем вы нас порадуете в ближайшее время? – спросила Мара.
– Будет что-нибудь новенькое, будет. Сложа руки не сижу. Между прочим, я как-то подсчитал, так сказать, в абсолютных цифрах, – оказывается, за время войны написал не меньше семидесяти печатных листов – это значит два толстых тома. Даже в лучшие годы столько не писал. Вот видите, еще доказательство того, что к старикам меня причислять рано. И еще вот что. Сейчас для меня совершенно ясно, что это чистейший предрассудок или профессиональное ханжество, – будто успешно подвизаться можно только в одном жанре. За время войны, меньше чем за два года, я писал и рассказы, и повести, и статьи по литературе и искусству, и одноактные пьесы, и даже написал большую драму. А там еще газетные статьи, очерки. Каждую неделю выступаю, по радио, пишу статьи для «Цини», для центральных газет, для Совинформбюро. Тем – неисчислимое множество. Перед глазами развертывается одно из самых великих событий, событие, которое определяет ход истории на целые века. Как может писатель молчать в такое время? Я живу недалеко от Кремля и часто гляжу в окно на его башни, на рубиновые звезды. И думаю: там живет Сталин, там он работает. Вы представляете, что это такое – труд Сталина? Как же можно бездействовать перед лицом этого труда? Да если у тебя есть хоть какой-нибудь талант, ты не имеешь права молчать, ты должен отдать его народу, эпохе. Иначе нет оправдания твоему существованию.
Он помолчал немного, провел рукой по лбу.
– Вспоминаю прежние времена. До сорокового года я ведь несколько лет проработал в газете штатным сотрудником. Мне платили жалованье, и за это я должен был каждую неделю давать по крайней мере одну статью. Через два месяца мне уже не о чем было писать. То есть про себя-то я знал, о чем бы мог писать, да редакции это не требовалось. Ну, а ходовые темы – разные там торжества, юбилеи, воспоминания и бесконечные гимны «патриархальной» кулацкой усадьбе… меня просто тошнило от них. Дошел до того – бегал по улицам Риги или садился на трамвай и кружил по кольцевой линии, в надежде увидеть что-нибудь интересное, о чем бы стоило написать. Так у меня ничего и не получалось – жизнь была бессмысленная, бессодержательная, пустая. Но писать об этом не разрешалось. Валяй-Берзинь следил за каждым словом, вышедшим из-под моего пера: не протаскивает ли этот Калей контрабанду? Сам не понимаю, как не задохнулся в той атмосфере.
– Да, это чувство было у нас у всех до сорокового года, а потом – как будто вырвались на свежий воздух, – сказала Мара.
– Когда кончится война, мне волей-неволей придется прожить еще лет пятьдесят, так много накопилось за это время творческих замыслов. На очереди два романа, комедия, несколько рассказов. О войне нужно написать, о нашем народе на войне – это такая тема… Вот вы, наверно, думаете – хвалится старый Калей. Нет, я не хвалюсь, это у меня жадность к работе, к жизни.
– Да, вы очень, очень правы. Нельзя стариться у нас, по крайней мере духовно стариться.
Они снова замолчали, задумались. Потом Калей спросил:
– Что сейчас Яундалдер делает? Давно я его не видел.
– Пьесу пишет. Жалко, мы не сможем поставить – исполнителей не хватает, но он не унывает, говорит – приеду в Ригу с гостинцем. Кукур сейчас в Москве, учится режиссуре. Ну, про него вы знаете, наверно. Вилцинь… Помните того молодого актера, которому вы дали роль тайком от Букулта?
– Ну, ну? Так что же с Вилцинем?
– Он пошел добровольцем в латышскую дивизию. Сейчас воюет и играет. Прошлым летом его ранило в плечо, но он через несколько месяцев опять вернулся на фронт. Приглашали его перейти к нам в ансамбль, да он говорит: дам ответ только в Риге.
– Молодец! Славный парень.
– Товарищ Калей, вы живете в Москве, вам больше известно… Что слышно про Латвию? Как там наши старые знакомые?
– Недавно просмотрел целую пачку номеров «Тевии» – партизаны прислали. Мерзкий листок, руки вымыть после него хочется. Так вот. Букулт ведет себя по-свински. Лижет руки у немцев, на брюхе ползает перед ними и изо всех сил ругает большевиков. В одном из своих радиовыступлений я его так по щекам отхлестал, что он, голубчик, целый месяц слова не вымолвил по радио. Подумайте только: начал брехать, будто большевики увезли меня насильно, и уже оплакивал как погибшего. Насильно! Ах ты, подлец этакий! Ну и задал я ему! Видно, старого Калея в Латвии добрым словом поминают… иначе почему же немцам не хочется признать, что я эвакуировался? Ну еще кто… Мелнудрис и Алкснис опять в родную стихию попали и взапуски выслуживаются перед немцами… ну, бог с ними, они на этом деле много лет специализировались.
К ним подошло несколько отдыхающих в Удельной стрелков. Они окружили известного писателя и стали просить, чтобы он рассказал о себе, о своих будущих книгах. Не желая мешать их беседе, Мара попрощалась и пошла к своим товарищам.
В Иванове Мару ждало письмо от Жубура, которое завез мимоходом какой-то усатый старшина, как сказали в дирекции ансамбля. До вечера Мара раз десять перечитывала дорогие строчки. Как просто и скромно писал он о себе… Больше всего Мара и любила эту скромность чистого, мужественного человека. На Жубура она уже смотрела глазами жены – и тревожась за него и в то же время гордясь тем, что эта тревога не заставит его свернуть с избранного пути. Он пойдет им до конца войны. Так же, как и с Вилцинем, как с тысячами других, которые носили сегодня серую шинель, – о другом с ним можно будет говорить только в Риге.
Глава четвертая1
Ольге Прамниек давно пора было привыкнуть к публике, которую она изо дня в день обслуживала в офицерской столовой. Но этот рыжий крикливый майор с выпуклыми глазами каждый раз вызывал в ней дрожь ужаса и отвращения. Он всегда появлялся после всех, когда столовая уже начинала пустеть. Сев в угол, за большой пальмой, так что его не было видно из зала, он принимался стучать ножом по тарелке и, как бы проворно ни подходила к нему официантка, встречал ее шипеньем:
– Спите? Никак не можете очнуться от вековечного сна латышского мужика? Неизвестно, для чего вас здесь держат?
Громко он не говорил.
Когда Ольга ставила ему на стол кушанье, он каждый раз старался как-нибудь унизить ее. Если в зале был еще кто-нибудь из посетителей, он ограничивался непристойными замечаниями, но когда оставался один, то заранее можно было ждать, что он или ущипнет в бок, или схватит за руку и станет выкручивать пальцы. Это был явно патологический тип, но заведующему столовой лучше было не жаловаться: перед майором тот сгибался в три погибели.
Большинство посетителей исчезало через неделю, через месяц, и на их место появлялись новые, потому что столовая предназначалась для проезжих. Но этот – нет. Проходили недели, месяцы, а майор каждый день исправно посещал столовую. Наконец, Ольга решила потерпеть еще неделю и, если он не исчезнет, отказаться от работы и уехать в деревню. Но на другой же день после того, как она пришла к этой мысли, случилось непоправимое. Рыжий майор пришел, как обычно, когда столовая уже опустела. Подойдя за заказом, Ольга предусмотрительно остановилась на некотором расстоянии от столика, чтобы немец не достал до нее руками. Но он понял ее хитрость и показал пальцем на пол рядом со своим стулом:
– Стань сюда.
– Я здесь тоже услышу, господин майор.
– А я говорю, стань сюда, – зашипел майор. – С каких это пор туземцы возражают немецким офицерам?
Ольга приблизилась к нему на полшага.
– Сюда, – нетерпеливо показал он пальцем на пол. – Без возражений, ну?
Когда Ольга встала рядом с майором, он обеими руками схватил ее за плечи, больно впиваясь большими пальцами в грудь. Ольга вскрикнула и попыталась высвободиться, но он еще крепче держал ее и все время смотрел в глаза.
– Пустите, зачем вы!.. – крикнула она.
– Перестань ломаться, молчи, – быстро бормотал он. – Сколько берешь, мамзель, за ночь?
Ольга уперлась обеими руками в лицо майора и толкнула. Он сразу выпустил ее, неожиданное сопротивление оглушило его, как удар грома.
– Ты… ты… ты… – заикаясь, повторял он.
Ольга, не слушая его, повернулась и выбежала из зала. Она ничего не сказала своим подругам, которые от нечего делать болтали за дверью; она не пошла к начальству заявить о своем уходе, а взяла в гардеробной пальто, дала обыскать себя швейцару и вышла на улицу. Прочь, скорее прочь отсюда!
Ольга уже не думала о том, что губит себя, что ее выгонят из столовой, отошлют в управление труда с самым скверным отзывом. Только бы убежать. Скорее, пока майор не поднял на ноги весь персонал столовой. Только бы на улице не догнали… Домой… За полчаса она соберет в узелок вещи… переночует у знакомых, у Саусума, например… а завтра выберется из города. Управление труда? Ни за что! Пошлют на самую унизительную работу, угонят в Германию… Лучше уж в деревню простой батрачкой. И давно бы надо…
Пройдя несколько кварталов, Ольга села в трамваи. Пока она добиралась до квартиры, возбуждение сменилось глубокой апатией. Пошатываясь, вошла она в свою комнату, заперла дверь и, не сняв пальто, упала на кровать.
«Не спи, Ольга, тебе надо торопиться, надо скорее уходить отсюда… – говорила она себе. – Но куда? Кто меня примет? К кому обратиться за помощью? К Саусуму? Да, Саусум друг, но он ничего не может сделать, ему самому надо помогать. Если немцы узнают, что я обращалась к нему, его посадят в тюрьму».
Немного отдохнув, Ольга встала, сняла пальто и села у окна. Безвольно уронив на колени руки, она долго ждала, когда в прихожей раздадутся шаги.
Они не торопятся – знают, наверно, что ей некуда убежать. У нее еще есть время о многом подумать. Ольга представила себе бесправную жизнь своего народа. Муки… унижение за унижением… и ни малейшего проблеска света в этой кромешной тьме. Her, дальше терпеть нельзя. Но где выход, где спасение? Ольга не видела его – она не была ни такой мудрой, ни такой сильной, как народ. Силы у нее иссякли, ей казалось, что она барахтается среди безбрежного моря. Если бы увидеть вдали хоть туманные контуры берега – может быть, у нее воскресла бы сила воли. Она не видела ничего, и в этот час возле нее не было ни одного человека, некому было помочь ей.
Когда совсем смерклось, Ольга достала из шкафчика коробочку с лекарствами, вынула из нее маленький флакончик, вроде тех, в которых продают эссенцию, и стала отвинчивать колпачок.
В передней раздались шаги.
«Пришли… – подумала Ольга. – Теперь пусть… Я больше не боюсь».
Сунув флакончик в карман блузки, она пошла отворять дверь. Не спросив кто – отперла. Без пальто, в светлом весеннем костюме, в новой, франтовато сдвинутой на затылок шляпе – перед ней стоял Эрих Гартман.
– Добрый вечер, госпожа Ольга, – не переступая порога, начал он. – Вы позволите мне войти?
Несколько мгновений она молчала, напряженно думая. Потом решительно кивнула Гартману:
– Да, да, входите. Я одна, можете не стесняться.
Гартмана удивила эта готовность. Идя сюда, он почти не надеялся на такой прием. Зимой зашел как-то, но Ольга не впустила. А сейчас – сразу. «Наконец-то поняла, что упрямиться нет смысла, и потом весна…» – подумал он, входя в комнату. Не торопясь, повесил на вешалку шляпу, поправил перед зеркалом галстук, потом вопросительно посмотрел на Ольгу.
– Садитесь, господин Гартман, – сказала она. Пока он переходил от вешалки к зеркалу, от зеркала к старому креслицу, она исподлобья смотрела на него.
– А вы почему не садитесь? – прежде чем сесть, спросил Гартман.
– Я сейчас… Приведу себя немного в порядок. Я не знала, что вы придете сегодня.
«Ага, ждала, значит».
Гартман сразу повеселел.
– Последнее время я был очень занят и жил аскетом. Подготавливал сборник своих военных рассказов. А теперь вот позволил себе подумать о более приятных вещах.
Ольга вышла в кухню. Гартман, зная, что она его слышит, все время говорил. Он сыпал остротами и афоризмами, он старался быть поэтичным. Женщины любят это, так легче заставить их забыть грубость твоих намерений.
Через несколько минут Ольга вернулась в комнату. На плечи у нее был накинут большой шелковый платок. Она зябко куталась, пряча под него руки. Присела по другую сторону стола. Вдруг невпопад спросила:
– Чего вы от меня хотите, Гартман?
– Всю, всю вас… – быстро заговорил Гартман. – Я долго ждал. Вы это знаете.
– Да, я знаю. Больше вам не придется ждать.
Она встала и, обойдя стол, сзади подошла к Гартману. Уверенный, что Ольга хочет обнять его, Гартман засунул палец за воротничок, чтобы немного ослабить его. В этот момент на него обрушился удар тяжелого медного подсвечника – прямо в висок. Он негромко вскрикнул, повалился на пол, Ольга ударила еще раз. Гартман был мертв. Тогда она поставила подсвечник на подоконник, села на кровать и вынула из кармана блузки флакончик.
2
Как ни старались замять историю с убийством Гартмана, о нем скоро стало известно в городе. Гуго Зандарт расспрашивал о подробностях то одного, то другого, а больше всего донимал Эдит, будучи уверен, что она все знает.
– В общем ничего особенного, обыкновенная уголовная хроника, – сказала она. – Гартман был интересный мужчина, Ольга в него влюбилась… А потом Гартману надоело, он решил покончить с этой связью. Вероятно, в тот самый вечер и объявил ей это. Может быть, сказал слишком резко, она оскорбилась, пришла в ярость. Подсвечник стоял на окне. А потом испугалась и приняла яд. Особенно-то разговаривать об этом не стоит, – предупредила его Эдит. – Если о них не вспоминать, в обществе скоро забудут.
– Я понимаю, – сказал Зандарт и обещал молчать.
Но он ничего не понимал и, как только Эдит ушла, осмотрел зал: кому первому объявить сенсационную новость?
Из настоящей публики никого еще не было. Зандарт увидел только одного знакомого – прогоревшего журналиста Саусума. Оправдавшись перед собой старинной поговоркой, что черт с голоду и мух ест, Зандарт подошел к нему и без приглашения сел за столик.
– Слыхали, господин Саусум?
Саусум помешивал ложечкой буроватую жидкость, которую по привычке называли еще кофе. Недовольный тем, что ему помешали думать, он нелюбезно посмотрел на Зандарта и буркнул:
– Ничего я не слышал.
– Ольга Прамниек убила писателя Гартмана, а потом отравилась. На романтической почве… Только, ради бога, никому не рассказывайте, это большой секрет.
Всю флегму Саусума как рукой сняло. Он с болезненной гримасой закрыл глаза, ложечка выпала из его пальцев.
– Ольга? Гартман? Да что у них общего?
– Наверное, что-нибудь было, такие вещи ни с того ни случаются.
– Бессмыслица какая… Один в лагере, другая в могиле. Для чего все это?..
Не было смысла задерживаться у этого столика. Зандарт шел навстречу солидному клиенту, который только что вошел в зал и взглядом искал свое привычное место у окна.
– Господин Мелнудрис, вы уже слышали? Странные дела творятся…
Немного погодя он теми же словами встретил режиссера Букулта, писателя Алксниса, актрису Зивтынь, поэтессу Айну Перле и прочих уважаемых лиц, для которых кафе Зандарта было вторым домом.
Каждый воспринимал новость по-разному: один – как очередной скандал, другой – как свежий анекдот, а некоторые даже не удивлялись. A-а! Ну хорошо, а еще что новенького?
Только Саусум весь вечер сидел, как пришибленный. Лица Прамниека и Ольги стояли перед его глазами. Маленькая белокурая женщина, добрый гений Эдгара Прамниека. Что он станет без нее делать, кто его согреет и поддержит, когда он, больной, истерзанный, вернется к жизни? Да и вернется ли? Для чего все эти мучения, это бездушное надругательство над человеком? И почему все так спокойно проходят мимо этих ужасов, будто не видя их?
«Каждый думает прежде всего о себе… Дрожит, боится, даже мысленно не осмеливается называть вещи своими именами. Какое-то всеобщее одичание. Да и сам ты такой, Саусум. И зло продолжается, гора преступлений растет, заслоняя солнце. Зло торжествует, потому что некому его обуздать. Ну хорошо, вот ты честный человек, ты возмущаешься, но почему ты остаешься пассивным, когда враг угрожает существованию народа? – А что может сделать один человек? Силе должна противостоять сила, – старался оправдать себя Саусум, но голос совести отвечал: – Неверно! Ты вовсе не искал друзей. Если бы искал, то нашел бы. Бороться надо, Саусум, думать о спасении народа. Если не станешь помогать народу, погибнешь сам».
Все тяжелее становилось ему есть хлеб из рук врага. Он пробовал работать по своему старому рецепту – не касаясь политики. Он извлекал из пыли предания рижской старины, писал о давно умерших деятелях прошлого столетия; ходил по большим садоводствам и потом в полутораста строках распространялся об уходе за цветами; интервьюировал отставных театральных знаменитостей и заваливал редакцию всякого рода воспоминаниями. Некоторое время можно было продержаться и на этом. Но редактор газеты все чаще и чаще рекомендовал ему свои темы: «Господин Саусум, почему бы вам не съездить в казармы, что у церкви Креста, не посмотреть, как живут наши легионеры? Дайте нам очерк об успехах латышского полицейского батальона на Волховском фронте. Генерал Бангерский согласился дать нашему сотруднику интервью – не хотите ли взять это на себя?»








