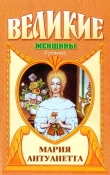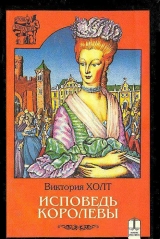
Текст книги "Исповедь королевы"
Автор книги: Виктория Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 35 страниц)
Милая Кампан была слишком разумна, чтобы отрицать то, что я ей сказала. Она была настолько практична, что тотчас же занялась изготовлением для меня корсета, подобного жилету короля.
Я поблагодарила ее, однако сказала, что не буду носить его.
– Если они убьют меня, мадам Кампан, это будет удача для меня. Это, по крайней мере, избавит меня от этого мучительного существования. Меня беспокоят только дети. Но ведь здесь есть ты и добрая мадам Турзель. Не думаю, что даже эти люди могут быть жестоки к маленьким детям. Я вспоминаю, как была растрогана та женщина. Это произошло из-за детей. Нет, даже они не причинили бы им вреда. Поэтому… когда они убьют меня, не горюй обо мне. Помни, что меня будет ждать более счастливая жизнь чем та, которую я переношу здесь.
Мадам Кампан была встревожена. В течение всего этого знойного июля она отказывалась ложиться спать. Она сидела в моих апартаментах и дремала, готовая вскочить при первом же звуке. Думаю, именно она однажды спасла мне жизнь.
Был час ночи, когда я пробудилась от дремоты и увидела, что она склонилась надо мной.
– Мадам! Слушайте! Кто-то крадется по коридору! – прошептала она.
Испуганная, я села в кровати. Этот коридор проходил вдоль всего ряда моих апартаментов и запирался с обоих концов.
Мадам Кампан бросилась в прихожую, где спал камердинер. Он тоже услышал шаги и был готов броситься туда. Через несколько секунд мы с мадам Кампан услышали звуки потасовки.
– Ах, Кампан, Кампан! – сказала я, обнимая это милое и верное создание. – Что бы я делала без таких друзей, как ты? Оскорбления – днем, убийцы – ночью! Когда же настанет конец?
– У вас хорошие слуги, мадам, – спокойно ответила она.
И это была правда, так как в этот момент в спальню вошел камердинер, тащивший за собой какого-то человека.
– Я знаю этого негодяя, мадам! – сказал он. – Это слуга при королевской туалетной комнате. Он признался, что взял ключ из кармана его величества, пока король спал.
Это был маленький человечек, в то время как мой камердинер был высок и силен. Я должна была быть благодарна за это, потому что в противном случае в ту ночь мне пришел бы конец. Этот жалкий негодяй, вне всякого сомнения, думал заслужить похвалы толпы, сделав со мной то, что, как они все время выкрикивали, давно уже следовало сделать.
– Я запру его, мадам! – сказал камердинер.
– Нет, – сказала я. – Отпусти его! Открой ему дверь и выгони его прочь из дворца! Он приходил, чтобы убить меня, и если бы это ему удалось, завтра люди стали бы носить его с триумфом.
Камердинер подчинился. Когда он вернулся, я поблагодарила его и сказала, что мне очень жаль, что из-за меня он был вынужден подвергаться опасности. На это он ответил, что ничего не боится и что у него есть пара превосходных пистолетов, которые он всегда носит с собой с единственной целью – защищать меня.
Такие случаи всегда глубоко трогали меня. Когда мы вернулись в мою спальню, я сказала мадам Кампан, что я никогда не оценила бы великодушия таких людей, как она; сама и этот камердинер, если бы эти ужасные времена не заставили меня понять это.
Она была тронута, однако уже строила планы о том, чтобы на следующий день сменить все замки. Она проследила, чтобы то же самое было сделано и в апартаментах короля.
Над нами воцарился великий террор. В столицу проникли люди, словно бы принадлежавшие к какой-то другой расе: маленькие, очень смуглые, гибкие, жестокие и кровожадные. Это были южане, марсельцы.
Они принесли с собой песню, написанную Руже де Лилем, одним из их офицеров. Вскоре нам пришлось услышать, как ее распевают по всему Парижу. Ее называли «Марсельезой». Кровожадные слова, положенные на воодушевляющую мелодию, – такая песня не могла не завоевать популярность. Она заменила песню «Çа ipa», бывшую до того времени самой любимой. Каждый раз, когда я слышала «Марсельезу», она заставляла меня содрогаться. Она часто являлась мне, словно призрак. Когда среди ночи я просыпалась после тяжелой дремоты (а в те ночи я почти не спала), мне мерещилось, что я слышу ее.
«Allons, enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous, de la tyrannie,
Le couteau sanglant est levé,
Le couteau sanglant est levé.
Entendez-vous, dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats.
Ils viennent jusgue dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes.
Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons».[151]151
Вперед, сыны отчизны милой!День нашей славы настает!К нам тирания черной силойС кровавым знаменем идет.Вы слышите, уже в равнинахСолдаты злобные ревут.Они и к нам, и к нам придут,Чтоб задушить детей невинных.К оружью, граждане!Ровняй военный строй!Вперед, вперед, чтоб вражья кровь была в земле сырой. (фр.)(пер. П. Антокольского) – прим. оцифровщика.
[Закрыть]
Сад вокруг моих апартаментов был всегда заполнен толпой. Люди заглядывали в окна. В любой момент от одной маленькой искры мог вспыхнуть пожар. Часы шли, и мы не могли предугадать, какие новые зверства они совершат. Уличные торговцы под моими окнами предлагали свои товары. «La Vie Scandeleuse de Marie Antoinette»![152]152
«Скандальная жизнь Марии Антуанетты» (фр.).
[Закрыть] – пронзительно кричали они. Они продавали фигурки, изображавшие меня во всевозможных неприличных позах вместе с разными мужчинами и женщинами.
– Для чего мне жить? Для чего принимать все эти меры предосторожности, чтобы спасти жизнь, которую не стоит спасать? – спрашивала я мадам Кампан.
Я писала Акселю об ужасах нашей жизни. Я сказала ему, что нас убьют, если наши друзья не выпустят манифест, в котором будет сказано, что если нам причинят вред, то Париж будет атакован.
Я знала, что Аксель делал все, что возможно. Еще никто и никогда не работал столь неутомимо.
Если бы только у короля была хотя бы половина энергии Акселя! Я старалась побудить его к действию. За нашими окнами выстроились гвардейцы. Если он покажет им, что он – их лидер, они будут уважать его. Я видела, что даже самых грубых революционеров можно держать в благоговейном страхе малейшим проявлением королевской гордости. Я умоляла его пойти к гвардейцам и устроить им нечто вроде смотра.
Он кивнул. Он сказал, что я, безусловно, права, и вышел на улицу. Это было душераздирающее зрелище – видеть, как он семенил между рядами солдат. Теперь он сделался таким жирным и неуклюжим, что это ни за что не позволяло бы ему охотиться.
– Я полагаюсь на вас! Я полностью доверяю моей гвардии! – сказал он им.
Послышался хохот. Я увидела, как один человек вышел из шеренги и пошел следом за ним, подражая его тяжеловесной походке. Гордость – вот чего ему не хватало! Я была глупа, ожидая, что Луи проявит ее.
Я почувствовала облегчение, когда он вошел. Я отвернулась, потому что не желала видеть унижение на его лице.
– Лафайетт спасет нас от фанатиков. Ты не должна отчаиваться! – сказал он, тяжело дыша.
– Хотела бы я знать, кто же спасет нас от мсье де Лафайетта! – горько возразила я.
Кульминация наступила, когда герцог Брунсвикский выпустил манифест в Кобленце. В нем говорилось, что если по отношению к королю и королеве будет допущено хоть малейшее насилие или оскорбление, то против Парижа будет использована военная сила.
Это было тем сигналом, которого они ждали. Агитаторы работали более напряженно, чем когда-либо. По всему Парижу люди маршировали группами. Это были санкюлоты и оборванцы с юга. Они шли и пели:
«Вперед, сыны отчизны милой…»
Они говорили, что мы в Тюильри подготавливаем контрреволюцию.
Десятого августа faubourgs[153]153
Предместья (фр.).
[Закрыть] были на марше, и их целью был Тюильрийский дворец.
Мы знали о поднимающейся буре. Всю ночь девятого числа и ранним утром десятого я не раздевалась. Я бродила по коридорам в сопровождении мадам Кампан и принцессы де Ламбаль. Король спал, правда, в полном облачении. По всему городу начали звонить набатные колокола, и Элизабет пришла, чтобы присоединиться к нам.
Вместе с ней мы наблюдали, как начинался рассвет. Это было около четырех часов, и небо стало кроваво-красным.
Я сказала ей:
– Париж, должно быть, уже видел нечто подобное во время Варфоломеевской ночи.
Она взяла мою руку и вцепилась в нее.
– Мы будем держаться вместе!
Я ответила:
– Если мое время придет и ты переживешь меня…
Она кивнула.
– Дети – да, разумеется! Они будут для меня как родные.
Тишина, наступившая, когда колокольный звон прекратился, казалась даже более тревожной, чем этот звон. Маркиз де Манда, командир Национальной гвардии, который много раз спасал нас от смерти, получил вызов в ратушу. Мы наблюдали, как он направился туда, с дурными предчувствиями. Вскоре после этого в Тюильри прибыл посыльный, чтобы сообщить нам, что он был зверски убит по пути в ратушу, а его тело было брошено в Сену. Тогда я поняла, что катастрофа уже совсем близко.
В спешке приехал генеральный прокурор Парижа. Он спросил короля. Луи поднялся с постели. Его костюм съехал набок, парик сделался плоским, глаза были осовелыми со сна.
– Предместья на марше! Они идут ко дворцу. Они намереваются учинить резню! – сказал генеральный прокурор.
Король заявил о своем доверии к Национальной гвардии.
О боже, подумала я, его сентиментальность приведет к тому, что все мы будем убиты!
Гвардия была во дворце повсюду, однако на некоторых лицах я замечала угрюмое выражение. Я вспомнила, как они насмехались над Луи, когда он предпринял попытку устроить им смотр. Я вспомнила человека, который вышел из шеренги и передразнивал его сзади.
– Весь Париж на марше! – предостерегал нас генеральный прокурор. – Единственное безопасное место для ваших величеств – в Национальной Ассамблее. Мы должны отвести вас туда. Нельзя терять ни минуты. Никакие действия не помогут нам в противостоянии стольким людям. Вы же видите, что сопротивление невозможно!
– Тогда идемте! Созовите всех наших людей! – сказал король.
– Только вы и ваша семья, сир!
– Но мы не можем покинуть всех этих отважных людей, которые были здесь с нами! Неужели мы должны оставить их во власти разъяренной толпы? – протестовала я.
– Мадам, если вы станете чинить нам препятствия, то будете ответственны за смерть короля и своих детей!
Что мне оставалось делать! Я подумала о моих дорогих мадам Кампан, принцессе де Ламбаль, мадам де Турзель… обо всех тех, кто был почти так же дорог мне, как моя собственная семья.
Но я поняла, что ничего не могу сделать. Кроме того, рядом со мной был дофин.
Мы покинули дворец. Некоторые люди смотрели на нас через ограду, другие вошли в сад, однако не делали попыток остановить нас. Земля была густо усыпана листьями, хотя был еще только август. Дофин почти радостно разбрасывал их ногами. Бедное дитя, он так привык к тревогам, подобным этой, что считал их частью своей жизни. Пока мы были вместе, он относился к ним равнодушно. Для него это было лишь поводом для радости. Издалека были слышны выстрелы и пронзительные крики. Толпа была совсем близко. Я слышала хриплые голоса: «Вперед, сыны отчизны милой!»
Король спокойно произнес:
– В этом году листья опали рано.
Когда мы приближались к зданию Ассамблеи, какой-то высокий мужчина подхватил дофина на руки. Я вскрикнула в ужасе, но он доброжелательно взглянул на меня и сказал:
– Не бойтесь, мадам! Я не собираюсь причинять ему вред. Но нельзя терять ни минуты!
Я не могла оторвать глаз от ребенка. Я была испугала, но дофин улыбался и что-то говорил в своей не по возрасту серьезной манере тому, кто сделал его своим пленником.
Когда мы подошли к зданию Ассамблеи, моего сына вернули мне. Я поблагодарила этого человека и с таким пылом схватила мальчика за руку, что он напомнил мне, что я причиняю ему боль.
Наконец мы достигли Ассамблеи. Там нас поместили в репортерскую ложу. Председатель заявил, что Ассамблея поклялась отстаивать конституцию и что они будут защищать короля.
За время перехода из Тюильри у меня украли часы и кошелек. Я посмеялась сама над собой из-за минутного беспокойства, которое почувствовала из-за этих ничего не стоящих предметов. Ведь в здании Ассамблеи мне были слышны крики толпы, когда она достигла Тюильрийского дворца. Я беспокоилась о том, что произошло с нашими верными друзьями. В особенности я тревожилась о принцессе де Ламбаль, которая могла бы находиться в безопасности в Англии, но тем не менее вернулась обратно из-за любви ко мне.
Я молча плакала. Что же с нами будет дальше, думала я. Ведь мы не можем вернуться к тем руинам, в которые эти люди превратят Тюильрийский дворец.
Но какое это имеет значение? Зачем бороться, чтобы сохранить свое существование, которое не стоит затраченных усилий?

Узники в Тампле
Я сумею умереть, если это будет необходимо.
Людовик XVI
Французы! Я умираю, будучи невиновным в тех преступлениях, которые мне приписывают. Я прощаю виновников моей смерти и молюсь, чтобы моя кровь не пала на Францию.
Людовик XVI на эшафоте

Нас поместили в Тампле. Но это был не тот дворец, который когда-то был замком тамплиеров, в котором прежде жил Артуа и куда я как-то зимним днем приезжала в своих веселых санях, чтобы пообедать с ним. Это была крепость, примыкавшая к замку, мрачная тюрьма, не слишком отличающаяся от Бастилии, с круглыми башнями, щелевидными окнами и внутренним двором, куда не заглядывало солнце. Там нас держали как пленников. Начальником в Тампле был депутат и прокурор, Жак Рене Эбер. Лидеры революции с самыми идеалистическими убеждениями, такие, как Демулен и Робеспьер, презирали его. Он был жесток и беспринципен. Он наслаждался революцией не потому, что действительно верил, что она может дать бедным лучшую жизнь, а потому, что она давала ему возможность творить жестокости. Он получил власть благодаря своей газете «Pére Duchesne»[154]154
«Отец Дюшен» (фр.).
[Закрыть], с помощью которой он так воспламенял толпу, как не смогло бы даже множество людей.
Я была очень испугана, когда узнала, что нас вверили попечению этого человека. Когда бы я ни увидела его, он всегда смотрел на меня с наглым выражением. Я знала, что он думал о тех скандальных вещах, которые писали обо мне. Я читала его дурные мысли и в страхе пыталась казаться равнодушной к нему. Это привело к тому, что я выглядела еще более надменной, чем когда-либо.
Однако в Коммуне были люди, у которых было желание показать нам и всему миру, что жестокость не входила в их планы. Это они контролировали толпу, это они совсем недавно вырвали нас из ее кровожадных рук. Это были люди, которые желали добиться реформ – свободы, равенства И братства – конституционными методами, и в то время именно они контролировали ситуацию.
Поэтому наша жизнь не была такой неудобной, какой, я уверена, ее желал бы видеть Эбер. Большая башня Тампля была оснащена для нас всем необходимым. Королю были предоставлены четыре комнаты и еще четыре – мне, Элизабет и детям. Нам позволяли гулять в саду. Правда, нас бдительно охраняли, но все же не отказывали в том моционе, который считался необходимым для нашего здоровья. Там у нас было предостаточно еды и питья. Были также одежда и книги.
Меня удивляло, насколько Луи и Элизабет приспособились к этой жизни. Как я была непохожа на них! Мне казалось, что у них совсем не было силы духа. Элизабет была такой кроткой! Она принимала несчастье, которое свалилось на нас, за божью волю. Возможно, в этом и заключалась разница между нами: у нее была вера, которой мне недоставало. В известном смысле я завидовала им обоим – Луи и Элизабет. Они были такие пассивные, никогда не желали бороться, всегда все принимали безропотно. У Элизабет была религия. Она говорила мне, что всегда желала вести жизнь монахини, а жизнь в Тампле была подобна жизни в монастыре. У Луи тоже была своя религия. У него были еда и питье, и он спал большую часть дня и ночи. И поскольку его не вынуждали проливать кровь своего народа, он оставался безропотным.
Они раздражали меня, но в то время я восхищалась ими и даже до некоторой степени завидовала им.
Иногда я сидела у окна и наблюдала, как в саду Луи учил дофина запускать змея. Всегда добрый и терпеливый, он был начисто лишен королевской манеры держать себя.
Я слышала, как многие из тех простых людей, которых приводили, чтобы охранять нас, читавшие рассказы о нас с королем в газете «Отец Дюшен», выражали удивление, обнаружив, что король был самым обыкновенным человеком, который играл во дворе со своим сыном и ради забавы ребенка измерял, сколько в нем квадратных футов. Иногда они видели, как он дремал после трапезы или спокойно читал. Они видели меня за рукоделием, читающей детям вслух и ухаживающей за ними. Я чувствовала, что это изумляло их. Я была надменна, это правда, но разве могла такая высокомерная женщина предаваться тем непристойным авантюрам, о которых они слышали? И могла ли такая Иезавель так заботиться о своей семье?
Я думала, что если бы у нас была возможность узнать свой народ, а у народа – возможность узнать нас, то не нужна была бы никакая революция.
Наступил сентябрь. Погода была все еще теплой. В Париж пришло известие о наступлении пруссаков и австрийцев. На улицу вышла толпа. Они кричали, что скоро мои родственники будут в Париже и убьют тех, кто, по их словам, плохо обращается с королевой.
Я услышала крики:
– Антуанетту – на фонарь!
Короткое затишье кончилось. Что же теперь будет?
Слышался колокольный звон.
Мы, вся семья, держались вместе, в одной комнате. Мы испытывали огромное желание быть вместе в минуту бедствия.
– Возможно, герцог Брунсвикский уже достиг Парижа. В таком случае мы можем ожидать, что совсем скоро будем свободны.
Если бы это было так! Но у меня уже не оставалось оптимизма, который позволил бы мне обманывать себя.
За нашими окнами стояли толпы. Мне было слышно, как они кричали:
– Антуанетта, к окну! Иди и посмотри, что мы принесли тебе, Антуанетта!
Король подошел к окну и тут же крикнул, чтобы я держалась подальше.
Но было уже слишком поздно. Я увидела это. Я увидела пику, на острие которой была насажена голова моей дорогой подруги, принцессы де Ламбаль.
В ту секунду я поняла, что, пока жива, я никогда не смогу изгнать это зрелище из своей памяти. Лицо, когда-то столь прелестное, теперь застыло в кричащем ужасе. Оно было обрамлено ниспадающими волосами, все еще прекрасными. И та ужасная, ужасная кровь…
Я почувствовала, что погружаюсь в бессознательное состояние. Я была счастлива избавиться от всего этого, пусть хотя бы только на время.
Как могли они утешить меня?
– Зачем она приехала? – спрашивала я, – Разве я не говорила ей? Она могла бы быть в безопасности в Англии. Что же плохого она сделала… кроме того, что любила меня?
Я припоминала сотни инцидентов из прошлого. Как она приветствовала меня, когда я только что приехала во Францию… Насколько теплее, насколько дружелюбнее, чем остальные члены семьи! «Она глупа», – говорил Вермон. Ах, моя самая милая и самая глупая Ламбаль! Зачем ты приехала сюда из безопасного места? Чтобы быть со мной, чтобы утешать меня, чтобы разделить со мной мое несчастье? И кончить вот так?!
Как же я ненавидела их, этих дикарей, завывающих там, снаружи! Моя ненависть к ним превратилась в бешенство. Это был единственный способ забыть о моем горе.
Позже мне принесли кольцо – то самое кольцо, которое я дала ей совсем недавно. Оно было на ней, когда толпа выволокла ее из тюрьмы, в которую ее заточили, когда нас привезли в Тампль.
Это был результат того, что называли сентябрьской резней. Тогда было дано разрешение убивать всех заключенных, которые могли считаться подозрительными.
Какая прекрасная возможность для толпы, когда такие люди, как Дантон, одобрили эти убийства! Сколько еще моих друзей пострадало в этой резне? Несомненно, это были самые мрачные дни в истории Франции.
В течение трех недель после того ужасного дня мы снова и снова слышали крики на улицах. Мы собирались все вместе, как прежде, и ждали. Какое ужасное несчастье должно было постичь нас теперь?
Однажды гвардейцы сказали нам, что сегодня народ не сердится. Люди радуются. Они танцуют на улицах. Совсем скоро мы услышим это.
У Франции больше не было короля. Монархии пришел конец.
Отношение к нам изменилось. Больше никто не называл короля «сир». Слова «ваше величество» считались неуважением к нации. Бог знает, какое наказание это могло навлечь.
Мы больше не были королем и королевой. Мы стали Людовиком и Антуанеттой Капет.
Луи заметил:
– Это не мое имя! Это имя некоторых моих предков, но не мое!
Но никто не обратил на это ни малейшего внимания. С тех пор и впредь мы были семейством Капет, ничем не отличающимся от всех прочих, за исключением, разумеется, того, что нас держали под пристальным наблюдением, а народ продолжал оскорблять нас и угрожать нашей жизни.
Эбер испытывал наслаждение, оскорбляя нас. Он с величайшим удовольствием называл Луи «Капетом» и поощрял гвардейцев делать то же самое. Они зевали прямо нам в лицо, сидели перед нами, развалившись, плевали на наши полы – словом, делали все, что могли, чтобы напомнить нам, что нас лишили нашего королевского звания.
Но даже такое положение не продолжалось долго. Король все еще оставался символом. Все еще были люди, которые помнили о нас и втайне демонстрировали нам свое почтение, которое они не могли отбросить в сторону только потому, что им сказали, что мы уже больше не король и королева.
Теперь у нас осталось только двое слуг: Тизон и Клери. Тизон был злобным стариком. Он запугивал свою жену и заставлял ее шпионить за нами. Оба они спали в комнате рядом с той, которую я занимала вместе с дофином, поскольку я передвинула его кровать в свою комнату. Моя дочь спала в той же комнате, где и Элизабет. Стеклянная перегородка позволяла этим двоим видеть все. Мы не чувствовали себя в безопасности и знали, что за каждым нашим движением пристально наблюдают.
Король вставал с постели в шесть часов. Тогда Клери входила в мою комнату и причесывала меня, а также Элизабет и мою дочь. Потом все мы шли завтракать вместе с королем.
Мы с Луи давали сыну уроки, потому что Луи страстно желал, чтобы он не вырос невежественным. Он часто с грустью говорил, что не собирается допускать, чтобы образованием его сына пренебрегли так же, как его собственным. Особенно ему хотелось, чтобы дофин изучал литературу. Он заставлял его учить отрывки из Расина и Корнеля. Мальчик взялся за это с энтузиазмом. Но все это время за нами наблюдали. Помню, когда однажды я преподавала маленькому Луи-Шарлю таблицы, гвардеец, не умевший читать, выхватил у меня из рук книгу и обвинил меня в том, что я учу мальчика писать шифром.
Вот так мы проводили дни. Если бы не наше мрачное окружение, не этот постоянный надзор, думаю, я могла бы быть довольно счастливой, живя такой вот простой жизнью. Я чаще видела своих детей, чем если бы жила со всей пышностью в Версале, и любовь между нами все росла. Если я пишу о своей дочери не так много, как о сыне, то это не потому, что я меньше любила ее. Она была мягкой и ласковой от природы. У нее не было того необузданного темперамента, который был присущ ее младшему брату. Она очень походила на Элизабет и была одним из величайших утешений в моей жизни. Но поскольку Луи-Шарль был дофином, я постоянно находилась в состоянии тревоги о нем. Мне приходилось постоянно думать о его благополучии, поэтому он чаще присутствовал в моих мыслях.
Мы кушали, словно самая простая семья. Потом король дремал, как обыкновенный отец семейства, а я иногда читала вслух, обычно что-нибудь из истории. Элизабет и Мария Тереза принимались по очереди читать отрывки из более легких произведений, таких, как «Тысяча и одна ночь» или «Эвелина» мисс Берни. Король просыпался и загадывал загадки из «Mercure de France»[155]155
«Французский Меркурий» (фр.).
[Закрыть]. По крайней мере, у нас была семья.
Нам все время приходилось заниматься рукоделием, потому что мы с Элизабет должны были чинить свою одежду.
Однако каждый день нам приходилось выносить унижения. Нам постоянно напоминали, что мы – пленники, что теперь мы ничем не отличаемся от других. Фактически мы были даже менее значительными людьми, чем окружающие. Ведь наши тюремщики были, по крайней мере, свободными людьми. Тем не менее у нас были друзья. Тюржи, один из тех, кто обслуживал нас, был вместе с нами еще в Версале. Именно он открыл мне дверь прихожей под названием «Бычий Глаз», когда толпа гналась за мной по пятам. Он постоянно информировал нас о том, что происходило в окружающем мире. Мадам Клери, бывало, стояла под стеной Тампля и выкрикивала последние новости, чтобы мы могли знать о том, что происходит. Я обнаружила, что некоторые из охранявших нас людей, которые пришли сюда, полные ненависти к нам, теперь, после того, как они увидела нас всех вместе, склонились на нашу сторону. Своим поведением мы изобличали сплетни, которые они о нас слышали. Я показывала им вырезанные пряди детских волос и рассказывала, в каком возрасте они были, когда я выстригла у них эти локоны. Я перевязывала их надушенной лентой и немножко плакала над ними. Я часто видела, как при этом некоторые из этих людей с мрачными лицами отворачивались, растроганные.
Но ничто не оставалось статичным. Луи был прав, когда сказал, что они желают убить его, но у них есть какой-то другой план, позволяющий убрать его.
Мы узнали, что Луи должны судить за государственную измену.
Первым их шагом было лишить нас всех режущих инструментов – ножниц, ножей и даже вилок. Правда, нам разрешали пользоваться вилками во время еды, но их сразу же отбирали, как только мы заканчивали трапезу. Однажды вечером Луи сказали, что его отделят от нас.
Это был жестокий удар. Мы уже начали верить, что сможем вынести все что угодно до тех пор, пока мы вместе. Мы горько плакали, но это было бесполезно. Луи забрали от нас.
За этим последовали недели ожидания. Что происходило с ним? Я мало что знала об этом. Единственное, что мы знали, – это то, что король уже не был просто заключенным, находящимся под наблюдением. Он был обречен.
В течение всех этих холодных дней я ожидала известий. Иногда я слышала, как мой муж ходит взад и вперед по своим апартаментам, поскольку его заключили на этаже, расположенном под тем, на котором жили мы.
Двадцатого января ко мне зашел член Коммуны и сообщил, что я вместе с детьми и золовкой могу увидеть своего мужа.
Когда я услышала это, меня переполнили дурные предчувствия, потому что я догадалась, что это означало.
Они приговорили моего мужа к смерти.
Я не могу забыть ту комнату со стеклянной дверью. Возле печки стояли четверо охранников. Свет масляной лампы лишь слабо освещал комнату, но, когда я вошла в нее, держа дофина за руку, король поднялся со стула с камышовым сиденьем, на котором сидел, и, подойдя ко мне, обнял меня.
Я молча прильнула к нему. Что могли значить в такие минуты слова, даже если бы я могла произнести их?
Я видела, что Элизабет тихо плакала, а вместе с ней – и наша дочь. Дофин разразился громкими всхлипываниями, и я поняла, что больше не в состоянии сдерживать слезы.
Луи пытался успокоить нас всех. Сам он не выказывал особых переживаний, но величайшим горем для него было видеть наше отчаяние.
– Иногда случается так, что королю приходится нести наказание за преступления своих предков, – сказал он.
Я не могу забыть, каким он был тогда в своем коричневом сюртуке и белом жилете. Его волосы были слегка напудрены, выражение лица – почти извиняющееся. Ведь он уходил и оставлял нас одних в этом ужасном мире – вот о чем он беспокоился.
Пытаясь смягчить наше горе, он рассказал о суде, о том, как ему задавали вопросы, на которые он был не в состоянии ответить. Он сказал им, что никогда и никому не желал зла Он любил свой народ так, как отец любит своих детей.
Он был глубоко взволнован, когда говорил нам, что среди его судей был его кузен, герцог Орлеанский.
– Если бы не мой кузен, меня не приговорили бы к смерти. Его голос был решающим, – сказал он.
Он был озадачен, будучи не в состоянии понять, почему его кузен, который воспитывался вместе с ним, вдруг так сильно возненавидел его, что желал его смерти.
– Я всегда ненавидела его! Я с самого начала поняла, что он – враг! – сказала я.
Но мой муж мягко положил свою руку на мою. Он умолял меня не испытывать ненависти, а попытаться смириться. Он хорошо знал мой гордый дух. Однако я поняла одно: я буду счастлива, если смогу встретиться лицом к лицу со смертью так же мужественно, как он, когда придет мое время.
Бедный маленький Луи-Шарль понял, что его отцу предстояло умереть. Им овладел приступ горя.
– Почему? Почему? – сердито спрашивал он. – Ведь ты хороший человек, папа! Кто же желает убить тебя?! Я убью их, я…
Мой муж поставил мальчика у себя между коленями и сказал ему серьезно:
– Сын мой, обещай мне, что никогда не будешь думать о том, чтобы отомстить за мою смерть!
Губы моего сына сложились в ту упрямую линию, которую я так хорошо знала. Но король поднял его к себе на колени и сказал:
– Ну, давай же! Я хочу, чтобы ты поднял руку и поклялся, что выполнишь последнее желание твоего отца!
Итак, малыш поднял руку и поклялся любить убийц своего отца.
Пришло время, когда король должен был покинуть нас. Я прильнула к нему и спросила:
– Мы увидим тебя завтра?
– В восемь часов, – спокойно ответил мой муж.
– В семь! Пожалуйста, пусть это будет в семь!
Он кивнул и велел мне позаботиться о нашей дочери, которая упала в обморок. Мой сын подбежал к охранникам и стал умолять их отвести его к господам Парижа, чтобы он мог попросить их не допустить, чтобы его отец умер.
Я могла только взять его на руки и попытаться утешить. Я бросилась на кровать и долго лежала там. По обе стороны от меня были дети, а рядом с кроватью, преклонив колени, стояла Элизабет и молилась.
Всю ночь напролет я лежала без сна, дрожа в своей постели.
Рано утром я была уже на ногах и ждала его, но он не пришел.
К нам вошла Клери.
– Он боялся, что это слишком сильно огорчит вас! – сказала она.
Я села и стала ждать, думая о муже, о нашей первой встрече и о той, которая, как я теперь знала, была нашей последней встречей.
Я не замечала, как проходило время. Я оцепенела от горя. Вдруг я услышала грохот барабанов и крики людей.
Часовой под моим окном закричал:
– Да здравствует Республика!
И я поняла, что стала вдовой.