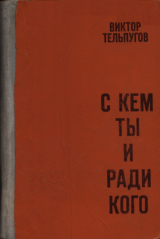
Текст книги "С кем ты и ради кого"
Автор книги: Виктор Тельпугов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
ИНТЕНДАНТ
«Красная стрела» уходит из Москвы поздно вечером. Семагин любит ездить этим поездом: соседи сразу же укладываются спать, и скоро оказываешься один на один с торжественным ритмом движения, который приворожил каждого человека с детства.
Семагин думал, так будет и в этот раз. Но с первых же минут выяснилось, что в купе собрались люди в прошлом военные – затеяли общий чай, пошли разговоры.
Добродушный усач выкатил из портфеля целую груду лимонов:
– Угощайтесь, славяне. С Ленинградского есть кто-нибудь?
– Я с Северо-Западного, – отозвался детина в пушистом свитере.
– Я с Калининского, – сказал Семагин.
Четвертый (он был намного старше любого из попутчиков) промолчал.
– А с Ленинградского никого? – усатый развел руками.
– Почему никого? Вы и есть с Ленинградского, – поправил его старик.
Все четверо рассмеялись.
– Да мы соседи, оказывается! Обратили внимание? – воскликнул тот, что с Северо-Западного. – Была бы карта, мы бы все это наглядно сейчас представили. По такому случаю неплохо бы…
– Золотые слова, – согласился ленинградец, – был бы тут старшина, все бы мигом образовалось.
– Я старшина, – не вставая, щелкнул каблуками Семагин, – время только позднее.
– Значит, не старшина уже, коли на время ссылаетесь. Вы что, забыли? Сам не сможет, другому прикажет: найти и доложить!
Разговор становился все жарче. Стали спорить сразу обо всем и, как это часто бывает у солдат, о том, что в конечном счете решило успех войны.
– Я думаю, ледовая дорога главное дело сделала, – убежденно заявил ленинградец. – Если б не она…
– Это верно, – поддержал его тот, что с Северо-Западного. – Но самое трудное сражение все-таки за столицу было. Вопрос как стоял? Или – или. Немец все силы собрал. Малейшая наша оплошность смерти была подобна. Согласны?
– Согласны.
– А вот всей этой битве одна высшая точка была.
– Какая же?
– За Наро-Фоминском. Там наш батальон выздоравливающих стоял.
Все опять рассмеялись.
– Вы не смейтесь, верно говорю.
– Батальон выздоравливающих? Сколько же было вас там, калек?
– Сколько бы ни было, а немец как раз тут и насел.
– И что же?
– Одни танки под рукой оказались…
– Ничего себе «одни»! Насмешил, нарофоминец, ну насмешил! Мы у себя месяцами танков не видели.
– Вы торопитесь: танки-то были фанерные.
Все с недоумением поглядели на нарофоминца.
– Фанерные?..
– Ну да, учебные.
– Вот оно что… – протянул усач. – Чего только не было на войне! Ну и как же вы?
– Сейчас самому даже не верится. Позатолкали друг друга в люки, скрипучие башни кое-как развернули и сидим.
– А он?
– Вот тут-то самое удивительное и началось. Не расчухал он, что фанера. Не уложилось у него. Раз десять на нас в атаку ходил и в самый последний момент откатывался: думал, психический бой навязываем. А мы только стволами шевелим, будто поближе подпускаем, чтобы прямой наводкой. Сами ни живы ни мертвы. Буквально ни живы ни мертвы, слышите?
– Трудно и представить, верно слово, – подал голос старик. – До вечера продержались?
– До утра даже. А утром настоящие подоспели. Командир-танкист шлем перед нами скинул, когда узнал, кому на смену пришел.
– Что ж, вы и впрямь молодцы, – сказал старик.
– А вы, папаша, где воевали? – обернулся к нему Семагин.
– Я далеко был в то время. Мы только-только двигались к фронту. Торопились, но дело медленно шло.
– Сапер? Артиллерист? Или царица полей? – снова спросил Семагин.
– Интендант.
– А… – понимающе протянул Семагин. – Ну что ж, и это неплохо.
Интендант промолчал.
– Каждый род войск на войне главным себя считает, – вставил слово усач.
– И интенданты? – вырвалось опять у Семагина.
– Без них тоже не сахар, – поддержал усача нарофоминец.
– А что, пожалуй, вы правы, – сдался Семагин, – Если была б горилка, мы бы и за интендантов выпили.
Он сказал это так, что интендант все-таки уловил намек: самый главный тот, кто идет в атаку. Все остальное постольку поскольку. Он и не спорил. Сидел в уголочке и внимательно слушал, как другие Москву и Питер от немца отбивали.
Уже почти под утро угомонились солдаты. Погасили верхний свет, чтобы вздремнуть часок-другой.
В наступившей полутьме возился только один старик интендант. Семагин, закуривая последнюю папиросу, вдруг увидел, что тот отстегивает от ноги протез – высокий, намного выше колена. Отстегнул, отдышался и тоже стал укладываться, тяжело опираясь то о полку, то о столик, по которому катались нетронутые лимоны.
– Вам помочь? – вскочил со своего места Семагин. – Что же вы не сказали?
– Нет, нет, дело привычное. Интендантское, – без всякой тени упрека вздохнул тот.
И снова начался приумолкший было разговор солдат. Двое спали. Двое разговаривали.
– Так вы действительно интендант?
– Самый настоящий.
– А где же вас так?
– Под Москвой.
– Вы же сказали, медленно дело у вас шло.
– Успели все-таки. Последние сто верст на своих на двоих. Эшелон разбомбило, но мы успели. Это я теперь не ходок, а тогда шагал будь здоров.
Старик помолчал и тоже закурил.
– А у меня к вам просьба. Можно? – сказал он тихо.
– Конечно…
– Им не будем все растолковывать, – кивнул он на спящих. – Ну, безногий и безногий. Не люблю я раны свои считать. Одним словом, между нами. Договорились?
– Договорились.
– Я нарочно встану завтра пораньше. Старики вообще рано встают.
Утром все четверо дружно шагали по перрону Московского вокзала Ленинграда.
Интендант шел, чуть отставая от попутчиков, и те совсем не замечали его хромоты. Ее и впрямь трудно было сейчас заметить. Только Семагин знал, чего это стоило интенданту.
СТАРЫЙ ДУБ
Несчастья одно за другим сваливались на плечи старого дуба. Из войны он вышел полным инвалидом – ствол его был исклеван пулями, тяжелая крона, срезанная не то миной, не то снарядом, валялась поблизости комлем книзу, так что издали можно было подумать – растет подле старого новый дуб. Но это только казалось. Скоро листья отшибленной кроны завяли, сделались жестяными и противно заскрежетали на ветру.
Дерево еще продолжало борьбу, как вдруг новая гроза пронеслась над ним. Гроза в полном смысле этого слова.
Среди белого дня небо вдруг почернело, опустилось, загромыхало, и раскроенный надвое могучим ударом ствол стал огромной, расщепившейся почти до самой земли рогатиной.
Эта последняя рана была смертельной, но люди, жившие по соседству со старым дубом и за войну вдосталь насмотревшиеся в глаза смерти, не хотели в это верить. Они притащили проволоку, веревки, жерди, вооружились баграми и лестницами. Дуб обнесли лесами.
Кто-то из суетившихся вокруг него то и дело покрикивал:
– Давай, давай! Спасай вояку!
Кто-то поддакивал:
– Склеим еще, оживет! Ну-ка!
Незнакомый человек мог, пожалуй, подумать, что тут идет строительство силосной башни. Во всяком случае, вряд ли кто-нибудь из посторонних сразу догадался бы о том, что здесь происходит.
Люди, только что вышедшие из войны, сами еще не залечившие как следует раны, боролись за спасение старого дуба, и каждый старался изо всех сил, у каждого был свой план, своя идея.
Пока одни туго-натуго стягивали большие и малые трещины, другие конопатили их, шпаклевали, третьи густо замазывали образовавшиеся швы корабельным суриком, целую банку которого невесть откуда прикатил к дубу бывший моряк Мелентьев.
Но, несмотря на все это, раненый все-таки умирал…
Казалось, уже никто и ничто не сможет ему помочь. Он, вероятно, так и ушел бы от нас – тихо и бесследно. Распилили бы дуб на дрова. Постепенно все трудней и трудней было бы повстречать в этих краях человека, помнившего историю старого дуба.
Только удивительно мудро и тонко кое-что устроено на нашей земле.
Проснулся я как-то утром, подошел к распахнутому окну и вижу: под искалеченным дубом ходит мальчишка – лет семи-восьми, не больше. Босой, оборванный, чумазый. Ходит, нагибается, что-то собирает в траве.
– Эй, приятель, что ты там ищешь?
– Желуди.
– Желуди? Зачем тебе?
– А так… Может, завтра в школу снесу…
Пока я спускался, чтобы поговорить с ним, его и след простыл.
В глубокой задумчивости стоял я под деревом, гремевшим над моей головой красной жестью последней листвы. Потом тоже нагнулся, поднял несколько нагретых на осеннем солнце желудей, положил в карман.
А старый дуб, видно, понял нас, меня и мальчонку, – так и сыпал напоследок свои все-таки созревшие плоды, так и сыпал…
Бронзово-золотой становилась земля под их щедрым, тяжелым дождем.
МОГИЛА УЧИТЕЛЯ
Памятник на могиле учителя Бориса Федоровича Воронихина, расстрелянного фашистами, строг и прост. Может быть, даже слишком прост: деревянная пирамида, вырезанная из пятиклейки красная звезда…
Время не властно над светлой памятью подвига, но с фанерой и масляной краской оно расправляется безжалостно. Впрочем, этого совсем не замечаешь: за голубым частоколом – свежие живые цветы. Всегда свежие и всегда живые – в любое время года. Вот и сегодня – на дворе уже октябрь, а земляной, размытый дождями холмик весь усыпан бело-розовыми лепестками. Я не знаю названий этих цветов и не могу понять, откуда они тут берутся в эту ненастную пору, но уверен в одном – приду сюда через месяц, через два, хоть в самую лютую стужу, даже и тогда цветы, целые россыпи цветов опять найду под фанерной звездой.
Могила находится в лесу, далеко от проезжих дорог, но это не мешает людям постоянно приходить сюда.
Во все стороны света, как продолжение отточенных красных лучей звездочки, разбежались тропки-дорожки. Они ведут в Старую Руссу, в пионерский лагерь «Маяк», в санаторий «Капраново», в лесное хозяйство Чирсково, в совхоз «Октябрь».
Люди здесь кругом живут давно другие, не те, какие были тут в страшную осень сорок первого, но любой, и старый и малый, знает о подвиге Воронихина, принявшего смерть, но не выдавшего врагу имен коммунистов «Октября».
Нескончаем поток людей, беспрерывна эстафета цветов.
Иногда мне кажется, что сама русская природа делает все, чтобы увековечить память о подвиге учителя. Как заботливо и тонко подбирает она краски, как низко склоняет ветви деревьев, как тихо и задумчиво шелестит травой…
В этой тишине думается о многом. В этом прозрачном воздухе видится далеко.
А когда заприметишь у могилы два крепко обнявшихся старых дерева, тебя охватит чувство, может быть, и вовсе еще не испытанное. Я лично за всю свою жизнь нигде не встречал таких деревьев, вековая сосна и вековая береза подошли друг к другу вплотную, встали ствол к стволу и замерли, как на последнем рубеже. Ветви их переплелись так тесно, что из них образовалась одна общая крона.
Где-то я читал, что деревья в борьбе за место под солнцем стремятся безраздельно властвовать над землей, из которой берут жизненные соки. Не знаю, верно ли это вообще, но в отношении сосны и березы, осеняющих могилу учителя Воронихина, это абсолютно несправедливо.
Я знаю, я вижу это всегда: в бурю и дождь, в снег и буран они стоят друг подле друга, крепко и надежно помогая одно другому.
Спокойно, наверное, спится старому учителю в торжественной сени их согласно шелестящих ветвей!..
ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ
Детский сад «Октябренок» семенит по лесным дорожкам возле деревни Рыкачевки. Как обычно, иду по его следам. Продираюсь сквозь заросли, чтобы поближе подойти к пятой группе и тихонечко (день сегодня опять не родительский), из засады поглядеть на свою Иринку.
К этому тут уже все привыкли. Воспитатели, обезоруженные отцовским упорством, не очень ругаются. Мною в точности изучены все пути пятой группы: знаю, где, когда, в какой час ее лучше всего высмотреть.
Но сегодня мне положительно не везет. Целое утро брожу по лесу, обошел все заповедные уголки, а группы и след простыл. Позабыв о всякой предосторожности, окликаю уже каждого встречного:
– Пятой случайно не видели?
– Пятой? Постойте, пятой, пятой… А на Золотой поляне были?
– Был.
– Тогда у Синего ручья.
– И у Синего нет.
– Странно. А может, у них урок какой? Музыка или рисование…
Усталый возвращаюсь ни с чем.
По дороге домой решаю свернуть к братской могиле, что по ту сторону Рыкачевки. Я люблю там бывать – могила всегда ухоженная, всегда в цветах. Ограда вокруг деревянная, совсем небогатая, но так тщательно выровнена чьей-то заботливой рукой, что поневоле залюбуешься.
Только на цоколе пирамиды из бетона не выбито ни одного имени.
Могила неизвестных солдат.
Сколько их? Пятеро? Или в сто раз больше? Этого уже не узнать никогда. А время шагает и шагает. Четверть века уже позади. Вот как быстро шагает время…
Скоро Иринка моя подрастет. Непременно расскажу ей о парнях, чьи имена неизвестны. Пусть тоже услышит про ту войну. Не сегодня, конечно, через несколько лет, как приспеет пора учиться…
Подымаюсь на взгорок. Передо мной над деревьями возникает вершина серой пирамиды. Но что-то удивительно тихо вокруг. Обычно здесь полно пионеров из окрестных лагерей, а сейчас ни единого возгласа. Лишь едва плещутся колеблемые июльским ветром листья и где-то чуть слышно пошевеливается трактор.
В глубине души я даже рад этому. Давно хочется побыть у солдатской могилы совсем одному.
Ускоряю шаг, но чем ближе, тем чаще в просветах между стволами мелькают ребячьи фигурки – одна, другая, третья. Целый отряд совсем крохотных, каких я еще не встречал тут ни разу.
Выхожу на поляну и вижу: около двадцати малышей облепили ограду могилы, а четверо встали внутри – по углам – и замерли в почетном карауле.
Всматриваюсь внимательно, верю и не верю своим глазам.
– Неужто пятая?..
– Пятая, – шепотом отвечает мне воспитательница, которой я и не заметил вначале.
Она подносит палец к губам; нельзя, мол, так громко. Я и сам понимаю уже, что нельзя, и тоже перехожу на шепот:
– А моя? Что-то моей не видно? Не взяли небось самых малявок-то?
– Ваша с Воробьевой Катей венок плетет. Во-он там, за кусточками. Видите?
Быстро иду через поляну, куда показала мне воспитательница, а навстречу мне девочки с готовым уже венком. Серьезные, сосредоточенные, как-то сразу вдруг повзрослевшие.
Венок держат ровно, торжественно, несут аккуратно, словно боятся расплескать ослепительную голубизну его васильков и колокольчиков.
Поравнявшись со мной, молча кивают на ходу и спешат к пирамиде…
БИЛЕТ НИКИШИНА
После переезда на новую квартиру Егор стал редким гостем у Никишина. Но когда выберется на часок-другой, как в прежние времена, подолгу рассматривает библиотеку друга. Каких только редкостей тут не встретишь, на какие только сокровища не набредешь!
Сегодня, обследуя полку за полкой громоздкого, во всю стену шкафа, книголюб натолкнулся на нечто и вовсе его поразившее. Аккуратно обернутая в целлофан, крохотная, плоская, как тополиный листок, книжечка выскользнула из рук и улетела под шкаф. Когда Егор извлек ее оттуда, то не сразу и сообразил, что это… комсомольский билет. С пожелтевшей фотографии, чуть-чуть улыбаясь, откуда-то издалека смотрели на него знакомые и в то же время незнакомые глаза. Лицо молодое, такое молодое, что Егор даже сощурился, отвел руку с билетом подальше. Но ошибиться было невозможно – это он, друг его юности, Васька Никишин. Его улыбка, его глаза. И фамилия разборчиво выведена черной тушью.
– Вась! Неужели?!.
Василий был чем-то занят в соседней комнате и не услышал. Егор продолжал рассматривать удивительную находку в одиночестве. Он не спеша стал читать и перечитывать первую страничку – от убористой строчки «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» до хитроумной завитушки-подписи районного секретаря.
За этим занятием и застал Егора Никишин.
– А это что за библиографическая редкость? – Никишин взял книжечку из рук приятеля. – Неужто в шкафу раскопал? Представить не можешь, как я рад! Целую вечность его не видел! Просто так в книгах и стоял, да?
– Просто так и стоял, зажатый другими древностями.
– Ну, ну, поаккуратней с формулировками!
– Прошу прощенья. Давай-ка глянем, как здесь дело со взносами обстоит? Глянем?
Приятели с самым серьезным видом уставились в бледно-голубые странички, испещренные цифрами, штемпелями, иероглифами подписей.
– Так, так, так… – басил Егор. – С тридцать восьмым ты, предположим, в расчете.
– Это я на «Серпе» работал еще.
– На «Серпе»? После ФЗУ?
– Точно.
– Прекрасно. А что делается в году одна тысяча девятьсот тридцать девятом?
Егор перевернул страничку и свистнул от удивления:
– Постой, постой, Василь Василич, тебя в должности понизили, что ли? Или вовсе уволили? Платил с восьмисот, а то и с тысячи, и вдруг…
– Ладно, ладно, дальше поехали. Забыл, сколько рядовой необученный получал? На табачок и взносы.
– Почему забыл? Просто вспомнить приятно – все-таки молодость. Солдатская, неуютная, может быть, но молодость, черт нас подери!
– То-то.
– Ну, с этим ясно. Сороковой? Ага! Тут, я вижу, ты в гражданку вернулся. Что ж так быстро, товарищ рядовой?
– Почему в гражданку? В первой учебной роте два годочка оттопал. Потом комсоставом заделался.
– Ах, вот оно что. Да, да, да… А вот и сорок первый, самый серьезный. Ну, тут все в ажуре вроде. И в сорок втором тоже, и в сорок третьем – до июля месяца включительно. Потом ты, товарищ командир, выбыл из комсомола. За неуплату членских взносов? Или по возрасту? Набрал в рот воды твой билетик – одни пустые листочки пошли..
Оба расхохотались. Потом вдруг приутихли. Егор, похлопав приятеля по плечу, сказал:
– Хорошо все-таки у Светлова: «и о том, что молодость уйдет, комсомольский маленький билет мой каждым членским взносом вопиет». Справедливо, а?
– Я больше «Каховку» люблю. В «Каховке» каждая строка – молодая.
– Как мы с тобой?
– Хотя бы. И даже еще моложе.
– Нет, правда, ты прислушайся только: «Комсомольский маленький билет мой…» Кстати, почему это он такой крошечный?
– Просто ты давно не держал в руках комсомольского билета.
Егор взял билет Никишина, повертел, повертел и снова, теперь уже совершенно безапелляционно, заявил:
– Поля отрезаны.
– Дотошный ты все-таки человек, Егор. Я бы таких ставил только в секретари, причем в бессменные.
– Опоздал с предложением – почти целых пять лет секретарствовал. Ты просто запамятовал важнейшую страницу в истории комсомола.
– Помню, помню. Это ваша светлость основательно подзабыла этапы моей жизни и деятельности. А я-то помню – секретарствовал. В институте. И как перед секретарем могу уж так и быть покаяться: точно, стриганул я однажды свой билетик. А вот ты догадайся – зачем?
Егор помолчал немного, потом спросил:
– В разведке бывал?
– Кто не ходил в разведку, тот войны не нюхал, я так считаю. А ты?
– Тоже.
– Ходил или считаешь?
– И считаю и ходил. Стало быть, билет обкорнал, чтобы всегда при тебе был? Чтобы в случае чего спрятать было легче? Так, что ли?
– Свидетельствую: голова у тебя еще светлая. Мало того что обкорнал, я его еще в кирзовое голенище зашил.
– Это что же, по уставу?
– Про устав меня только в Советском райкоме ВЛКСМ города Москвы спрашивали, когда принимали. Под городом Клинском про устав уже не вспоминали. К тому же я сам секретарем был вроде тебя. И взносы сам у себя принимал.
Никишин показал Егору свой многоэтажный автограф в колонке «Подпись секретаря».
– Убедился?
– Так точно. Значит, и в разведку с ним, в любое пекло?
– Сам знаешь.
Никишин рассказал другу, как однажды, находясь в окружении, он чуть не угодил в руки немцам и уже было разулся, чтобы разрезать сапог, но в последнюю минуту передумал, решил рискнуть и теперь, конечно, нисколько в этом не раскаивается, хотя тогда, сказать по правде, было сложновато.
– Мы накануне в деревню одну зашли, от Клинска верстах в сорока. Раненым перевязку хотели сделать, обсушиться малость. Бабы нас на околице встретили: «Родимые, касатики, вертайтесь скорее в лес: он на дню раз по десять стучит в каждую избу, партизан ищет. За школой повесил девять красноармейцев и одного в штатском. Сказал, если снимем – перевешает всех до единого. Вертайтесь в лес, мы вам сами кой-чего соберем – и поесть и портянок сухих». Мы ушли, а пока дожидались баб в лесу, все-таки послали разведку – проверить, так ли все, может, думаем, у женского пола глаза велики от страха.
– Вернулись наши – точно, говорят, девять и один. У каждого к руке комсомольский билет привязан.
– Та-ак… А бабы? Принесли, чего обещали?
– Ночью уже. И пожевать, и портянок, и самосаду еще. «Вот вам, сыночки, на дорогу». Только дорога та недлинной вышла совсем.
– Накрыли?
– Нет. Партизан повстречали. Целый отряд. Вооружение – во! Вместе в деревню воротились. Тех десятерых с воинскими почестями земле предали и с неделю оборону держали, пока сил, одним словом, хватило. А бабы, да старики, да дети вместо нас в лес. Им и десять комсомольских билетов отдали, сохранить велели.
– Сохранили?
– Думаю, да.
Егор и Никишин помолчали. Никишин достал из ящика стола сигареты, закурил, протянул пачку Егору:
– Кури.
– Спасибо. Ты же знаешь, я давно не курю.
– И махорку не стал бы?
– Ну, что говорить про махорку. Махорки не сыщешь теперь днем с огнем.
– Значит, закурил бы все-таки?
– Представь, под такое настроение затянулся бы разок.
Никишин выдвинул из стола еще один ящик, подал Егору сделанную из пулеметной масленки табакерку:
– Много лет не трогал, берег. Так и быть разговеемся ради такого случая.
Он погасил сигарету и вместе с Егором стал неловко свертывать «козью ножку».
Они сладко курили несколько минут, погруженные каждый в свои мысли. Два узких, едва прочерченных в ранних сумерках дымка где-то под потолком свертывались в один – размытый, как от костра, постепенно заполнивший все пространство высокой комнаты.
Докурив по фронтовой привычке до самых пальцев, Никишин спросил Егора:
– Поверишь или нет? Та самая махорка!
– Ей-богу?
– Ей-ей! Меня в этой деревне ранило. Партизаны спасли. Из санбата в санбат, из госпиталя в госпиталь. Ну там чего другого, а табачку в то время еще хватало. Дай, думаю, сохраню самосадик. Просто так, на память о добрых людях.
– А билет?
– А вот билет уберечь трудней, чем в бою, оказалось. Сапоги с меня сняли сразу, как на врачебную перевязку потащили. Возвращаюсь – нет сапог. Маршевикам, говорят, приготовили, тем, что с колес прямо в огонь.
– Ну и как же ты? – опять перебил Егор приятеля.
– Всю ночь в каптерке рылся, все вверх дном перевернул. Санитар мне в помощники вызвался – толком никак не разберется, в чем дело: я тебе, дескать, парочку подберу, будь здоров! Хромовые! Комсоставские!
– Отбился от хромовых?
– Как видишь. – Никишин озорно подбросил на ладони серую книжечку. – И кирза, она, знаешь, как-то привычней нашему брату. Опять же, не боится сырости.
– Ни черта вообще не боится!
К Егору незаметно возвращалось его обычное веселое расположение духа. С напускной серьезностью он проворчал:
– А с билетиком своим ты, товарищ Никишин, поступил все же неправильно, хотя он у тебя и счастливый.
– Как же я должен был поступить?
– Очень просто. Когда в партию тебя принимали, обязан был сдать в райком, я так разумею.
– Ты в этом уверен? – в тон ему спросил Никишин.
– Абсолютно.
– Тогда слухай сюда, как говаривал старшина наш, Фоменко Иван Федотович. С внучонком моим в личном знакомстве состоишь?
– С Кирюхой?
– Вот именно. С Кириллом Николаевичем Никишиным.
– Весь в деда пошел, две капли воды!
– Согласен. Так вот, он нам со старухой еще в прошлом году рассказал, как был у тебя в гостях и как ты ему пионерский галстук показывал. Ну мы, конечно, – глаза большие, спрашиваем, чей же это галстук, мол. А Кирилл Николаевич, представь, даже обиделся за тебя. «Как это чей? Дяди Егора, ясное дело!»
Егор посмотрел на Никишина, тихо задумчиво рассмеялся, глубоко откинулся в кресле.
– Выдал, значит, меня, постреленок?
– Мало того, Егор Константинович: он про твой галстук на торжественном собрании в школе докладывал.
– Честное слово?
– Какое ж еще?
– Я ж говорю, постреленок! Как человека его просил, чтоб строго между нами осталось. Когда увидишь, намекни ему, Василий, недоволен, мол, дядя Егор, не положено так между интеллигентными людьми.
– Это ты уж сам давай регулируй с ним отношения. Другое могу намекнуть: пусть тебя в свою школу вытащит. Я ходил, теперь твоя очередь. Тебе есть чего порассказать ребятам. А за то, что галстук свой сберег, никому не отдал, прими, пионер, благодарность от старого комсомольца. Давай пять!








