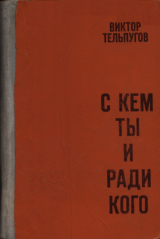
Текст книги "С кем ты и ради кого"
Автор книги: Виктор Тельпугов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
– Куда же ты идешь?
– Я гуляю, я никуда не иду.
Слободкин увидел на груди девочки подвешенный на веревочке ключ.
– Это от дома?
– От дома. Мне откроет дядя Саша. У нас замок тугой.
– А ты есть хочешь?
– Хочу.
Слободкин достал из кармана печеную картофелину – одну из нескольких, которыми снабдил его на дорогу Скурихин. Девочка робко протянула руку, но есть стала сразу же – жадно, прямо с кожурой. От этого губы, нос и щеки у нее сделались такими черными, что веснушки сразу исчезли.
– Что ты так смотришь? – спросила она Слободкина.
– Веснушки твои считаю.
Улыбка на мгновение преобразила вытянутое детское личико.
Слободкин положил в ладошку Сони еще одну картофелину.
– Ешь.
– Это я мамке оставлю. Можно?
– Можно.
– А ты еще придешь?
– Постараюсь…
Слободкин постоял несколько минут, не зная, как закончить разговор, потом, сказав девочке, чтоб ни в коем случае не отходила далеко от дома, попрощавшись с ней, как со взрослой, за руку, пошел своей дорогой.
6
Сергей не узнал завода. Всюду еще были видны следы разрушений, но почти на каждом шагу попадались ему рабочие с носилками и лопатами в руках. Растаскивали завалы, засыпали воронки, ровняли дорогу. Слышался чей-то смех. Где-то сквозь шум работы попробовала было прорваться песня, правда, сил у нее не хватило и она заглохла так же неожиданно, как началась. На покосившемся столбе колотился квадрат фанеры, по которому наискось углем было написано: «Все на субботник!»
– Разве сегодня не воскресенье? – спросил Слободкин каких-то парней, тащивших навстречу ему тяжелое бревно.
– Понедельник! – не очень приветливо отозвался один из них.
– А почему же субботник?
– Почему, почему… Ты что – с неба свалился? Точно, с неба! Васька, это ж парашютист из девятого! Гляди-ка, на пользу пошла больница!
Ребята сбросили с плеч бревно.
– Жив, значит?
– Оклемался.
– Ну, давно бы так. Заждались тебя в твоем девятом. Токарь все-таки.
– Что нового на заводе?
– Бомбить стал меньше. План перевыполнили. Вот и все новости, пожалуй. Ну нам работать пора. Привет!
Ребята подняли бревно. Уже на ходу один из них обернулся и крикнул Слободкину:
– «Крокодил» вон возле главного корпуса вывесили, почитай, все узнаешь.
Сергей еще издалека заметил фанерный щит, в центре которого красовался разрисованный лист ватмана. Ускорил шаг, подошел вплотную. Среди множества рисунков особенно выделялся один: поднявшийся во весь рост крокодил в одной лапе держал букет цветов, в другой отточенные вилы, три острия которых под кистью изобретательного художника образовали букву «Ш» в заголовке – «Шагай вперед к победам новым!» Рядом с рисунком – стихи:
Шагай вперед к победам новым
Вот с этим знаменем в руках.
В труде упорном и суровом
Шагай – перед тобою враг,
Трудись, усталости не ведай,
Громи врага штыком, трудом,
Чтоб за победою победа
Входила в наш советский дом!
Слободкин с интересом стал рассматривать рисунки. Это были дружеские шаржи на людей, среди которых встречались знакомые ему рабочие, мастера, инженеры. Он узнал братьев Николая и Алексея Грачевых, сборщиков из десятого цеха, ветерана Сергея Сергеевича Степичева – лучшего на заводе регулировщика. И с особой радостью – своего мастера. Внешнее сходство было поразительным, несмотря на то, что худая, тщедушная фигура Каганова превратилась по воле художника в богатырскую, закованную в доспехи средневекового рыцаря. Бок о бок с этим богатырем, гордо подбоченясь, стоял другой – тоже в латах, в кольчуге и шлеме. Стихи, посвященные рыцарям, как и все предыдущие, были написаны красной тушью и выдержаны в приподнятом тоне:
Ткачев, Каганов, ваши руки
Пожать бы мог и Фарадей!
Вы – кладезь творческих идей, —
Сказал бы этот муж науки!
Правда, Слободкин еще не знал, кто такой Ткачев, но человек он, судя по всему, уважаемый. «А может, в нашем цехе работает? Надо будет обязательно спросить у Зимовца или даже у самого мастера».
Почти весь номер «Крокодила» был заполнен веселыми шаржами. Только в самом конце прочитал Сергей несколько ядовитых строк. В них прозой, перемешанной со стихами, говорилось о том, что «ночные смены до сих пор продолжают оставаться узким местом и надо наводить в них строгий порядок». Тут рисунка уже не было, и текст был написан не красной, а черной тушью, очевидно, для того, чтобы подчеркнуть отрицательное отношение редакции к позорному явлению:
У нас теперь одна забота,
Чтоб лучше фронту помогать.
Ночная смена – чтоб работать,
А не затем, чтоб сладко спать!
«Вот это совсем толково! Молодцы заводские газетчики, – подумал Слободкин, – в сатире кое-что получается. Хвалят наивно, иногда без меры (он опять вспомнил заметку о своих злоключениях у холодильных камер), а стружку снимают неплохо!»
Под всеми рисунками и текстами Слободкину бросилась в глаза старательно выведенная крупным курсивом строка – «Орган парткома завода. Выходит по пятницам». Слободкин удивился: «Каждую неделю выпускают «Крокодил»? Это же здорово! Значит, нормальная жизнь налаживается!»
Сергей зашагал по заводскому двору быстрей. Дойдя до своего девятого, он и вовсе повеселел. Сейчас увидит всех – Зимовца, Каганова, Баденкова. Соскучился без них. И без работы тоже. Кожа на пальцах стала до противности белой и тонкой. «Белоручка! Поглядел бы сейчас на меня кто-нибудь из роты. Кузя или Брага, например! Или, еще того пуще, ротный поэт Калинычев. Что сорвалось бы с его пера? Наверно, что-нибудь вроде облетевшей всю бригаду, но, слава богу, нигде не напечатанной частушки, сочиненной в тот день, когда я побоялся совершить свой первый прыжок с парашютом и был «привезен» обратно на землю».
Слободкин думал сейчас об этом спокойно. Потому что тогда же, вскоре после своего позора, прыгнул все-таки и больше уже никогда не показывал своей слабости. Даже самому себе не сознавался больше, что дрейфит, выходя на крыло самолета. Но Калинычев, конечно, силен! Классика в перелицовку пустил, лишь бы похлеще разделать товарища. Наверняка были бы нынче зарифмованы белые ручки! И опять, конечно, вполне справедливо. Куда денешься? Все воюют, все работают, а Слободкин то ранен, то болен, то лечится, то выздоравливает…
– Ага, попался! – Холодные, цепкие пальцы плотно, как противогазная маска, залепили щеки и глаза Слободкина, запрокинули назад его голову.
– Зимовец, ты, что ли?..
Слободкин еле вырвался из объятий друга.
– А ты ничего, Слобода! Округлился. Сколько мы не виделись? Месяц? С гаком? И сколько в гаке?
– Мне самому гак показался длинней месяца.
– Молодец, что духом не пал.
– А зачем падать? Я могу еще пригодиться кому-нибудь.
– Еще бы! Здесь такие дела, Слобода! Вчера на митинге директор говорил: знамя ГКО нам присудили. Государственного Комитета Обороны! Как черти вкалывали все это время – в каждом цехе, в каждой бригаде. А теперь и подавно дадим духу: знамя!..
Зимовец схватил приятеля за руку, повел в цех. Первым попался им на глаза Каганов.
– Слободкин?.. Здравствуй! Ну, как оно? Приступаешь? Второй раз в мое распоряжение и второй раз вот как вовремя!
– Опять в морозилку?
– Что ты! Мы с этой проблемой теперь по-другому расправились. У главного технолога сто совещаний прошло, сто заседаний. Полная техническая революция! А станок твой опять ржавеет… Кого только не приспосабливали к нему, кого только не сватали!
– Совсем, наверно, разладили? Хуже всего, когда много хозяев.
– Теперь один будет. – Каганов осмотрел Слободкина со всех сторон и похлопал его по плечу. – Читал газеты? Как тебя расписали-то! А? «Подвиг Слободкина»…
– В газетах или в газете? – мрачно спросил Слободкин.
– Именно в газетах: и в нашей заводской, и даже в «Комсомолке».
– А я про вас в «Крокодиле» прочел, – сказал Слободкин, чтобы скорей переменить тему разговора. – Хороший стих сочинили. И нарисовали – копия! Кто там рядом с вами, забыл?
– Как – кто? Ткачев Лева. Лев Иваныч, инженер-технолог. Только не он со мной, а я рядом с ним, – поправил Каганов, – это не одно и то же, понял?
– Не очень, – сознался Слободкин.
– О Ткачеве когда-нибудь узнает весь мир. Он тут под бомбами до такого додумался, закачаешься! Изобретение века!
– Теперь уже совсем непонятно.
– Видел ли ты, чтоб в плохую погоду во время ночной бомбежки навстречу «юнкерсу», несущему бомбы, поднимался истребитель?
– Видел. «ЯК-1».
– Правильно, отдельные случаи есть, не спорю. Но при нынешнем уровне техники истребитель, даже самый первоклассный, ночью почти беспомощен. Все гироскопические приборы, какой бы идеальной конструкции они ни были, обладают существенными погрешностями. Давно уже возник вопрос, может ли летчик без ориентации на небесные светила и земные ориентиры получать точные показания горизонта, азимута, скорости, местоположения своего самолета? Оказывается, может! Теоретически это Ткачевым уже обосновано на все сто. Дойдет дело и до практики. Вы поняли?
– Только самую малость, – сказал Слободкин.
Зимовец отрицательно покачал головой.
– Одним словом, будут, ребята, истребители наши летать и драться в любую погоду, в любых условиях! А больше ничего сказать вам не могу. Штука эта, понятное дело, строго секретная. Так что сугубо между нами. – Каганов внимательно посмотрел на приятелей – сперва на одного, потом на другого. – Усвоили?
– Это понять в состоянии. Верно, Зима? – спросил Слободкин.
– Вы хорошо объяснили, научно, – согласился Зимовец. – В любую погоду летать и драться – это здорово! Мечта каждого летчика, по-моему. Вы не слышали, как они зубами скрипят?
– Кто? – удивленно спросил Каганов.
– Ребята с «ястребков». Со мной лежал один в госпитале. Все мне спать не давал по ночам. Растолкаю, бывало, его: «Не скрипи, говорю, страх берет». Он полежит, полежит тихо и опять как ножом по сердцу. Утром бледнющий, словно его только что привезли, а уже месяц со мной валяется, с лишком. Врачи головами качают, понять не могут. «Что, говорю, с тобой, кореш?» – «Сон, отвечает, страшный видел. Будто подняться никак не могу». Я ему в ответ: «Плюнь ты на все, подымайся, ходи, тебе ясно сказано, – можно!» А он: «Встать-то дело нехитрое. Покурю вот и встану. Взлететь не могу, понимаешь? Они в любую ночь надо мной бомбы волокут на Москву, а я к земле приколочен. Командир полка сам решает, кого выпускать и в какую погоду…»
– Вот-вот, – оживился Каганов, – таких «приколоченных» сколько угодно. Летчики-то они прекрасные – техника от них отстает. Сейчас на заводе все это поняли. Заработала мысль, как никогда. Одних рацпредложений – гора! Разбирать не успеваем в бризе. Двое рабочих на сборке новый способ нанесения светомассы придумали – поразительный. Ни ударов, ни воды не боится, никакая коррозия не берет. Простые рабочие.
– Жоголев и Ручьев, – уточнил Зимовец.
– Правильно, Николай Васильевич Жоголев и Николай Емельянович Ручьев. Их теперь все на заводе знают. Сам директор при встрече земной поклон отвешивает. Из главка телеграмма пришла – поздравляют, премируют, желают новых успехов. А что до Ткачева, то он вообще молодец. Когда-нибудь это все узнают и оценят. Но вернемся, что называется, с небес на землю. На чем мы остановились? Ах да, на заметках в газетах.
Зимовец перебил Каганова:
– Теперь Слобода письма начнет получать от девчат. Со всего Советского Союза! Получаешь уже? Признавайся.
– Письма?.. – многозначительно спросил Слободкин и с укором посмотрел ь глаза приятелю.
Ничего не подозревавший Каганов рассмеялся:
– Какая-нибудь энтузиастка уже ходит сейчас вокруг завода. Берегись, солдат, опомниться не успеешь, в женихи попадешь.
Зимовец, видя, что Слободкин нахмурился, заговорил о другом:
– Савватеев справлялся о тебе несколько раз. Ты ему кружок парашютный обещал организовать?
– Обещал.
– Желающих, говорит, много. И ребята и девчата записываются. И комсомольцы и беспартийные…
– Я свои обещания привык выполнять, – хмуро сказал Слободкин.
– А ты не злись. Все, что было в моих силах, я сделал. Весь обком на ноги поставил. Весь сектор учета. Ищут.
– Так кого же все-таки? Обком? Или сектор?
– Я сказал уже тебе: злиться не на кого.
– В кружок-то хоть записался, по крайней мере?
– Запишусь.
– Вы о чем, братцы? – спросил ничего не понявший Каганов.
– Кружок парашютистов будет у нас на заводе. Слободкин – руководителем.
– А… Ну что ж, неплохо, отлично даже…
– Товарищ мастер! Вас главный диспетчер вызывает, – крикнула какая-то девушка, выбежавшая им навстречу из-за штабелей ящиков.
Каганов устало вздохнул.
– Никогда не дадут поговорить спокойно. Так вот, Слободкин, кружок – дело все же десятое. Во-первых, станок, во-вторых, станок и, в-третьих, тоже он. Это я совершенно серьезно.
Откровенно говоря, Слободкину показались обидными эти слова.
– Неплохой человек Каганов, да узковато смотрит на некоторые вещи, – проворчал он, когда мастер ушел.
– У каждого своя забота. Первое место, которое завоевал цех, у него вот тут сидит, – Зимовец похлопал себя по загривку. – Его художник в рыцарских латах изобразил, а рыцаря этого на каждой летучке знаешь как драят? Из-под доспехов тех только перья летят! Ощиплют, как куренка, снова латы напялят до следующей летучки-вздрючки. Так что ему парашютом голову не забивай пока.
– А тебе?
– Запишусь, запишусь, сказал ведь. Не знаю только, сам-то найдешь ли время для занятий? Спины разогнуть не дадут, учти. Вот, полюбуйся на своего красавца!
Они подошли к токарному станку, который стоял посреди черной лужи. Его части были снова густо покрыты ржавчиной. Ключ торчал прямо в патроне. Дверца тумбочки висела на одной петле.
Слободкин выругался.
– Я же сказал тебе, работенки хоть отбавляй, – Зимовец провел пальцем по ржавчине.
– Разве о «работенке» речь? Станок до чего довели!
– Кругом протекает. Крыша продырявлена, – как бы оправдываясь за кого-то, сказал Зимовец. – Решето, а не железо. Ты же сам знаешь, почти каждую ночь были бомбежки. Хорошо, до конца не спалили. Теперь чуть тише стало.
Сергей слушал Зимовца и словно не слышал. Он уже принялся чистить станок.
– Ну ладно, я потопал, – сказал Зимовец, – в обед увидимся. Кстати, столовка теперь не то, что тогда. Справляется. Город дровец подкинул.
Не успел Слободкин привести в порядок станок, как со всех концов цеха потянулись к нему бригадиры с нарядами. На углу каждой бумаги размашистым почерком Баденкова было начертано «Срочно»…
Слободкин вбил в крышку тумбочки дюймовый гвоздь и на него стал накалывать бланки нарядов, чтобы не сбиться, не напутать чего-нибудь.
Стопка бумаг росла и росла, работа, наоборот, едва двигалась. Резцы то тупились, то вовсе ломались, то никак не хотели закрепляться в нужном положении. Руки за время болезни совсем отвыкли от работы, не желали слушаться, дрожали. Слободкин понял, что с треском проваливается, не справляется с возросшим темпом работы цеха.
Шел час за часом, голубые квадраты неба на суппорте очищенного станка давно стали серыми, едва различимыми, а Зимовец все не появлялся. Бригадиры же народ замотанный, с ними не поговоришь, не посоветуешься. «Слободкин, привет!», «Давай, давай, Слободкин!» – и дальше всяк по своим делам. Каганов тоже, как ушел, так больше и не вернулся. Только сквозь шум мотора из глубины цеха иногда доносился до Слободкина пронзительный девичий голос:
– Каганов, к начальнику! Каганова к директору! Срочно в партком Каганова!..
Кажется, никогда в жизни не ждал Сергей обеда с таким нетерпением, как сегодня. Есть ему вовсе не хотелось, хотя за полдня во рту еще крошки не было. Просто надо было отдышаться, прийти в себя, потом попробовать как-то по-иному организовать свой труд. Даже в десанте во время изнурительных марш-бросков не мечтал он об отдыхе так, как сейчас. Там иной раз в болото падал от усталости. На замшелую кочку, как на подушку головой. Тут посреди нефтяной лужи готов был растянуться и не двигаться. Там командир, бывало, только глазом поведет, силы сами откуда-то являются. Здесь командира рядом не было. Цеховому начальству не до него, а Зимовец пропал без следа – несознательный элемент. Да и что он смыслит, Зимовец, в токарном деле? И Каганов вместе с ним. Посочувствовать только могут, в положение войти. Больше всего на свете он не любил, когда его жалели. Из-за этой жалости он с Кузей один раз чуть не поссорился, с первейшим другом своим по роте. Это случилось, когда никак не мог заставить себя перебороть страх перед первым прыжком, а Кузя полез со своими утешениями. Со всей ротой едва не переругался, когда ребята вслед за Кузей поглядели на него слишком сочувственно. Никто не знал тогда, какая злость закипала в сердце Слободкина. В первую очередь на самого себя, разумеется. Какой же он ничтожный, какой прижатый к земле, если любой может покровительственно похлопать его по плечу! И сказать еще при этом что-нибудь вроде: «Оно, конечно…»
Сейчас перед непослушным станком он стоял такой же жалкий в своей беспомощности! Оставалось только благодарить судьбу, что нет пока свидетелей его позора. Он и благодарил. Земные поклоны отвешивал. Нагнется за вырвавшейся и укатившейся, черт его знает куда, деталью, а сам шепчет: «Слава тебе, господи, ни одна живая душа, кажись, не видела». Нагнется за другой, опять про себя бормочет: «Подольше бы вас, чертиков, не было! Не показывайтесь еще хоть часок. Еще полчасика. Еще минутку…»
Слободкин так думал, но когда за спиной его раздался голос Зимовца, рассердился совсем по-другому:
– Ну, где тебя носит нелегкая столько времени?
– Неблагодарная душа. По твоим делам бегал во все концы, а ты…
– По каким еще?
– УДП оформлял На, держи! – Зимовец сунул в руку Слободкина какую то пеструю бумажку.
– Что это?..
– УДП, говорю. Усиленное дополнительное питание. Дали как бывшему фронтовику.
Слободкин повертел перед глазами непонятный листок.
– А у тебя есть это УДП?
– Было, когда чувствовал себя плохо.
– А кто знал про твое самочувствие? Ты что, жаловался? К врачам ходил?
– Нет, не ходил. Просто подошел ко мне как-то парторг Строганов и говорит: «Зимовец, на тебе лица нет».
– Ну ладно, допустим. Дальше?
– Дальше спрашивает: фронтовик? Фронтовик, говорю.
– Уже не сходится, – не без ехидства заметил Слободкин.
– Что не сходится?
– По фамилии знает, а что фронтовик, запамятовал? Да и форма на тебе, он же видит.
– Про фронт это он для других сказал. Он фронтовиков всегда в пример ставит.
– И что же, сам взял и выдал тебе УДП?
– Зачем сам? Он мне записку дал в завком. А там уж оформили по всем правилам.
– Но меня он вообще видел один раз за все время, твой Строганов.
– Но знать о тебе знает. И не вздумай артачиться. Это же смешно и глупо, в конце концов!
Зимовец начал сердиться по-настоящему. Поймав его взгляд, Слободкин отступил:
– А!.. Пусть будет по-твоему. Только с условием.
– С каким еще условием?
– На нас, на двоих. Как фронтовику тебе половину прописываю.
– Не много ли лишних слов вокруг сущего пустяка? Если бы ты знал, что это такое – УДП, ты бы, ей-богу, не тратил пороха попусту. Не слышал, как заводские остряки это дело расшифровали?
– Нет, не слышал.
– Умрешь днем позже.
– Действительно, остряки!
– С шуткой оно все-таки веселей как-то. Ты сам говорил.
– Это верно. Ну ладно, идем, отпробуем твоего «усиленного». А то мутит даже.
Зимовец был прав. По талону УДП Слободкину плеснули еще один неполный черпак зеленой жижи. Она так густо дымилась, что не успела остыть, пока Слободкин донес миску до стола и разделил порцию надвое.
– Ну вот, а ты отказывался, – заметив, как торопливо Слободкин работает ложкой, сказал Зимовец.
– Ты тоже хвалил УДП не особенно, – ответил ему Слободкин, – а за тобой не угонишься.
– Просто мне в цех надо скорей.
– И мне туда же. Вот и наворачиваю!
Работа после обеда пошла по-иному. Сергей почувствовал это с первых минут, с первых оборотов патрона. Мотор загудел ровнее, увереннее, приводной ремень перестал хлопать. Позднее Слободкин узнал, что во время обеденного перерыва ремень починил шорник, но сейчас готов был отнести и это за счет общего «улучшения погоды», как назвал он для себя ту обстановку, которую застал на заводе после возвращения из больницы.
Что же тут, собственно, произошло в его отсутствие? В чем секрет перемен? Кто все это наладил, отрегулировал, привел в порядок? Было так плохо, что Слободкин не знал, долго ли он, ко всему привыкший человек, выдержит. Теперь уже можно в этом признаться. А сейчас? Или это весна все сделала? Осветила солнцем, обогрела теплом, родила надежды. Да, и она, конечно. Но главное несомненно заключалось в том, что дела на фронте стали лучше. Вот и здесь все пошло по-иному.
Он говорил так с самим собой, и ему чудилось в эти минуты, что он слышит биение железного сердца. Железного и в прямом и в переносном смысле слова. Да-да, железного. Вот оно гремит сейчас и в его станке. А там, за штабелями желтых ящиков для автопилотов, оно пульсирует в установках, проверяющих приборы на вибрацию. Слободкин отчетливо представил себе большие, сотрясаемые вибраторами столы, на которых закреплены приборы. Ритм их вибрации был ритмом сердца завода. Не слишком частым и не слишком редким – ритмом крепкого, здорового организма. Перенесшего болезнь, но одолевшего ее доблестно и ставшего еще сильнее, еще жизнеспособнее.
Люди, работающие вокруг, показались Слободкину действительно чудо-богатырями из сказки. Не только Каганов, не только Ткачев. Они-то уж само собой. А тот, что в сандалиях по снегу? А Вася Попков, гордо именующий себя бригадой? А Баденков? А дружок его закадычный? Все, все, решительно каждый – богатырь! Если б Каганов выполнил свою угрозу и в самом деле «продал» его в газету, он так и написал бы обо всех этих людях – богатыри. Ни холод, ни голод им не страшны, ни хворь, ни бомбежка их не берут. То есть берут, конечно, и еще как берут! Прямо за жабры. Но они «не сдаются, лапок кверху не тянут» – в этом и есть их сила. Железное сердце в железных людях. Подумать только! В таких условиях ни на минуту не остановили выпуск приборов и постепенно все наращивают и наращивают темп работы. Приборы конвейером идут на фронт. Сплошным потоком.
Хорошо на душе у Слободкина делалось от этих мыслей. К нему постепенно приходило ощущение, что и сам он среди этих людей что-то значит, чего-то стоит в конечном счете. Вместе с ними, среди них он, пожалуй, способен на большее, чем может показаться на первый взгляд.
Длинным или коротким был этот день? Трудным или легким? Уже ночью, на койке в бараке, вспоминая его час за часом, минута за минутой, Слободкин не мог ответить ни на один из этих вопросов. День был бесконечно длинным. И пролетел мгновенно. Руки ныли от усталости. И дрожали от счастья. Им удалось наконец совладать со станком, справиться с его норовом! Вот и сейчас дрожат.
Слободкин поднес к лицу свои пальцы. Он не видел их в этот миг, но ему вдруг показалось, что они снова распухли, как тогда в больнице, после обморожения. Непослушные, чужие, они беспомощно перебирали темноту перед глазами.
В глубине барака кто-то чиркнул зажигалкой. Слободкин растопырил пальцы навстречу свету и удивился – руки как руки. Натружены только, намучены. Отвыкли от работы. Но сила в них – вон какая! В сто раз больше, чем раньше. Он сжал кулаки и в тусклом пламени зажигалки увидел отражение своих рук на противоположной стене барака. Их тени заняли чуть ли не все пространство от пола до потолка.
– Эй! – крикнул Слободкин неизвестному курильщику.
– Чего тебе? – полусонно отозвался тот.
– Горючее есть?
– Давай двигай сюда, прикуривай.
– Да нет, мне просто свет нужен. Засвети еще разок. А?
На короткое мгновение озарились зыбким светом стены барака. На одной из них, сверкавшей инеем, снова распростерлись две косые пятипалые тени…
Через несколько минут Слободкину уже снился сон. Такой же удивительный, как это видение с тенями. Он лежал на травяной росной поляне – спиной к земле, лицом к небу. За его плечами была вся Россия, вся Земля. Перед глазами – бесконечное синее небо с горячим солнцем в зените. И вот он уже не на поляне, а распластан под форштевнем несущегося вперед корабля. За его спиной – всплески весел, шелест парусов. Прямо перед ним – только облака и волны. Он, Слободкин, на самой передней точке этого парусного полета. И как все-таки замечательно, что у него такие огромные и сильные руки. Вот они становятся крыльями. Вот распахнуты над простором и со свистом рассекают воздух. Взмах, другой, третий…
– Ты что, Слобода, размахался? Хочешь совсем меня скинуть! Да? – Голос Зимовца, спросонья сердитый, охрипший, гудит над самым ухом Слободкина.
Через минуту, засыпая снова, Зимовец успевает сказать приятелю:
– Тарас Тарасыч велел тебе завтра раньше на час выйти. Ты спишь или не спишь?
– Какой еще Тарасыч? Ты сам-то спишь, как суслик.
– Нет, серьезно, Слобода, у Каганова новый сменщик, тоже мастер, я тебе не рассказывал?
– Чего ему нужно от меня?
– Не знаю. Сказано, на два часа раньше, значит, на два.
– Сказано, на час, – уточняет Слободкин.
– Правильно! Теперь вижу, что не дрыхнешь, а притворяешься. Могу спать, не забудешь?
– Не забуду, спи. А зачем я ему все-таки сдался, твоему Тарасычу?
Зимовец не отвечает. Слободкин больше не спрашивает. Одна койка у дружков на двоих. Сон тоже, кажется, один, общий. Теперь Слободкин ворчит сквозь охватившую его дрему:
– Ты чего мечешься, Зимовец? Локтищи у тебя, как штыки. Поаккуратней, слышишь?
Короткая ночь. Раннее, незаметно подкравшееся и тоже короткое утро. У Сергея настолько короткое, что он, торопясь в цех, не успевает даже с другом двух слов сказать. В конторке девятого его дожидается Тарас Тарасович Симуков, немолодой человек с прямыми, торчащими, как щетки, бровями.
– Люблю точность! – воскликнул он, глянув сперва на Слободкина, потом на часы. – Так вот, товарищ Слободкин, имею ответственное поручение – организовать твою статью для областной газеты.
– Как – мою статью? – недоумевающе посмотрел на него Слободкин.
– Так, ты фронтовик. Хотят люди твое слово слышать – об успехах завода и вообще…
– Какие люди?..
– Народ, товарищ Слободкин. Массы.
– Вы, очевидно, что-то напутали…
– Ничего не напутал, все точно: в воскресном номере «Волжанки» должна быть твоя статья. И не волнуйся, пожалуйста, писать тебе не придется. Я уже все подготовил. Вот – от первой до последней строки, – Тарас Тарасович развернул веером перед Слободкиным целую пачку листков, сверху донизу исписанных мелким кудрявым почерком. – Читать будешь? Или доверяешь? Ты учти, я в этом деле собаку съел. За кого хочешь могу! За рабочего? С хода! За колхозника? Пожалуйста! За директора нашего скажут – и за него напишу. Писал уже один раз…
– А за себя? – холодно спросил Слободкин.
Тарас Тарасович слегка покраснел, но тут же нашелся:
– Я, дорогой, хоть и являюсь одним из командиров производства, но все-таки, как говорится, пока не та фигура. Им все имена вынь да положь! Симуков величина, видите ли, еще малая, фигуры не имеет. Но без Симукова ни туды и ни сюды. Так что не ты первый, Слободкин, не ты последний. Давай подписывай. Я должен еще «самому» показать.
Кто этот «сам», Симуков не сказал, но было в этом слове столько многозначительности, что упрямый Слободкин должен был тут непременно дрогнуть и сдаться. Но он смотрел на Тараса Тарасовича широко открытыми, удивленными глазами и молчал.
– Не понимаю, ничего не понимаю… – устало и как-то равнодушно сказал Слободкин после паузы.
– Чего не понимаешь? Чего? – с трудом сдерживая себя, чуть не крикнул Симуков.
– Кому и зачем нужно такое?
– У нас все на энтузиазме народа держится. И мы обязаны энтузиазм раздувать любыми средствами, любыми силами. И печатью тоже. Разве это так трудно понять?
– Я, наверно, никогда не пойму такого. Энтузиазм, говорите. Но зачем же его «раздувать»? Да еще любыми средствами! Тут уж не энтузиазм получится, а ерунда какая-то…
Слободкин был убежден в своей правоте и пытался хоть в чем-то убедить Симукова. Но тот, чем дальше, тем становился упорнее. Видя, что все его доводы не производят впечатления, Тарас Тарасович пустил в ход самый главный, на его взгляд, самый веский:
– Тебе, Слободкин, такое доверие оказано, такая забота проявлена о твоей персоне, а ты не ценишь хорошего отношения.
– Вы о чем?
– Подумай как следует.
– Станок доверили? Спасибо. Огромное.
– Не притворяйся. УДП получил? Ты знаешь, кто и как его выхлопотал?
Слободкин отстегнул клапан кармана гимнастерки, вытащил талон и швырнул его на стол перед опешившим Симуковым. Слова при этом были сказаны самые простые, самые сдержанные. Рассказывая потом о случившемся Зимовцу и ругая его за то, что тот вверг его в неприятности с этим талоном – пропади он пропадом! – Слободкин ясно дал понять другу, что не унизился, сохранил чувство собственного достоинства в перепалке с Симуковым.
– Что же ты сказал ему все-таки? – спросил Слободкина Зимовец.
– Сказал, что работать иду. Что некогда тратить время на всякую чепуху.
– Ну и правильно. Он выслуживается, по-моему, этот Тарас. Вот тебе два человека – Каганов и он. На одном заводе, в одном цехе, в одинаковом положении, а присмотришься – два полюса. У одного действительно о фронте все думы, другой только тем и занят, что вприсядку перед начальством пляшет.
– А зачем?
– Спроси его.
– Я таких не встречал еще.
– Считай, тебе повезло. Посмотри вокруг повнимательней. Вот знамя мы получили, да? Прекрасное дело. Но люди, подобные Симукову, видят в этом только повод для треска и шума. А что шуметь? Что галдеть? Нажимать дружней надо, а не звонить в колокол.
– И работает он так же?
– Да как тебе сказать… Дело свое знает, опыт есть, но больше всего любит, чтоб его другим в пример ставили. Для этого у него все средства хороши. Не прочь и чужие заслуги себе приписать. Вот ты тогда в морозилке отличился. Он сказал на совещании у директора, что это наш, мол, девятый цех таких людей воспитывает. И еще себе в грудь кулаком при этом не забыл постучать.
– Зимовец, ты мне друг?
– Ну, допустим
– Как друга, последний раз прошу – про морозилку больше ни слова. Надоело, ей-богу!
– Ладно, усвоил. Я тебе еще об Устименко хотел сказать. Это тоже своего рода Тарас Тарасыч.
– Устименко оставь в покое.
– К тебе-то он подкатился, будь здоров! И пилотку, и мыла кусок, и все такое прочее. Но посмотрел бы ты, как он с другими обращается, с ремеслом, например. Ребята неделями в баню попасть не могут, а он во всех инстанциях «рапортует», полный порядок, мол. Такой лисы я еще не видел. Вот тебе уже два экземпляра? Два. А в целом что получается? Черное за белое часто выдаем.
Слободкин задумался. Помолчав немного, сказал:
– Я от матери письмо получил, ты знаешь. Пишет, что все хорошо у нее. Послушаешь, выходит, так хорошо, словно лучше никогда и не было.







