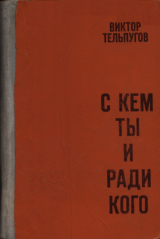
Текст книги "С кем ты и ради кого"
Автор книги: Виктор Тельпугов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
СЫСОЕВ
В наш госпиталь привезли еще одну партию раненых. Каждый, кто мог двигаться, вышел во двор – навстречу.
Одного определили к нам в палату. Он лежал на носилках – огромный, грузный. Санитары, опустив свою ношу на пол, даже крякнули.
Обычно появление нового человека вносило какое-то разнообразие в нашу жизнь – будет с кем свежим словцом переброситься. А на этого, как глянули, так и скисли: весь в бинтах сверху донизу. И голова замотана, и лицо – вместе с глазами.
Хорошо еще парень оказался что надо.
– Давайте, – говорит, – знакомиться: Сысоев.
– Откуда? – спрашиваем.
– Орел-батюшка, – слышим невеселый ответ.
– Самые рысачьи места! – попробовал было пошутить я, чтоб поднять новичку настроение.
– Мы свое отскакали, – вздохнув, ответил Сысоев. – Так что же выходит, нет земляков?
– Орловских нет, из Курска лежит вот один, рядом с тобой, и тот все молчком да молчком.
Сысоев наугад окликнул соседа:
– Ты, что ли?
– Я, – едва слышно буркнул тот.
– Погромче можно? А то я того, недослышу малость. Еще одно, теперь уже сердитое «я» вырвалось из-под простыни, в которую был с головой закутан курянин.
– Вот это другое дело, – сказал Сысоев. – Звать-то тебя как?
– Маклецовым зови, Иваном.
Сысоев помолчал, потом сказал задумчиво, со щемящей тоской в голосе:
– Больно в ваших краях соловьи хороши…
– Мы свое отсвистели! – в тон Сысоеву ответил Маклецов.
Я еще раз попробовал повернуть разговор к более веселому берегу:
– Слушали: «Рысаки отскакали, соловьи отсвистели». Постановили: «Отставить такие разговорчики!»
– Отставить! – поддержал меня Сысоев. – Не гоже нам ныть и стонать: войне самый край подоспел.
– Никто и не ноет, – пробасил Маклецов и высунулся из-под простыни. – Душу отвести можно солдату?
– Можно. Нужно даже, – согласился я.
– Вот и отвели, а теперь – черточку! – неожиданно положил конец дискуссии Сысоев.
– Чего, чего? – не понял Маклецов.
– Черту, говорю, пора, как на собрании.
– А с тобой не пропадешь! Хоть перед докторами, хоть перед самими дьяволами – все равно не страшно! – воскликнул Маклецов, повеселев.
– Соловей ты курский или ворона? – перебил его кто-то.
– К чему это ты? – обиделся Маклецов.
– К тому, что обход. Накаркал!
В палату действительно вошла чуть не вся наша медицина, и первым делом, конечно, к Сысоеву. От этой подчеркнутой внимательности ему не по себе стало.
– Серьезное дело, – сказал главный врач, внимательно осмотрев новичка. – Но человек вы крепкий, вижу. И мотор у вас не подкачал. Будем оперировать.
Сысоев ответил не сразу. Не желая показывать волнения, старался справиться с нервами. Наконец, совладав с собою, сказал:
– Если зрячим оставите, согласен на все. Оставите?
Врач от прямого ответа уклонился:
– Мотор у вас, повторяю, первый сорт. Это самое важное. А остальное…
– А остальное? – не дал ему договорить Сысоев.
– Мы с вами солдаты?
– Солдаты, – покорно ответил раненый.
– Ну вот и отлично.
Закончив обход, врачи снова остановились у койки Сысоева. Но лишь на одно мгновение. Мне показалось, что главный при этом сокрушенно покачал головой.
Вечером, когда все в палате угомонились, я подсел к Сысоеву, и он рассказал мне свою историю.
– Всю войну отшагал цел-невредим, хотя бывал в таких передрягах, что вспоминать жутко. Ни один волос не упал с головы! Всех дружков растерял, всех до одного. Кого под Ельней, кого под Курском, кого где. «А тебе опять ничего?» – спросят, бывало. «Ничего, говорю, не царапнуло даже». Ребята еле живы, а смеются: «В натрубахе тебя матушка родила!» В натрубахе, говорю, а самого, веришь, совесть поедом жрет. Будто нарочно от пуль хоронюсь. Никто не попрекал, не подумай. После каждого боя сам себя виноватил. А пули все мимо, мимо, мимо…
– Так бы вот и закончить тебе войну! – перебил я Сысоева.
Он сердито махнул рукой. Потом деловито и строго закашлялся, и я вдруг понял, с какой великой гордостью несет на себе человек доставшийся ему крест.
– Если глаза спасут, я еще землю ковырять буду! Как война ни пахала ее, все одно перепахивать надо. По всей России…
Мы проговорили всю ночь. Когда за окном закричали первые петухи, Сысоев спросил:
– Светает?
– Нет еще, – соврал я, не желая вызывать у него зависти к тем, кто может смотреть сейчас на лучи восходящего солнца.
– Не бреши, – беззлобно оборвал меня Сысоев. – Ты не думай, что если башка замотана, так я и не вижу ничего. Я ушами свет чую. Пальцами!
Он протянул вперед руки – тихие, забинтованные, похожие на двух беспомощных младенцев.
– Знаешь, что мне давеча доктор сказал?
– Знаю.
– Нет, не знаешь. Не ручается он за глаза, понял? Скорей всего не спасут их. Точно, не спасут, я сразу скумекал.
– Не говорил он такого, я же рядом был, все слышал.
– Сказал. Я как солдат его слушал.
Разговор наш больше не клеился. На другой день мы его уже не возобновляли.
Доктора во время каждого обхода подолгу толпились возле койки Сысоева. Я теперь с особой тревогой прислушивался к любому их слову и всякий раз все больше понимал, что над Сысоевым нависла страшная беда.
А жизнь между тем шла своим чередом. Целыми днями и вечерами в палате не смолкали разговоры – то громкие, то тихие, то грустные, то веселые. Сысоев вместе с другими о чем-то спорил, с кем-то ругался, кого-то расспрашивал о доме, о родных, о письмах. Больше всего о войне говорили солдаты. О близком ее конце. По сорок раз на дню наводили справки: что там, как там – на фронте?
В одно прекрасное утро пришла наконец желанная весть.
На всю жизнь запомнил я этот миг. Ворвавшийся к нам из соседней палаты раненный в обе ноги ефрейтор Гринюк без всяких слов со всего размаху швырнул об пол свои желтые костыли, и они с грохотом разлетелись на мелкие щепки. В наступившей после этого тишине кто-то робко спросил:
– Неужели?..
– Точно! – гаркнул Гринюк и, потеряв равновесие, рухнул спиной на чью-то пустую койку, захохотал – счастливо и безмятежно. Его высоко вскинутые ноги быстро и озорно зашагали в воздухе – последние шаги войны…
Превозмогая боль, в первый раз за много месяцев, сел в кровати Маклецов…
Сысоев попросил, чтоб ему скорей свернули цигарку…
В палате откуда-то появилось отсутствовавшее до сих пор радио, и черная тарелка «рекорда» до краев наполнилась торжественными маршами.
На следующий день сообщили о победном салюте. Новая волна радости подняла на ноги даже тех, кому еще не велено было вставать.
Задолго до назначенного часа в госпитале настежь распахнулись все окна, все двери.
Койка Маклецова была развернута так, чтобы и ему было все хорошо видно.
Только Сысоев лежал в своем углу. Мы старались не думать о нем, даже не смотреть в его сторону, а сами… не сводили с него глаз и все наши мысли были о нем. Чувствуя на себе смущенные, как бы виноватые наши взгляды, он беспомощно шевелил забинтованными руками и вдруг, мы увидели это совершенно ясно, выпрямился, высоко развернул богатырские плечи: первые всплески гимна влетели в палату!
Сысоев лежал так минуту или две – рослый, еще более вытянувшийся, похожий на правофлангового, застывшего по команде «смирно»!..
Наконец нервы его не выдержали:
– Развяжите глаза! Развяжите!..
Кто-то побежал за доктором. Через несколько мгновений сам главный врач стоял у койки Сысоева.
– Развяжите! – упрямо повторял Сысоев одно и то же. – Ну, развяжите же, развяжите!..
За окнами полыхало разноцветное салютное пламя, но мы глядели только на доктора и ждали его решенья. А он стоял растерянный, колеблющийся, каким никто из нас не привык его видеть.
– Ну, ладно, пусть будет по-вашему, – сказал наконец он. – Но только на одну секунду, запомните.
– Пусть хоть на одну! Спасибо, доктор! Развязывайте… – простонал Сысоев.
Мы увидели: в промежутке между двумя вспышками салюта сверкнули ножницы в руках врача, белая повязка упала с глаз солдата и он, поддерживаемый кем-то, распятием замер в проеме окна.
Сысоев молчал, но мы поняли – он счастлив, совершенно счастлив…
А доктор был неумолим. Вот он уже снова туго накручивал бинты на больные глаза.
В ту ночь я опять сидел на краю койки Сысоева. Мы говорили обо всем, что волнует солдатское сердце. О прошлом. О настоящем. И, конечно, о будущем.
– А землю ковырять я все-таки буду, старик, – сказал мне вдруг Сысоев. – Хоть впотьмах, хоть как, а буду, честное слово буду! Мы под Ельней, помню, ночью копали – ровно, как по шнуру, а на небе и звезды не было. Можно приноровиться…
– Постой, постой, почему впотьмах? Вот сделают операцию, все в полном ажуре будет. Я уверен, слышишь?
– Тебе честно сказать про «ажур» этот? – остановил меня Сысоев. – Сказать? Или нет?
– Скажи, конечно.
– Салюта нашего нынче я не видел уже. Ни одной искорки. Понял?..
МИСХОР
В крымском санатории «Мисхор» я очутился в не совсем обычное время – первая послевоенная зима шагала берегом Черного моря.
По утрам с гор летел мокрый редкий снег на холодную гальку дорожек, к полудню немного теплело, но вокруг было по-прежнему неуютно – сыро, туманно, а главное, почти совершенно безлюдно. Санаторий только что открыли после капитального ремонта, и первые дни я был в «Мисхоре» чуть ли не единственным обитателем. Один приходил в пахнущую известкой столовую, один катал щербатые шары в бильярдной, и они, подпрыгивая, погромыхивали на зеленом поле штопаного сукна.
Я спускался к морю, но там было тоже тоскливо – радио беспрерывно играло старинные вальсы, которые, кроме меня, могла слушать разве что бронзовая, пробитая пулями русалка, крепко впаянная в один из прибрежных камней.
Я был несказанно рад, когда повстречал на берегу саперов. Они искали мины на пляже и были не особенно разговорчивы, но с ними стало все-таки веселей.
– Война? – обратился ко мне один из них.
– Я свое отслужил.
– Хорошей тебе погодки!
Ребята были совсем молодые, почти мальчики – щуп несли неумело, неровно, то опуская его слишком низко, почти до самой земли, то слишком высоко поднимая, так что он, на мой взгляд, терял чувствительность. Я сказал им об этом, они рассмеялись.
– Отдыхаешь?
– Отдыхаю.
– Ну и отдыхай. Ты ведь не сапер?
– Десантник.
– Тогда под руку не говори. Мы этих мин тут знаешь сколько понатаскали?
– Сколько?
– Целый воз и маленькую тележку.
Я постоял еще немного, наблюдая за их адовой работенкой, и скоро ушел в санаторий.
Через день у меня появился первый партнер по бильярду, тоже пришедший с войны донбасский шахтер Майборода, а еще через день нас собралась целая команда, и в «Мисхоре» началась обычная санаторная жизнь.
Как-то утром к нам прямо в палату вошел шумный молодой человек, назвавшийся культоргом соседнего дома отдыха «Искра».
– Я к вам по шефским делам. Разрешите?
В ходе переговоров выяснилось, что мы с Майбородой не далее как сегодня вечером должны выступить перед пионерами с рассказом о войне, что дело это уже решенное и даже «афиша повешена».
Майборода попробовал было сопротивляться, но культорг твердо стоял на своем.
– Шо ж мы, хлопчик, расскажемо? Все давно и без нас известно. Война кончена, мы победили.
– Нам, товарищи ранбольные, нужны подробности, фронтовые, так сказать, эпизодики.
– Мы не ранбольные, а выздоравливающие.
– Тем более. Я зайду за вами, товарищи выздоравливающие, ровно в двадцать ноль-ноль. Форма одежды – парадная.
Культорг удалился. Мы, хоть нам и очень не хотелось выступать, начали готовиться к встрече с пионерами.
Побрились, приоделись, стали прикидывать, о чем и как вести разговор с ребятами.
– Расскажу им о разведке? А? – советовался со мной Майборода.
– Ну вот и отлично. А я о ночных прыжках и о всяком таком прочем. Пока свежо в памяти, доложу по порядочку.
На том и порешили.
Много довелось мне потом выступать с воспоминаниями в самых различных аудиториях, но нигде не встречал я таких внимательных и заинтересованных слушателей, как эти. Мы пробыли у пионеров весь вечер, и весь вечер они сидели как завороженные, не проронив ни звука.
Впрочем, тут не было ничего удивительного. Перед нами были люди хоть и совсем юные, но, конечно, понимавшие, что такое война, – худые, изможденные, одетые в какие-то военные обноски. В первом ряду выделялся вихрастый белесый мальчуган, положивший забинтованную ногу на желтые, скрещенные возле стула костыли. Где-то в глубине полутемного зала все время кто-то глухо и надсадно кашлял.
Тоже, видать, хватили лиха, подумали мы и решили еще рассказать ребятам о их сверстниках, которые в войне приняли самое непосредственное участие. Майборода вспомнил о героях-пионерах Воронежа и Курска, а я даже углубился в историю и привел факты, относящиеся к битве с Наполеоном.
– Вот вы, ребята, наверно, и не догадываетесь о том, что ваши одногодки прошли по дорогам тысяча восемьсот двенадцатого года, и как прошли! Только в одном Бородинском бою, например, отличились ставшие потом декабристами подростки, совсем, можно сказать, мальчики – Пестель, Волконский, Муравьев-Апостол и многие, многие другие. Знаете, сколько каждому было тогда лет?
– Сколько?
– Пестелю девятнадцать, Муравьеву-Апостолу шестнадцать, Волконскому шестнадцать, даже неполных. Немного?
– Да-а… Великие были люди… – послышалось из разных концов зала.
– С таких, ребята, надо делать жизнь. Верно, что ли? Согласны?
– Верно. Согласны, – дружно ответили пионеры.
Время было позднее, мы стали прощаться.
– Спасибо вам большое, приходите еще! – обступили нас со всех сторон.
Кто-то принес два букета цветов – мне и Майбороде, кто-то попросил разрешения проводить нас до «Мисхора», но мы воспротивились:
– Не надо, поздно уже, вам давно пора спать, ребята, доберемся и так.
Шумный культорг наш куда-то исчез, и мы, говоря откровенно, не очень его искали. После такого вечера хотелось пройтись не спеша, помолчать и подумать.
Всю дорогу мы шли, почти не разговаривая, только изредка останавливались, чтобы перевести дух.
– Хороши ребятишки? А? – спрашивал я Майбороду.
– Хлопцы что надо! Только, может, зря мы так с ними?
– Как?
– Ну, все о войне да о войне. Не опалили они крылышек – и слава богу.
– Кое-кто и опалил.
– Сколько, ты сказал, Волконскому было?
– Шестнадцать.
– Неполных?
– Неполных.
– Да-а...
– А твоей воронежской девочке сколько? Наверно, и того меньше?
– Ну, это ж совсем другое дело.
– Почему другое?
– Ну, это, как бы тебе сказать, исключительные случаи, вспышки особых талантов, – стоял на своем Майборода.
– Я все-таки думаю, – не сдавался я, – что «вспышек» этих гораздо больше, чем иногда подозревают. Я уже давно заметил – мужество, оно, брат, не то что мы с тобой, постепенно молодеет, черт возьми!..
Еще два или три дня подряд возвращались мы к тому ночному разговору.
– Нет, что ни говори, а дети есть дети во все времена, – натирая мелом кий, говорил Майборода.
– По-всякому бывает, – отзывался я. – Молодые мужают, старые впадают в детство. Вот мы с тобой, например, давно ли из госпиталя, а сейчас резвимся на южном бережку, шары гоняем как ни в чем не бывало.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ничего особенного, просто к слову пришлось.
Спор наш то утихал, то вспыхивал с новой силой, а жизнь вокруг шла своим чередом и, как всегда, незаметно, исподволь вносила поправки в любые споры.
Однажды вечером, придя в столовую, мы услышали голос врача:
– Товарищи, сразу после ужина у нас в санатории состоится встреча с героями-партизанами великой Отечественной войны. Приглашаются все желающие.
– Останемся? – спросил меня Майборода.
– Считаю, что для нас с тобой явка просто обязательна.
– Добре.
– Постой, постой, а как же твоя теория?
– Какая?
– Ну, довольно, мол, разговоров все о войне да о войне.
– Ты не передергивай. Я же ясно сказал: ни к чему детям голову морочить.
– Нет, я тебя положительно не понимаю. То пионеры Курска и Воронежа, то «ни к чему морочить». Где же логика?
Майборода хотел еще что-то ответить, может быть, даже очень колкое, но в эту минуту на всю столовую раздался чей-то взволнованный возглас:
– Идут, идут! Партизаны!..
Все встали, подошли к окнам, и мы с Майбородой яснее других увидели – из глубины санаторного парка по узкой, усеянной камнями дорожке прямо на нас шагали знакомые нам пионеры. Впереди всех двигался тот – белесый, вихрастый. Он тяжело, но привычно опирался на желтые костыли, из-под которых отлакированная зимним дождем галька разлеталась в разные стороны.
Не хватало только песни «По долинам и по взгорьям…»
Мы спели ее уже потом, после встречи, все вместе, когда провожали гостей в соседнюю с нами «Искру».
БЕССМЕРТНИК
В ту пору на Мамаевом кургане только еще создавался знаменитый ныне мемориал в честь героев, разгромивших врага. Один из памятников возводили молодые скульпторы. Они жили в Волгограде уже несколько месяцев и пристально приглядывались ко всему, что окружало их под небом города-героя – к Волге, к растущим корпусам домов, к убегавшей во все стороны степи. Где-то у самого ее края легкие синеватые дымки новых заводов сливались с размытой, почти прозрачной линией горизонта, и вот будто раздвигались, становились еще привольнее и без того неоглядные просторы. Стучащие колесами по воде буксиры старательно вдоль и поперек линовали Волгу, и она между далеко разбежавшихся берегов казалась развернутой огромной картой – с параллелями и меридианами…
Нельзя было не залюбоваться происходящим. Наверно, именно поэтому один из самых юных в бригаде – комсомолец Вася Мовчан – каждое утро будил своих друзей словами им самим придуманной песни о цветущей земле, за которую он воевал. И несмотря на то, что автору в дни великой битвы не было, наверно, и трех лет, именно с его песней ежедневно принимались скульпторы за работу. Они и сами не заметили, как под их руками возникли первые контуры памятника.
День за днем, час за часом он вырисовывался все явственнее, и скоро даже издалека стало видно – на одном из склонов легендарного кургана вырастала фигура русской женщины-матери, скорбящей над погибшим воином. Ее мужественная немота была сильнее всяких слов, и постепенно все кругом – и поросшая ковылем земля, и обмелевшие окопы, и в вечность летящие облака – все наполнилось для молодых новым, еще неизведанным смыслом. Даже обыкновенный ветер-степняк засвистел в их ушах как-то по-особенному. Казалось, он доносит до слуха отзвуки давно отшумевших боев.
А памятник все рос. Рожденные им образы все больше овладевали чувствами и думами его создателей.
Придя как-то утром к месту работ, ребята заметили – в каменной руке женщины, развернутый венчиком к солнцу, раскачивался и трепетал на ветру маленький, едва приметный цветок. Подошли поближе – бессмертник!
Главный скульптор, совершенно седой, но еще могучий старик, поглядел сперва на цветок, потом на своих юных помощников, обошел раза два вокруг памятника, задумчиво улыбнулся:
– Молодцы соратники! Очень правильно сделали.
«Соратники» промолчали. Только еще дружней и громче зазвенело железо о камень.
Цветок скоро запорошило серой крошкой, а потом и вовсе сдуло куда-то. Хотели в конце дня отыскать бессмертник, водрузить его на прежнее место, да так заработались, что забыли о нем.
Но, странное дело, – на следующее утро цветок опять засветился в каменной руке!
– Ну я ж говорил, молодцы, и только! – снова улыбнулся старик.
И вот бессмертник, крохотный, от рождения не особо яркий, жестковатый, нахохлившийся, каждое утро стал расцветать на камне.
Вечером уходят скульпторы домой – нет цветка. Утром, хоть и торопятся, обогнать его не могут. Придут в семь часов – он уже красуется. В шесть явятся – он на посту.
Работают, а сами все о цветке думают.
Однажды глубокой ночью кто-то из ребят поднял всех и гаркнул громко, как дневальный по роте:
– Мовчан!..
– Что Мовчан? – всполошилась бригада.
– Встал сейчас Вася, по-тихому оделся и пошел к памятнику.
– Значит, он?
– Ясное дело.
Ухмыльнулись, залегли на другой бок, но больше уже не заснули. Лежат полчаса, лежат час, а Васи все нет.
– Наверно, ищет цветы. Темнотища-то вон какая.
– Не беспокойтесь, он небось с вечера все приготовил.
Глянули, а из стакана на Васиной тумбочке, из-за частокола остро отточенных карандашей действительно цветок выглядывает – точь-в-точь, как тот.
– Все понятно теперь. Ну, ша! Скоро явится наш тихий лирик.
Возвращается Мовчан на рассвете. Совершенно никого не таясь, он с грохотом распахивает дверь и прямо с порога кричит:
– Подъем!..
И высыпает из мокрой корзины на стол гору живой рыбы:
– Поправляйтесь, хлопцы!
Ребята переглядываются, ничего не понимая, благодарят:
– Вот это толково! Добрая будет уха!
А цветок, как всегда, и в то утро ждет их на своем месте. Увидев его, Вася многозначительно оглядывает друзей:
– Думаете, мистика?
– А ты считаешь – как?
– Благородный человек по земле этой ходит!
– Об этом мы, представь, давно догадались. Ты скажи лучше, кто этот благородный?
– После нынешней ночи в точности могу доложить.
– Кто же?
Мовчан не спеша поворачивается к застланной утренней дымкой Волге:
– Вон ту бабушку видите? Во-о-он к пристани шагает.
– Ну, допустим, шагает.
– Она.
– Вот это уже мистика.
Вася обиженно поводит плечами:
– Кто сомневается, может проверить.
Двое гонцов-добровольцев тут же срываются с места и исчезают за поворотом тропинки.
– Эй, вы, поаккуратней там, – несется им вдогонку, – невзначай не обидьте старую!
Ребята возвращаются почему-то очень нескоро. Вид у них какой-то странный, и чуть-чуть смущенный.
– Ну, что? – спрашивают, обступив их со всех сторон, заждавшиеся друзья. – Догнали?
– Догнали…
– Она?
– Она…
– А как спросили-то?
– Да прямо так по-простому и спросили. Ваш, говорим, мамаша, бессмертник на памятнике, вон там?
– Так. А она?
– Она отвечает: мой.
– Здорово! А вы?
– А мы – спасибо, говорим, вам от всех нас. Всю осень цветами вашими любуемся.
– Молодцы! А она что же?
– А она задумчиво так посмотрела нам в глаза и заторопилась к пароходу. Мы, конечно, за ней, помочь, значит, хотим при посадке. Уже перед самым трапом оборачивается она к нам и говорит: – Только я, сыночки, тут первый раз – нынче прибыла, нынче и обратно. Дай, думаю, на старости лет хоть одним глазом гляну на эти места. Астраханские-то наши давно уже здесь перебывали. Моя очередь только сейчас подошла.
– Что ж, выходит, и она и не она?
– Получается так…
– Да вы ту ли догнали-то? Та была в черном платке, – говорит Вася Мовчан.
– В черном?!
– В черном, понимаете, в совершенно черном.
– Не-е, эта в белом была. В белом, как снег…
– Э-эх, вы, – огорченно разводит руками Вася.
Через мгновение все видят его быстро бегущим вниз, к Волге, к выплывающей из тумана пристани.
На Мамаев курган, к мемориалу идут и идут люди. Их поток нескончаем. Со всех концов земли приезжают сюда поклониться павшим героям. Постоять в молчанье. Поглядеть на цветы, на горы и горы живых цветов. На крохотный бессмертник в ладони скорбящей матери. На его неяркие, упрямые, чуть подрагивающие под степняком жесткие лепестки.








