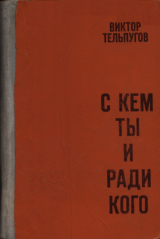
Текст книги "С кем ты и ради кого"
Автор книги: Виктор Тельпугов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
«ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА»
С какой бы стороны ни подъезжал я к Москве – с юга ли, с севера ль, с запада, – на любой дороге и в стороне от всяких путей – с пригорка, из леса, из самой чащобы – отовсюду смотрят на тебя большие и малые памятники войны.
То солдатская каска блеснет среди травы невысокого холмика так, будто только что упала с чьей-то буйной головы.
То за чугунной оградой на порывистом осеннем ветру полыхнет ярко-красный огонь гвоздики.
То с полированного гранита глянет в остывшую воду реки Москвы светлое золото имен.
А то в березнячке пробежит змейка размытого дождями окопа. Промелькнет и исчезнет, чтобы снова вынырнуть из-за березок.
Края окопов обвалились, заросли чабрецом и крушиной, но это все-таки окопы – я осторожно опускаюсь то в один, то в другой, встаю на колено и на мгновение закрываю глаза…
В березовом лесу тихо. Так бесконечно тихо, как перед тем боем, который вспоминается мне всякий раз, когда я попадаю в эти места.
Мне всегда хочется найти именно тот окоп, который был вырыт нашим отделением, но дело это не из легких. Один сполз куда-то к реке, и из него не видно ничего, кроме белых берез. Другой, наоборот, выбрал себе место на лесной поляне, но я той поляны никак не могу узнать. Третий хоть и расположен в подходящем месте, но выкопан слишком по уставу и, значит, тоже не наш – мы рыли под бомбой и миной, и нам было, откровенно говоря, не до уставов.
Кто-то из друзей сказал мне, что наш окоп, видимо, просто не сохранился. Может, это и верно, но я все-таки поверить в то не могу. Пока жив, покуда видят мои глаза и ходят ноги, буду бродить по этим местам и когда-нибудь найду то, что мне нужно. Отыскал же я танк «Т-34», который был придан нашей роте и вместе с нею никуда не ушел с последнего рубежа!
Наша «тридцатьчетверка» тоже стала теперь памятником. После войны саперы подняли ее на угластый постамент, и издали кажется, что танк со всего хода вырвался на господствующую над местностью высоту.
Я знаю, навечно задраены люки и смотровые щели танка, но башня его развернута так и так вскинута пушка, будто ведет она огонь по врагу.
Солнце чуть пригрело нацеленный в небо ствол, и у меня такое ощущение, что металл до сих пор не остыл после боя. Кажется, еще минута – и гусеницы снова со всего хода врежутся в грунт и за танком подымется в рост и пойдет в наступление рота!
Я приглядываюсь к нашему танку то издали, то подойду поближе и вдруг на исклеванной и обожженной броне читаю кем-то нацарапанные строки:
Мы с прошлым кровно связаны судьбой,
Мы не забудем этот подвиг смелый,
Там, где отцы вели смертельный бой,—
И наша кровь к железу прикипела.
Это уж кто-то из молодых отличился. И расписался даже, неразборчиво только – не то Иванов, не то Ивашов.
Танк «Т-34» отслужил свой век. Из его орудия уже никогда не будет произведено ни единого выстрела, и мне жалко, что орудие «тридцатьчетверки» ржавеет под дождем и снегом, что никто не придет, не смажет ее добрым пушечным салом.
Вот и сегодня подошел я к танку, а сердце солдатское даже заныло от боли.
– Получается как-то чудно, – рассуждаю я вслух, – пока ты был нужен, тебя и чистили и холили, а вот пришел срок – и забыли, хотя и подняли на высокий пьедестал…
– Верно я говорю, Мироныч? – спрашиваю своего всегдашнего попутчика, охотника и рыболова.
– Оно конечно, – задумчиво глядит на меня старик. – Только что же зазря убиваться! Взял бы да и смазал, масленка у нас с собой. Может, смазка ему нужна не такая, но ты попробуй, кашу маслом не испортишь.
Мироныч протягивает мне охотничью масленку, я, засучив рукава и плеснув себе на ладонь все ее содержимое, запускаю руку в ствол по самый локоть и тут же отдергиваю ее обратно.
– Ты что?!
– Пушка-то смазана, Мироныч! Смотри…
Я помогаю старику взобраться на танк. Через минуту он уже без моей помощи ловко спрыгивает на землю. Вид у него не то удивленный, не то загадочный. Он поправляет сползшую на глаза фуражку и произносит как-то необыкновенно спокойно и весело:
– Я ж говорил тебе, зря убиваешься!..
ЗЕМЛЯ БИСТРИЦЫ
Когда в Бухаресте побывал молодой советский журналист Сергей Батурин, местные газетчики рассказали ему, что к ним пришло письмо от Варвары Петровны Матюшенкиной из города Калязина. Русская женщина просила помочь ей разузнать, где и как погиб ее муж, сражавшийся за освобождение Румынии.
Поиски были нелегкими, но в конце концов удалось точно установить, в каком месте и при каких обстоятельствах сложил голову воин-герой.
Провожая русского коллегу на Родину, редактор румынской газеты вручал ему увесистый, неопределенной формы сверток.
– Что это? – удивился Батурин.
– Земля. Похоронен он возле Бистрицы. Вы там бывали?
– Нет, не бывал.
– Скажите вдове: пионеры ухаживают за могилой, там всегда живые цветы.
С той минуты сверток стал главным в несложном багаже Сергея. На пограничной станции Унгены, где проводился традиционный таможенный досмотр, он прежде всего и предъявил его вошедшему в вагон человеку в военной форме. У Батурина, откровенно говоря, было даже заготовлено специальное объяснение по поводу не совсем обычного груза, но оно, как ни странно, не пригодилось.
– Земля? – на чистом русском языке спросил румынский пограничник, едва коснувшись протянутого ему похрустывающего свертка.
– Земля…
Военный понимающе кивнул головой.
– Это из Бистрицы… – начал было Сергей.
– Из Бистрицы? А я думал, из Плоешти…
– Нет, из Бистрицы. Там были большие бои. Там погиб русский солдат.
– Тогда много погибло русских. Как фамилия вашего?
– Матюшенкин. Не слыхали?
– Матюшенкин? Не слыхал. Но, наверно, парень был настоящий, иначе зачем бы земле из маленькой Бистрицы ехать так далеко. Вы ведь москвич?
– Москвич.
Русский и румын помолчали.
Потом военный почтительно поднес правую руку к козырьку, а левой совсем по-штатски пошарил в кармане:
– Возьмите-ка вот бечевку, перевяжите еще раз.
Через двое суток Батурин был дома. Но земле предстоял еще долгий путь. Надо было как-то переправить ее в Калязин. Сергей сперва надеялся сам отвезти, да отпуск его кончился, и он решил воспользоваться пока пересылкой, а уж потом, при случае, побывать в Калязине лично.
Пришел на почту, написал Варваре Петровне подробное письмо, шагнул было к застекленному окошку с табличкой «Прием посылок» и вдруг задумался:
«Интересно, за какого чудака примет меня сейчас вон та белокурая в окошке? Совсем ведь еще девчонка».
И Батурин пошел в обход – к заведующему.
«Он, конечно, знает, что к чему, все поймет с полуслова».
Но, переступив порог кабинета заведующего и увидев перед собой человека еще моложе себя, смутился:
– Скажите, а можно отправить посылкой небольшой ящик… земли?
– Земли? – Заведующий внимательно посмотрел на вошедшего. – Отчего же, можно. Сдайте в окно номер два. Зинуха! – зычно крикнул он через фанерную перегородку. – Прими у товарища посылку да помоги запаковать получше, земля у него тут.
Когда вобравший голову в плечи Сергей подошел ко второму окну, белокурая уже ждала его.
– Это у вас земля?
– У меня.
– Волгоградская?
– Почему волгоградская?
– Ну, тогда из Севастополя или Одессы?
– Да нет же…
Белесые выгнутые косички вздрогнули.
– Неужели из Ленинграда?
Сергей хотел сказать девчонке, что она снова ошиблась, но та быстро взяла сверток, развернула, бережно потрогала землю:
– Ну, конечно, ленинградская! А знаете, как я догадалась? По цвету!
– Ты что же, была в Ленинграде? – удивленно спросил Батурин.
– Я – нет, но мама в прошлом году была и этим летом опять собирается. Мы теперь двое работаем, так что ей уже легче будет поехать. Да и откладывать никак нельзя: могила отцовская там. Соседи говорят, весною памятник даст осадку…
Девчонка разговаривала с Сергеем, как со своим, давно знакомым ей человеком, словно и мысли не допускала, что он может чего-то не знать о ее жизни, говорила, будто продолжала недавно прерванный разговор:
– А можно, я земли у вас немного отсыплю? Одну капельку?
Батурин с секунду колебался, но разрешил.
Через несколько минут фанерный ящик со всех сторон покрылся сургучными печатями. Сергей получил квитанцию, но отошел от окошка не сразу. Он еще немного постоял, дожидаясь, пока белокурая аккуратно переложит в цветастый конверт отсыпанную щепотку земли, и только после этого, поблагодарив, направился к выходу.
Очутившись на улице, он сквозь большое, тонко подрагивавшее от трамвайного гула стекло каким-то боковым зрением снова увидел белесую, почти детскую голову с двумя тонкими изогнувшимися косичками, в глубокой задумчивости склонившуюся над раскрытым пестрым конвертом.
Придя через час на работу, Батурин написал редактору заявление с просьбой предоставить ему на три дня дополнительный отпуск за свой счет для срочной поездки в Калязин «по неотложному личному делу».
ЗА ДЕРЕВНЕЙ ГЛУХОВО…
За деревней Глухово есть братская могила. Я прихожу сюда каждый раз, когда мне доведется побывать в этих местах, и каждый раз долго не могу оторвать взгляда от мраморной фигуры воина, стоящего на одном колене у гранитного надгробия.
Тихо спят солдаты под приспущенным гвардейским знаменем. Осененные тем же тяжелым бархатом, буйно растут цветы.
Сколько здесь спит сердец? Если через каждое из них проросла хотя бы одна гвоздика, я не берусь сосчитать…
Я видел много могил под Москвою, но на этой как-то особенно много цветов. И все гвоздика, гвоздика, высокая и багровая…
Чем пристальнее вглядываюсь я в белое, мраморное лицо гвардейца, тем все чаще и чаще начинает казаться мне, что я его где-то встречал, что мы с ним давно и хорошо знакомы. Вот и сейчас стою подле него с тем же тревожным чувством.
Короткий ежик волос. Худые, слегка ввалившиеся, совсем юношеские щеки. Крутой наклон головы. Широко открытые глаза. Шинель на рослой фигуре чуть-чуть топорщится: сукно у шинели жесткое, а надета она на эти плечи, видать, совсем недавно…
Ну, конечно же, я хорошо знал этого парня! Он служил в нашей роте, он ходил с нами в разведку, он, как и все мы, получал из дому – от матери или от невесты – клетчатые треугольники писем, аккуратно отвечал на них: «Жив-здоров», – не ответил лишь на последнее…
Может быть, это Вася Кузнецов, или Кузя, как его звал старшина первой гвардейской роты 213-й воздушно-десантной бригады? Может быть, это вокруг него так бушует багровая гвоздика в солнечный ветреный день?
Кстати, такой гвоздики я не видел еще нигде: на упругих стеблях цветы вытянулись почти в человеческий рост, и от этого пыльца их все время попадает в глаза, до боли разъедает веки, так что смотреть становится трудно.
Если бы я не читал раньше надписи, высеченной на черном гранитном надгробии, я, наверно, не сумел бы прочесть ее сегодня – ветер нынче резкий, порывистый и все время дует прямо в лицо. Но я уже давно помню эту надпись наизусть:
«Живущие вам бесконечно должны…»
Вот тем девчатам, всей бригадой шагающим в поле с очень веселой, задумчивой и немного грустной песней, им ведь тоже режет сейчас веки пыльца от гвоздики, выросшей возле деревни Глухово. А вот эта старуха, по-моему, вообще никогда не отходит от этих цветов. Потому-то они и выросли такими высокими!
Много подписей можно поставить под словами: «Живущие вам бесконечно должны…»
КРЫЛЬЯ
Тракторы трех колхозов, сойдясь с разных сторон в одном треугольнике возле деревни Заболотье, каждую весну между собой как бы спор вели: кому «нейтральную зону» запахивать? Каждый раз передние колеса их останавливались на одном и том же заранее определенном рубеже и дальше ни шагу.
– А может, все-таки махнем? – говорили ребята помоложе. – Чего зря земле пропадать?
– Нет, – отвечали им те, что постарше. – Понятия не имеете, так молчите. А земли у нас вон сколько!
И опять оставался нетронутым таинственный треугольник поля.
А земля словно привыкла к тому, что ее здесь наверняка не потревожат, – спала спокойно, вольготно, и полевые цветы не спешили на ней расцветать, будто хорошо понимали, что в запасе у них целая весна и целое лето. Только в конце мая начинали вспыхивать тут синие искры васильков, а ромашки распускались и того позже, но на высоких стебельках стояли потом до конца лета.
В этом месте когда-то упал и разбился наш «ястребок», атакованный пятеркой «мессеров». Сперва, говорят, называли точную дату случившегося, потом срок тот забылся, потерялся среди тысяч других.
А этой весной появилась тут странная, никому не знакомая женщина. Вышла как-то утром из дальнего леса, увязая в рыхлой земле, пересекла только что поднятое плугами поле и остановилась у незапаханного клина. Долго стояла, потом ушла.
Трактористы переглянулись:
– Кто такая? Может, так просто, прохожая?
Но на следующее утро незнакомка пришла снова и опять в задумчивости остановилась у того же самого места.
– Вчерашняя?
– Вроде бы да.
Трактористы подошли. Поздоровались.
– Вам, мамаша, чего?
Женщина молча посмотрела на трактористов. Вид у нее был человека нездешнего, городского – на глазах роговые очки, на ногах старенькие, не приспособленные к грязи туфли. Седые волосы растрепались на ветру.
– Так вы, может, к нему? – спросил один из трактористов, тоже совсем седой и старый.
– К нему, – тихо ответила незнакомка и опять умолкла, глядя на не тронутый лемехом треугольник земли.
Утро было майское, солнечное, даже жаркое. Трактористы сняли шапки и отерли вспотевшие лбы.
– Да-а… А мы о вас ничего до сих пор не слыхали, – снова подал голос седой.
– Никак не могла отыскать… – еще тише и как бы виновато сказала женщина.
Вечером в новом клубе собрались жители всей округи. Пионеры принесли цветы. Кто-то сказал речь. Школу деревни Заболотье решили назвать именем погибшего летчика.
А в самом конце собрания, когда пришло время расходиться, в клуб приковылял колхозный сторож Фомич. На покрытый выцветшим кумачом стол президиума он осторожно положил огромный кусок рваного, почерневшего от огня алюминия и, глядя в лицо приезжей, сказал:
– Твоего сокола будут крылья.
Утром следующего дня вдова героя уезжала к себе на родину. Прощаясь, незнакомые люди говорили с ней запросто, как с близким, своим человеком:
– Ты что ж, Полина Михайловна, надолго от нас?
– Нет, не надолго. Только сына вот захвачу, и опять сюда. Может, здесь и поселимся. Примете?
– Колхоз дом построит. А земли у нас хватит – сама видела.
Когда подвода тронулась и колеса затарахтели по каменистой дороге, бабы отвернулись, а мужики опять сняли шапки – день снова выдался солнечный, душный, как вчера.
В такт стучащим колесам загудел, завибрировал в телеге аккуратно обернутый холстом рваный кусок алюминия.
В толпе провожающих переглянулись – звук у металла был такой, будто чей-то невидимый самолет взревел могучим мотором и вот-вот оторвется от цветущей майской земли и уйдет в бесконечную синюю даль.
МЕДАЛЬ
В тот день, когда Грибанова вызвали в военкомат, улицы Москвы с утра высвечивало солнце, а капель строчила особенно звонко. Это вполне соответствовало настроению Грибанова. Ему в последние годы что-то не присылали повесток от военкома. Видно, старость подкралась, думал бывший пехотинец. И вдруг предписание – явиться! Грибанов повеселел. По телефону предупредил директора артели «Заря», где работал мастером, что задержится, и направился по давно знакомой, давно не хоженной дороге.
«Стало быть, не совсем еще старье». При этой мысли Грибанов поймал свое отражение в бело-голубой от облаков луже, остановился и вгляделся внимательно. Даже все морщинки с лица будто сдуло весенним ветром!
В комнате, номер которой был указан в повестке, Грибанова встретил молодой лейтенант с рассеянным выражением лица. Мельком глянув на вошедшего, офицер взял у него повестку и сказал: «Садитесь», – когда тот уже удобно расположился в клеенчатом кресле.
– Перерегистрация, товарищ Грибанов, ничего не поделаешь, оформим все записи заново. Время от времени полагается, мы с вами люди военные.
– Как же, как же! Все понятно и так. Я вас слушаю.
– Воевали? – Лейтенант нацелился авторучкой в лежавшую перед ним бумагу.
– Как положено.
– Отлично. Так и зафиксируем: участник Великой Отечественной…
– Что верно то верно, участник. Но лучше бы все по порядку, раз уж мы люди военные.
Лейтенант поправил ремни, широко раскрытыми глазами уставился на Грибанова.
– Финскую тоже обижать не будем, товарищ начальник. Какая-никакая, а война.
– Финскую?!
– Финскую.
Лейтенант запустил в свесившийся чуб пятерню вместе с авторучкой.
– Выходит, вы ветеран! О таких в газетах пишут. И ранены, наверно?
– И ранен, – просто, как о само собой разумеющемся, ответил Грибанов.
– В каком месте?
– Вот в этом. – Грибанов дотронулся до левого плеча.
Едва заметная улыбка скользнула по лицу лейтенанта.
– Вы меня не совсем поняли, я спрашиваю, где пуля вас догнала.
Теперь улыбнулся Грибанов.
– А! Пишите, под Выборгом.
– Значит, вы прошли почти всю кампанию?
– Какое там! – Грибанов махнул рукой. – Я из свежего пополнения, с марша прямо в бой. Тут меня и угораздило. Воевал минут шестьдесят, не больше.
– Тяжелое ранение?
– Легкое, пулевое. Очнулся уже в медсанбате.
– Та-ак, – записывая, протянул лейтенант. – Ранен под Выборгом. В Отечественной тоже участвовали?
– По силе возможности.
– И еще ранения были?
– Так точно.
– Где и когда?
– Второе там же, под Выборгом.
– Какое совпадение! В финскую под Выборгом и в Отечественную?
– Теперь вы меня не совсем поняли, – поправил лейтенанта Грибанов. – Вторая пуля, представьте, меня отыскала там же и в тот же день.
– Ничего не понимаю. Вы ведь были уже в медсанбате?
– Там и отыскала. Пришел я в сознание, гляжу на себя и в толк взять не могу: левое плечо перевязано, а из правого фонтаном хлещет. Пробую встать, ни черта не выходит. Тут санитар прибежал. Это шальная, говорит. Вот и дырка в брезенте!
– Так, так, та-ак… Значит, оба ранения получил на финском?
– Не оба, а два. Это точнее будет.
Офицер был явно смущен своей неловкостью. Записав все, что сказал ему Грибанов, он дальше спрашивать уже не решался, боялся снова впросак попасть. Грибанов заметил это, но виду не подал. Он не спеша достал папиросу, попросил разрешения закурить.
– Конечно, конечно, курите, – обрадовался наступившей разрядке лейтенант. – Может, вам сигарету?
– Нет, я больше насчет «Беломора».
Перекурив, вернулись к бумагам. Видя, что лейтенант еще испытывает стеснение, Грибанов пошел ему навстречу:
– На чем мы остановились? На втором ранении?
– На втором, – обрадованно подхватил лейтенант.
– Хорошо. Про контузию писать уж не будем, хоть, откровенно сказать, от нее до сих пор недослышу малость.
– Нет, нет, положено все писать, – сказал лейтенант. – Иные контузии хлестче всяких ран, это я по себе знаю.
– Неужто воевали? Вы ж молодой еще человек, – удивился Грибанов. – Думаю, в войну совсем мальчиком были?
– Совсем, – уже без всякого смущения кивнул Грибанову офицер. – Под Саратовом это было. Пошли мы с братишкой на Волгу гонобобель собирать, ягода такая есть в тех местах, от цинги помогает.
– Как же, знаем такую. И что же?
– А он, – лейтенант сделал на слове «он» такое ударение, какое всегда делают солдаты, когда разговор о враге заходит. – А он как раз на мост навалился. Фугас за фугасом! Нефтянки разбил – вся Волга в огне…
– Это дело известное, – Грибанов участливо поглядел на лейтенанта. – Ну, а дальше?
– Ну, а дальше, как у вас под Выборгом, – очнулся я уже у врачей. Определили контузию. Я тогда и слова такого еще не знал. Пустяковая штука, а до сих пор не отпускает.
– Погоду чует?
– Барометр!..
Два человека, молодой и старый, посмотрели друг другу в глаза, и опять закурили. И снова окно занавесилось на минуту-другую синей шторкою дыма.
Первым докурил Грибанов.
– Итак, на чем мы там остановились? На контузии?
– На контузии.
– Получил я ее в эшелоне.
– Когда вас везли в госпиталь? – приготовился записывать лейтенант.
– Нет, тут с финской, считайте, закончено. Начинается Отечественная. В эшелоне он нас накрыл под Вязьмой. – Теперь Грибанов сделал ударение на слове «он».
– Тяжелая, говорите, была контузия?
– Контузия была поначалу так себе, ерунда, а дело было серьезное.
– Под Вязьмой-то?
– Под Вязьмой. Запалил он нас с двух концов – с хвоста и с головы, стал еще по середке бить, а там у нас ящики снарядные, а на соседних с нами путях – санитарный, человек тыща одних лежачих. Ну, тут про всякие контузии, конечно, забыть пришлось. Целый день и целую ночь со смертью в жмурки играли. Под утро, слышу, голова не моя, руки не мои и ноги тоже чужие…
У Грибанова давно уже кончился «Беломор», он не заметил, как переключился на сигареты лейтенанта, а тот все писал и писал.
Когда добрались до конца анкеты, Грибанов и офицер были не просто хорошо знакомыми людьми – они невзначай перешли на «ты» и как будто даже породнились, какая-то неуловимая и в то же время нерасторжимая связь соединила этих двух утром еще совсем не знавших друг друга людей.
– А теперь награды запишем, – сказал лейтенант в заключение.
– Особых регалий нету, но одна висит.
– За отвагу, конечно?
– За какую отвагу? Ты что? За трудовую доблесть, известно. Прошлым летом по случаю юбилея нашей артели пожаловали. – Грибанов с гордостью отвернул борт бобрикового пальто. – Видал? В самом Кремле получена.
– Это, конечно, почетно, но я имею в виду боевые награды, военные, – не унимался лейтенант.
– Ну вот, заладил: боевые, военные. Ты ведь русский человек, все слышал, все записал, знаешь, как война для меня сложилась – одни ранения да контузии, контузии да ранения. Горе, а не война – и та и другая…
Вечером, в конце работы, после долгого заседания лейтенант пришел в кабинет к военкому, рассказал ему о Грибанове. Полковник внимательно выслушал подчиненного, снял с полки толстую книгу, почему-то долго листал ее, наконец спросил:
– Медаль «За трудовую доблесть», говорите?
– За трудовую, товарищ полковник. В артели у них, видите ли, юбилей был, а артели этой днем с огнем не разглядишь!
Полковник улыбнулся, опять полистал толстую книгу, постучал ногтем по настольному стеклу.
– Документы у Грибанова вашего все в порядке?
– В полнейшем, товарищ полковник. Иначе не стал бы вас беспокоить. Вот посмотрите…
Долго в этот вечер длился разговор двух военных. Дата за датой, шаг за шагом проследили они весь славный боевой путь бывшего пехотинца, состоявший, по его словам, из одних госпиталей.
– А ведь вы правы – судьба-то какая! – сказал лейтенанту полковник. – Я бы на вашем месте взял бы и рапорт написал. Так, мол, и так.
– Мне написать? – удивился лейтенант. – Как написать? Да я же…
– Именно вам. Так и пишите, как рассказываете. У вас должно хорошо получиться.
Полковник встал из-за стола, поглядел на часы, но перед тем, как отпустить подчиненного, посоветовал:
– Только не сегодня, а завтра, с утра, чтобы на свежую голову. Это надо очень хорошо написать, понимаете, очень!
– Понимаю, товарищ полковник.
– А Грибанова вызовите-ка ко мне. Хочется на него одним глазом глянуть. Был у нас в дивизии один солдат – точная копия этого. Награды – за ним, он – от них. Где, вы говорите, он еще воевал-то?
– Да он почти везде воевал, товарищ полковник. Где только не воевал! Вы же видели.
– И под Керчью был?
– Вот только что под Керчью не был.
– А под Майкопом?
– И под Майкопом не довелось.
– А я как раз именно там лихо хлебнул – у Керчи и Майкопа. Но я же ясно помню, был у нас такой. Одним словом, вызовите.
Полковник и лейтенант погасили свет, вышли, распрощались до завтра и направились в разные стороны. Полковник жил поблизости и минут через десять был дома. Несмотря на усталость, он не скоро уснул в ту ночь.
А лейтенант, не дождавшись трамвая, долго еще вышагивал по ночной Москве в сторону Тимирязевки и тоже был переполнен впечатлениями минувшего дня. Тонкий ледок хрустел под его каблуками звонко, на всю улицу, как только может хрустеть последний ледок апреля.








