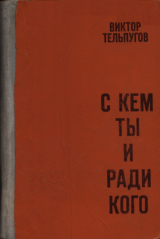
Текст книги "С кем ты и ради кого"
Автор книги: Виктор Тельпугов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
ВОЗЛЕ СТАРЫХ ДОРОГ
Солдаты лежали в продымленной землянке и разговаривали. В темноте не было видно, сколько собралось тут народу – двадцать человек, или сорок, или все сто, но разговор у них был общий, один на всех и велся как-то так, что никто не мешал друг другу, хотя часто один другого перебивал на полуслове.
Комбат Майоров привел меня сюда обогреться, пристроил возле раскаленной печурки и исчез.
При появлении постороннего человека разговор сначала притих, но через некоторое время возобновился.
– Не зря, значит, слава о ребятах из первой роты идет? – спросил кто-то, свесившись с верхней нары.
– Зря или не зря, а в бою они побывали не раз, – отозвался ему тонкий, почти детский голосок из самого дальнего угла.
– Придет скоро и наш срок, – прогудел немолодой, хрипатый бас где-то совсем рядом со мной. – Я вот, можно сказать, старик, а и то в настоящем деле вместе с вами отличиться думаю.
– Правильно, папаша, мы хуже первой, что ли? Да мы еще, может…
– А ты случайно не из первой?
Я не сразу сообразил, что вопрос этот адресован мне, и еще несколько мгновений молча следил за короткими перебежками синих огоньков в печурке.
– Не из первой? – снова услышал я за своим плечом и обернулся на голос, но никого во тьме не увидел.
– Это про меня, что ли? – спросил я наугад.
– Про тебя.
– Нет, не из первой.
– Жаль.
– Почему?
– Да мы тут все новички, только-только с пересыльного, а в первой, говорят, герой на герое. Правда, мы их пока не видали, все легенды одни слышим, вот и хотелось взглянуть на настоящих людей, так сказать, невооруженным глазом.
– Легенды? – спросил я.
– Ну, одним словом, молву всякую.
– А вы не сомневайтесь, соседям вашим геройства и впрямь не занимать. Я вчера был у них, познакомился.
– А мы и не сомневаемся – наоборот, с полным фронтовым почтением! – отозвался уже знакомый мне бас. – Ежели честно сказать, мы даже в зависти. Верно, что ли, сыночки?
– Так точно, папаша, в нашей роте своих героев покуда нет.
– Откуда ж им быть? Герои с неба не падают, – рассудительно проворчал «папаша» и присел рядом со мной у печки. – Собрали нас с бору по сосенке, в бой не пускают, все чего-то дожидаются, а мимо нас маршевые топают и топают. Нас только зря по тревоге каждую ночь поднимают. Всполошат, построят: скидавай, говорят, хорошее обмундирование в пользу тех, кто с марша в бой прямиком. Намедни разбудил старшина, выстроил в лесу: сымай новые шинели, а в обмен – обноски всякие. Давеча построил и как курам на смех: «Шапки долой!» Заместо своих теплых треухов получаем шлемы – «рваные паруса»…
Солдаты дружно рассмеялись, а хрипатый, обращаясь ко мне, продолжал:
– Утром была у нас политинформация. Новый замполит заступил. Ничего еще толком не знает, не ведает. «Ну, кто, говорит, слышал, какая нынче сводка? Чего-нибудь наши взяли?» – «Взяли, отвечаем, товарищ замполит, взяли». – «Докладывайте, говорит, сами слышали?» – «Даже видели, товарищ замполит: взяли у нас маршевики сто двадцать шапок – и айда на Берлин!»
От общего хохота с новой силой заметались синие огоньки в печурке. Когда в землянке снова стало тихо, я спросил:
– Ну и как? Очень рассердился замполит?
– Не-е. Он мужик, видать, ничего, с пониманием. Вместе с нами посмеялся и говорит: «Настанет час, и мы с вами в Берлине будем, а в разбитых лапотках даже шибче шагается, это вы уж мне поверьте».
Землянка опять вся задрожала от хохота, будто небо над нею низко летящий снаряд пропорол.
Когда солдаты угомонились, хрипатый опять за свое:
– Ну, мы, кажись, сбились с азимута. Начали про Фому, а перешли совсем на Ерему. Я вот про ту роту думаю. Ты, стало быть, был в первой? – тронул он меня за плечо.
– Вчера.
– Герои?
– Ага.
– Все как есть?
– Имеются.
– Вы слышите?
Ему не ответили – дверь землянки, неожиданно взвизгнув, широко распахнулась, снаружи со свистом и шипеньем вкатился лохматый клубок мороза, тусклый луч света скользнул по сбитым подковкам сапог у лежавших вповалку солдат. Потом снова стало темно и тихо. Кто-то пробурчал:
– Дует, как при капитализьме.
После нового взрыва хохота разговор продолжался. О героях, о подвигах, о храбрости тех, кто там, впереди, шагал по гудящей земле сраженья, со смешком и всерьез говорили разомлевшие в тепле солдаты.
– А в первой что? А в первой как? – все чаще сыпались ко мне их вопросы.
Я сперва коротко отвечал, односложно, но постепенно, незаметно для самого себя втянулся в разговор, сам стал вставлять словечки, вспоминать разные дела да случаи из фронтовой жизни.
Рассказал я притихшим солдатам и историю про одного волжанина, услышанную мною вчера в первой роте.
– Про пекаря будет рассказ, – полушутя, полусерьезно предупредил я и пошевелил полешком начавшие темнеть угли.
– Про пекаря?!. Нам бы про героя…
– Да дайте вы человеку высказаться. Пекаря, они тоже ведь разные бывают, – поддержал тут меня хрипатый.
Когда нетерпеливые угомонились, я уселся поудобнее и рассказал все по порядку.
В Белоруссии это было, в районе Речицы. Десяток наших парашютистов после выполнения задания в тылу противника с важными сведениями и документами пробивались к своим. Израненные, измотанные, голодные, люди теряли последние силы. Линия фронта была где-то уже недалеко, но чем ближе подходили к ней десантники, тем трудней им становилось. Все дороги забиты немцами, а чуть с большака свернул – полезай в болото. Ни костра развести, ни обсохнуть, а на дворе уже осень глубокая, снег дождю на пятки наступает. Деревни кругом спалены.
И вдруг на исходе одного особенно ненастного дня учуяли ребята где-то совсем рядом, за леском, запах тепла и хлеба. Ничто уже не могло их остановить – поднялись во весь рост, ошалело пошли навстречу одурманивавшему ветру. Скоро они оказались на открытом пригорке, затянутом со всех сторон сетью черно-белых дорог. В колеях – давленные отпечатки колесных следов. Видно, весь день месили и трамбовали тут снег и грязь немецкие машины. А в центре пригорка – красный кирпичный дом с высокой трубой. Как он здесь уцелел, никто понять не мог. Да об этом в тот момент никто и не думал. Не рассуждая, забыв о всех мерах предосторожности, ворвались парашютисты в дом и остолбенели от удивления: в одном углу пылает жаром не закрытая заслонкой огромная русская печь, а на широких столах вдоль стен – не успевшие остыть еще чадящие противни. Другой угол почти до потолка завален мешками с мукой.
– Пекарня не пекарня, склад не склад! – командир запустил руку в один из мешков по самый локоть. – Кто пекарить учен?
– Я могу, – вперед шагнул пожилой солдат. – До войны в Саратове по этому делу работал.
Молодые с завистью и надеждой глянули на него, а командир сказал:
– Ну вот что, немец может явиться в любую минуту. Я всем десантом рисковать не могу. Один тут управишься?
Солдат вместо ответа начал решительно закатывать рукава.
– Молодец! А остальные – кру-гом!
Он был немножко поэт, а главное – никогда не терял присутствия духа, потому добавил:
– Шагай в болото, моя пехота!
Под утро с двумя духовитыми, горячими буханками под полами шинели саратовский пекарь явился к своим.
– Только я за порог, а он тут как тут.
– Не заметил?
– Не-е! Я ж, товарищ командир, не просто пекарь я, пекарь-десантник.
Сказал так и рухнул к ногам товарищей. Думали, объелся там в пекарне непропеченным хлебом, кинулись к нему, сдернули одежонку, а у него живот прилип к позвоночнику. Кто-то понимающе вздохнул:
– Голодный он, как пес, вот и все.
Привели пекаря в чувство, осторожно, как малого ребенка, накормили, а он:
– Нынче к ночи сходить бы еще, а? Немец только днем печет – каждого куста тут боится. Вот и буду с ним в пересменку. Надо ж нам силенок набраться, товарищ командир?
– Надо.
И пошла в той пекарне круглосуточная работа: днем для немцев хлеб печется, ночью – для наших. Ночью сидит в пекарне волжанин и топит так, чтоб ни искорки не было видно. Под утро съезжаются к пекарне немецкие обозники.
Так продолжалось несколько дней. Окрепли малость ребята, стали трогаться дальше. Последнюю выпечку пекарь вместе с немецкой пулей принес.
– Как с пулей? – перебил меня кто-то из солдат.
– Выследили его таки немцы, с танками автоматчики к пекарне двинулись, думали, там целая рота печет. Такую стрельбу подняли, что от пекарни одна труба осталась.
– А пекарь?
– А пекарь живым-невредимым к своим добрался в обнимку с горячим хлебом.
– А пуля?
– Пулю уж потом нашли. Разрезали одну буханку, она к ногам и упала…
– Вот это действительно герой из героев.
– Да-а.
Я уже давно закончил свой рассказ, а в землянке было еще так тихо, будто все продолжали слушать. А может, ребята и в самом деле слушали уже не меня – вой декабрьского ветра в железной трубе печурки, сквозь который все отчетливей доносился грохот далекого боя.
– Ну как? Верно я, значит, сказал? Разные пекаря бывают? – резюмировал мой рассказ хрипатый.
– Верно!
– То-то оно и есть.
На следующее утро я покинул гостеприимную землянку. Комбат Майоров дал мне лошадь и пожелал счастливого пути.
Ездовым у меня оказался один из вчерашних собеседников – пожилой солдат, которого я сразу узнал по густому, охрипшему басу.
Когда мы проехали по лесной дороге километра два или три, он обернулся ко мне и, протянув полный, завязанный «под горлышко» кисет, сказал:
– Куришь? Самосадик. С госпиталя еще берегу. А здорово ты давеча им про пекаря-то! Ух, здорово!
– Вам понравилось? Правда?
– Лихо.
– Мне даже самому не верится, что такие вещи на свете бывают.
– Бывают. Все, как есть, расписал, точка в точку. Только в одном месте, сынок, ошибся, и то самую малость.
Я недоуменно глянул на солдата
– Не в Речице то было, а у самых, считай, Старых дорог, недалече от Белой балки. Понял? – Он весело перекрестил кнутом чуть сбавившую ход лошадь. – А так все справедливо: и про немца, и про хлеб, и про пулю в буханке.
– Справедливо? – удивленно спросил я. – Это хорошо, а то я вот в газету пишу, все боюсь, как бы чего не напутать.
– Говорят тебе, точно, только Речицу на Старые переверни, и полный порядок будет.
– А вы сами-то, папаша, не напутали? Вы сами-то от кого слыхали?
– От кого, от кого! Заладил…
– Нет, уж начали, так говорите до конца, газета есть газета.
– А ты меня не выдашь?
– Что вы!
– И в печать не пропустишь?
– И в печать. А что?
– А то, что везет тебя младший сержант технической службы коренной волжанин-саратовец. Понял? – Солдат еще раз беззлобно хлестнул лошадь и добавил – Той самой пекарни, значит, главный пекарь.
Он обернулся, и я в первых лучах рассвета увидел его белый висок.
Солдат гордо распрямил ссутулившиеся на морозе плечи и задумчиво сказал:
– А героев у нас в отделении тогда не было. Ни одного. Они уж потом пошли, когда я в госпиталь угодил. Ясно? – Он перекинул вожжи из руки в руку и обернулся ко мне еще раз.
– Так запомни: не в Речице, а возле самых Старых дорог. Может, и сейчас стоит там кирпичная стена пекарни, совсем ведь недавно дело было – год назад.
– Запомню, отец, – отозвался я и снова, теперь уже совершенно отчетливо, увидел перед собой белый, будто той мукою припорошенный, висок солдата.
ПОРТРЕТ
Осенью сорок первого года мы лежали в тесной палате со сводчатыми потолками: госпиталь расположился в монастыре, другого места для него интенданты уже не могли сыскать в забитом беженцами городе. Налеты бывали часто, и, когда шла бомбежка, глухо гудели в ночи безъязыкие монастырские колокола.
– Ну, сегодня как-нибудь, а завтра блины, – мрачновато пошучивал солдат, лежавший возле узкого окна, похожего на крепостную бойницу.
И завтра действительно случалось что-нибудь очень хорошее – то письмо придет кому-то от потерявшейся было семьи, то детдомовцы, шефы наши, пожалуют.
Мы любили своих шефов, ждали их всегда с нетерпением. А те, как чувствовали, являлись в самый нужный момент – когда кончалась махорка, когда сводка бывала такой, что хуже не придумаешь. Придут, рассядутся на краешках коек, развяжут принесенные узелки.
Посидят, повздыхают, на прощанье непременно спросят, чего принести завтра.
– Да ничего нам не надо! Приходите, и все.
Так и жили – от одного появления шефов до другого часы отсчитывали.
– Ну, нынче как-нибудь, а завтра опять небось прискачут. Поговоришь с такими – как дома побываешь…
Но до дома было далеко, как до полюса, а монастырские стены трещали по всем швам.
Как-то рано утром проснулись мы, а на тумбочке посреди палаты – стопка книг, десятка полтора-два, и фотография Ленина, окантованная, под толстым стеклом, треснувшим с угла на угол. Откуда – никто не знает.
Заколотили гвоздь между кирпичей, повесили портрет, книжки читать принялись. Немец кружит над городом, а в палате только шелест страниц стоит. Немец бомбит, а мы читаем все подряд: «Графа Нулина», «Устав комсомола», «Беседы по агротехнике»…
Врачи не протестуют – бомбоубежище все равно завалено, скрыться некуда.
Вдруг замечаем странную вещь – солдат, что лежал у окна, поднялся и как-то чудно заходил по палате – сделает шаг, постоит, шагнет еще разок, опять остановится. И все оглядывается на ленинский портрет и молча поводит плечами, будто сам с собой разговаривает.
Присмотрелись мы к портрету внимательней и видим – Ильич сквозь разбитое стекло глядит как-то по-особенному: и пристально и в глаза каждого из нас.
Помню, вся палата встала на ноги. Даже тяжелораненые зашевелились. Кто не мог подняться, просил койку свою хоть немного пододвинуть к стене с портретом. Сам главный врач и тот улыбнулся, когда ему объяснили, в чем дело.
– Как же это здорово, товарищи! Вы только вдумайтесь.
Как всегда, остался невозмутимым лишь старик санитар. Подошел к портрету, помолчал, стал еще серьезнее:
– Это я давеча на Слободке нашел. Ни одного живого домишка там не осталось – пепел да щебень. В одном месте, гляжу, ветер под ногами обгорелые книжки листает. Стал я их сгребать, в охапку – для политграмоты. Откуда ни возьмись – портрет!..
Долго мы в тот день не могли угомониться. Все дивились необыкновенному ленинскому взгляду.
В углу кто-то тихо вздохнул:
– Жаль, шефов сегодня нет. Поглядели бы!
Кто-то ответил еще тише:
– Скоро нам в путь-дорожку. Кто в маршевую, кто в батальон выздоравливающих, кто куда. Может, подарить портрет ребятам? Хорошая память будет.
Так и решили. Надпись на обороте сделали: «Дорогие шефы! К борьбе за дело рабочего класса будьте готовы! Помните, Ленин смотрит на вас».
Запаковали подарок, стали ждать ребят.
А ночью началась срочная эвакуация города: немец близко подходил.
Грузим мы банки-склянки всякие в эшелон, а сами про шефов думаем: «Что с ними? Где они? Вот ведь досада какая!»
Но шефы свое дело знали хорошо. Когда поезд с госпиталем совсем был готов к отправке, мы услышали в темноте знакомые голоса:
– Эй, где тут наши?..
У нас отлегло от сердца. Втащили ребят в вагон.
– С нами поедете?
А они в ответ:
– Не можем. Детдом грузится на соседних путях. Проститься пришли. И вот вам подарок.
Ребята аккуратно положили что-то на холодный чугун печурки, стали молча прощаться.
Мы тоже больше ни слова не сумели сказать. Только лейтенант Куняев, сунув под мышку кому-то из шефов заготовленный нами пакет, чуть слышно проговорил:
– А это от всех нас. На добрую память…
Они ушли. Минут через десять соседний эшелон, резко хлестнув буферами, покатился, начал набирать скорость, и растаяли во мгле нечаянные искорки его паровоза.
Скоро двинулись в путь и мы.
Поздний осенний рассвет просочился в люки нашего вагона уже где-то за Доном. Осмотрелись, развернули ребячий подарок и ахнули – перед нами был портрет Ильича, чуть поменьше нашего, в узорчатой фанерной рамке. Взгляд Ленина удивительно походил на тот, каким глядел он с уже знакомой нам фотографии, – задумчивый, пристальный, неотрывный. Ни дать ни взять копия с того самого!
На обороте портрета мы прочитали: «Дорогие друзья! Желаем вам всем здоровья и новых подвигов»
ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Памяти Ивана Меньшикова и Леонида Вилкомира
Под каждой, даже самой крохотной заметкой для многотиражки на фронте я всегда ставил подпись: «Ваш военный корреспондент». И хотя всем в полку и без этих слов было ясно, что, раз человек пишет в газету, значит, он корреспондент, а поскольку идет война, стало быть, он корреспондент военный, я все-таки не мог подписываться иначе.
Подполковник Казанцев острил по моему адресу, но я терпеливо сносил его колкости, ибо знал, что он вообще ко всем журналистам на войне относился по меньшей мере иронически:
– Ходячие списки опечаток! Мало смыслят коллеги ваши в военном деле. Мало! И знать по-настоящему ничего не хотят.
Кое-кто из нашего брата действительно давал подполковнику основания возмущаться. Прискачет какой-нибудь лихой репортер «из центра», поговорит на ходу минут десять с летчиками – через несколько дней появляется в газете фантастическое попурри из общих слов и безнадежно перевранных фамилий. Читаем и удивляемся:
– Про нас ли это, братцы?! А может, так и нужно? Цензура, она ведь всех «под бобрик» стрижет.
Подполковник гневается еще больше:
– Насчет цензуры это вы верно. Есть на свете такая цензура – безответственность. Она из Новочеркасска запросто Новороссийск делает, море Лаптевых шутя превращает в канал Грибоедова! Иные борзописцы по задворкам войны ошиваются, сочиняют всякие были и небылицы по протоколам комсомольских собраний.
Сколько мы ни пытались убедить Казанцева в том, что журналисты бывают разные, он только багровел, словно клюквенным морсом наливался.
Однако он был человеком добрым, верившим в людей и не умел долго сердиться, хотя некоторых газетчиков недолюбливал по-настоящему и старался держаться от них подальше. А они, как назло, находили его везде и всюду, на все лады расписывали смелость, выдержку, боевой опыт Казанцева и его бесстрашных асов.
Однажды июльским утром сорок второго года в нашей части появился корреспондент «Комсомольской правды». Казанцев и его встретил хоть и вежливо, но настороженно.
– Сергей Бардин, – приложив руку к виску, представился прибывший.
– Знаю, знаю, – не дал ему договорить подполковник. – Что делать собираетесь?
– Что делать? Собираюсь писать… – переступив с ноги на ногу, ответил корреспондент и почему-то виновато улыбнулся.
– О чем же? Вы ж еще ничего не видели, молодой человек, ничего не знаете.
– Посмотрю, узнаю… – совсем уж обескураженно заулыбался Бардин.
– Ну, ну, смотрите, смотрите, – с ехидцей процедил подполковник.
Всем, кто присутствовал при этой сцене, стало как-то не по себе. Никто из нас не знал раньше Бардина, мы первый раз видели его нескладную, угловатую фигуру, его смешные перекосившиеся очки с раздавленными стеклами, но в глубине души мы искренне пожалели этого человека. Я подумал: конечно, до героя парню еще далеко, как отсюда до Одера, но подполковник мог бы быть к нему капельку ласковей. Ведь совсем мальчик еще – лет двадцать, не больше.
На следующее утро кто-то из летчиков, глядя на Бардина, даже рассмеялся.
– Смотри-ка! Из молодых, да в ранние. Так и вертится вокруг начальства – от командира к военкому, от военкома к командиру. Наверно, собрал уже все сведения, клянчит машину на обратный путь.
Кто-то ответил:
– Бывает. Что с него спросишь? Мальчик. Лет восемнадцать от силы.
Улучив момент, я еще раз глянул в упор на корреспондента и мысленно согласился: да, двадцати, конечно, нет – восемнадцать самое большее.
Вечером я получил боевой приказ. Мы вылетали к партизанам, даже не сумев как следует проститься с товарищами. Жали друг другу руки уже под крыльями взревевшего самолета, но кто-то еще успел крикнуть остающимся:
– А мальчишке подсобите! Подбросьте к своим на попутной!
– Ладно, ладно, – отозвался кто-то из темноты, – все образуется. У Казанцева тоже сердце не камень, на чем-нибудь подбросит птенца и еще летным пайком обеспечит вперед на неделю.
На этом мы и расстались. Больше я не видел никого из полка. Передали наш самолет партизанскому соединению до самого конца войны, а после победы полк был расформирован и мне не довелось больше ничего узнать о судьбе безусого военкора, хотя вспоминал я его часто. Сам не знаю почему, но облик его надолго запечатлелся в моей памяти с момента той первой и единственной встречи.
После войны стали мы разыскивать старых фронтовых друзей и товарищей. Многих недосчитались, конечно, но кое-кого и нашли. То там, то здесь начали отзываться однополчане. Нашел я в Москве сперва Сугеева Жору, турельного стрелка, потом Кузнецова, Ивана Брагу. В Ленинграде обнаружил Верочку Строеву (теперь Веру Сергеевну Немчинову). Из Калинина подал голос Сашуня Парфенов, из Энгельса Рыбин откликнулся… Сижу вечерами, перебираю письма. Хорошо на душе становится. Вот оно, наше фронтовое братство! А сам нет-нет про того мальца-военкора вспомню. Где, думаю, он? Что с ним сталось?
Случай помог мне напасть и на его след. Позвонил мне как-то Сутеев.
– Ты?
– Младший сержант технической службы, – отвечаю.
– Здорово. Я уже говорил тебе, что в архиве работаю?
– Так точно.
– Ну так вот. Бардина Сергея помнишь? Корреспондентом к нам приезжал. От «Комсомолки». Смеялись еще над ним все.
– Ну, ну!
– Бумагу я тут одну вчера раскопал. Короче говоря, донесенье.
– О нем?
– Да. Хочешь, прочитаю?
– Читай…
– Слушай внимательно.
И я услышал:
– «9 июля 1942 года на аэродром, где дислоцируется 103-й авиационный полк, прибыл корреспондент «Комсомольской правды» Сергей Бардин за получением информации о боевых действиях летчиков…» Слушаешь?
– Читай, читай!
– Так вот. «Узнав о предстоящем вылете группы самолетов на боевое задание, товарищ Бардин стал проситься в полет. Командир и военком части отказали ему. Тогда Бардин обратился к находившемуся на аэродроме командиру 216-й дивизии генерал-майору авиации Штеменко…» Слушаешь?
– Дальше!
– «Генерал вначале не разрешил, но потом вследствие настойчивых просьб корреспондента дал свое согласие. Бардин вылетел на самолете, который пилотировал лейтенант Кислов. После успешного выполнения задания самолет был атакован шестеркой «мессершмиттов», принял бой, на высоте 400 метров загорелся и упал на землю в районе станции Ермаковская на территории, занятой противником. Летчик Кислов и корреспондент Бардин погибли как герои…» Слышишь, старик? Алло! Что ты молчишь? Алло!..
– Слышу, старик, слышу…
– Вот тебе и мальчик!
– Да-а…
– Что ты скажешь на это? А?
– Что скажу? Ничего не скажу, Сутеев. Впрочем, надо нам теперь попробовать разыскать еще подполковника Казанцева, сообщить ему. Пусть знает, как сложил корреспондент свою голову. Как ты считаешь? Он ведь мог и не знать всех…
– Это, старик, лишнее, – перебил меня Сутеев.
– Что значит – лишнее? Сделать это просто наш долг!
– Я тебе еще не до конца бумагу прочел. После всего этого в донесенье указано: «За командира 103-го авиационного полка подполковник Казанцев». Все понял? Что ты молчишь? Алло!..
– Теперь все понял… А я, знаешь, Сутеев, все время вспоминал Бардина.
– И я. Но, честно говоря, героем его не считал, думал, мальчик и есть мальчик. А он ишь какой!








