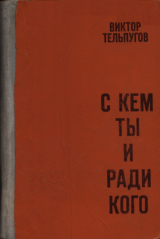
Текст книги "С кем ты и ради кого"
Автор книги: Виктор Тельпугов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
ЗЕМЛЯКИ
Грачев и Апраксин, пассажиры парохода «Котовский», шедшего из Волгограда вверх по Волге, разговорились неожиданно – прикуривая на палубе друг у друга.
– Вы, не иначе, саратовец! – обрадовался Апраксин, услышав распевный говорок попутчика.
– Угадали, но не совсем. Из Энгельса я.
– Считаю, попадание прямое: меж ними Волга одна.
– Справедливо. И вы, сдается мне, здешних краев?
– Отчасти, – в тон собеседнику пошутил Апраксин. – Родился в Царицыне, воевал в Сталинграде, а нынче в Волгограде работаю…
– Помотались, выходит, по белому свету, – Грачев засмеялся. – И все-таки земляки!
– Земляки стопроцентные, – согласился Апраксин. – Мальчишкой я еще и в Энгельсе жил.
«Котовский» шел вперед. Шум его колес, то чуть затухавший, то вспыхивавший с новой силой, не мешал двум новым знакомым разговаривать. Собственно, говорил главным образом Апраксин, Грачев – слушал. Ему было интересно узнать о битве на Волге из уст очевидца и непосредственного участника событий. Апраксин, почувствовав это, увлекался все больше.
Перед Грачевым во весь рост вставал настоящий сталинградец – не бахвалящийся своими заслугами, но в то же время не стесняющийся, где надо, подчеркнуть, что это именно он, Апраксин, а не кто иной, бросил связку гранат под гусеницу «фердинанда», когда тот утюжил окоп их роты. А как же? Что было, то было!
Грачев любовался своим земляком, его отвагой. Только изредка перебивал вопросами и снова слушал, слушал и завидовал человеку, сумевшему так героически проявить себя на войне и получившему право так о войне рассказывать.
Апраксин вспоминал такие вещи, о которых Грачев не имел и представления.
– Вот мы с вами для примера давайте землю возьмем – один квадратный метр сталинградской земли. Только один, – Апраксин согнутыми в локтях руками обозначил в воздухе предполагаемые границы метра. – Так вот, на него вся немецкая промышленность работала день и ночь. После войны подсчитали точно: тысяча шестьсот осколков в том метре! Я до сих пор, когда по улицам Сталинграда иду, слышу, как осколки гремят у меня под ногами. Все убраны давно, на полках музеев разложены, а я слышу и слышу – гремят!
– На вас, на самом-то, места небось живого нет? – спросил Грачев.
– А меня, вообразите, бог миловал. Сам удивляюсь. Ну хоть краешком зацепило бы! Как в песне поется: смелого пуля боится, смелого штык не берет!
Сказал так, и опять не было в тех словах никакой рисовки. Просто радовался человек своей удачливости, ну и, конечно, законная гордость в них была. Вот, мол, какой мы, волжане, народ. И крупповский чугун против нас бессилен, и прусской стали мы не по зубам.
– Давно из армии? – поинтересовался Грачев.
– Сразу после войны – в гражданку, за свое дело. А сейчас в Энгельс командирован, на Химкомбинат. Ну, ладно, я, кажется, заговорил вас совсем, целый вечер воспоминаний устроил. Вы-то что? Где и как воевали?
Грачев зябко поежился на сыром, усиливавшемся к ночи ветру, развел руками, но совсем не так, как Апраксин, когда свой метр показывал.
– А я, извините, отсиделся в тылу…
Апраксин промолчал, но в глубине души откровенно пожалел в ту минуту, что судьба свела его с человеком, не нюхавшим пороха.
Грачев, словно угадав ход мыслей своего собеседника, продолжал:
– Да еще в каком тылу! В том самом Энгельсе, куда мы с вами путь держим. Теперь он, правда, разросся, а тогда невидимкой был. Мастерская наша «Заря революции», я и по сей день там работаю, в первые же дни войны переквалифицировалась – стали мы танки штопать. Дыра на дыре, а мы все латаем и латаем…
– Ну, что ж, и это неплохо! – воскликнул Апраксин. – На фронт не просились?
– Почему не просились? Просились. Тем более мы совсем молодые в то время были ребята. Обещали, но пустить не пустили.
Апраксин поглядел на Грачева уже с нескрываемым превосходством: он сам-то в дни Сталинградской битвы был и вовсе мальчишкой.
Проговорили они допоздна. Потом, пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись, забыв почему-то спросить, кто в какой каюте. Но это было не столь уж важно – «Котовский» не океанский лайнер, потеряться на нем невозможно.
Апраксин, убаюканный перебором колес, вскоре уснул. Ему, коренному волжанину, вообще всегда хорошо спалось на воде, а сегодня он не просто спал – упивался отдыхом, нежданно-негаданно подоспевшим после трудной работы. Проснулся он все-таки задолго до рассвета.
Лопотали, лопотали колеса «Котовского» и вдруг смолкли. Только еле слышно шлепала где-то внизу волна по остановившимся плицам. Эта то тишина и разбудила Апраксина. Он быстро поднялся, отворил окно и отпрянул назад – лохматая масса тумана вплотную подступила к глазам.
Надрывно и тошно завыла сирена. «Почти совсем как т о г д а», – подумал Апраксин. Вскоре еще один, совсем уже странный звук привлек его внимание: чей-то тихий, едва уловимый стон.
Апраксин поторопился к выходу. В двери, распахнутой в конце коридора, снова встретила его все заслонившая собой непроницаемая пелена тумана.
Оказавшись на палубе, Апраксин больно ударился о какой-то косяк и сам чуть не вскрикнул от боли. А стон между тем повторился. Сейчас он был еще ближе, еще явственней. Апраксин инстинктивно пошарил перед собой вытянутыми руками и наткнулся на ребристую ставеньку окна чьей-то каюты. Ставенька отворилась, на Апраксина пахнуло резким запахом лекарства.
– Кто тут? – испуганно спросил он.
Никто не ответил. Он попробовал зажечь спичку, но от волнения рассыпал весь коробок. Чертыхаясь, неловко втиснулся в узкое окно.
– Это вы? – услышал он вдруг знакомый голос возле самого уха.
Ошибки быть не могло – это был голос Грачева.
– Земляк! Это вы стонали? Или не вы?
– Я и сам не пойму. То схватит, то отпустит, то уймется, то снова хоть на стену лезь. Сильно кричал, да?
– Не, не особо, – попробовал утешить Грачева Апраксин, – но сейчас тишина такая, в тумане стоим, каждый звук слышен. Что с вами? Заболели?
Вместо ответа Грачев включил настольную лампу, и Апраксин увидел на столике полдюжины пузырьков.
Перехватив встревоженный взгляд Апраксина, Грачев сказал:
– Пустяки, не волнуйтесь. Еще немного и пройдет.
– Может, все-таки поискать врача? Зачем шутить такими вещами? Может вам…
– Анальгина у вас не найдется? – прервал его Грачев.
– Анальгина? И не слышал про такой.
– И впрямь, счастливый, значит, вы человек! А я вот без него никуда.
– Снотворное, что ли?
– Болеутоляющее. Как начнет ломать да крутить, лучшего средства не знаю.
– Вам бы и взять его, в дорогу-то.
Грачев постучал себя пальцем по лбу.
– Есть на свете еще и склероз!
Апраксин сочувственно вздохнул и снова предложил:
– Поищу-ка я все-таки лекаря, а?
– Ни в коем случае! Уже отлегло. Больше сегодня не тронет. А вы вошли бы, сырость-то, она и здоровому все кости перегрызет. В коридоре первая дверь направо.
– Давно это с вами? – спросил Апраксин, едва перешагнув порог каюты.
Грачев на вопрос ответил вопросом:
– У вас в Сталинграде в каждом метре тысяча шестьсот осколков, говорите?
– В каждом.
– А у нас в Энгельсе немец не был совсем, как вы знаете. Только фугасы расшвыривал. Один швырок у меня в спине и застрял. В такую вот погоду места не нахожу. А вас, стало быть, вовсе не тронул?
– Целехонек.
– Я ж говорю, счастливый! Окажись я там – все б осколки моими были. Это я точно знаю. Когда над нашей «Зарей» первая бомба рванула, никого не задело, только я схлопотал. В Сталинграде я был бы убит тысячу и еще шесть сотен раз, как отец мой, Грачев Петр Степанович. Не слыхали, случайно?
– Грачев? Петр? Что-то не припоминаю.
– Жаль. Он у вас, в Сталинграде свою долю принял.
Апраксин и Грачев проговорили до самого утра. Они не заметили, как прошла ночь, как рассеялся туман, как «Котовский» опять залопотал колесами и начал наверстывать время.
В Энгельсе земляки расстались как друзья.
– Может, зайдете вечерком? – спросил Апраксина Грачев. – Всех дел на своем Химкомбинате сразу все равно не переделаете.
– Спасибо, – ответил Апраксин. – После такой ночи до гостей ли вам?
– А что? Сейчас в баньку схожу, все как рукой снимет. Да и забот у меня, откровенно говоря, прорва.
– Я бы не советовал вам сейчас перенапрягаться. Посидите дома денек-другой, потом можно и за дела. Я вот здоров, как дьявол, и то нынче не прочь отдохнуть. Вам же и сам бог велел.
Грачев по категорическому настоянию Апраксина сел в такси и поехал домой.
А сталинградец решил до начала рабочего дня побродить немного пешком по городу своего детства. Он шел и думал о многом – о превратностях судьбы, о Сталинграде, где воевал, об Энгельсе, в котором очень давно не был и который с давних пор остался в его представлении крошечным, тихим уголком земли, городком-невидимкой, как выразился Грачев. Апраксину вдруг мучительно захотелось повстречать кого-нибудь из ребят – Васюху Черного, или Митю-Мустафу, или Вадика с Поклонной. Наверняка воевали. Вот бы с кем душу отвести! Но попадавшиеся Апраксину люди, как внимательно он ни вглядывался в их лица, никого из бывших друзей не напоминали даже отдаленно.
Впрочем, одного знакомого Апраксин все-таки встретил. Когда он поравнялся с аптекой, из ее стеклянных дверей, никого не замечая, вышел бледный, измученного вида человек с целой охапкой каких-то свертков. Это был Грачев. Неловко высвободив руку с часами, глянув на них и покачав головой, он решительно устремился к низкорослому кирпичному зданию, содрогавшемуся всеми стенами от работавших внутри станков. Через мгновение он скрылся в дверях, над которыми золотом по черному было написано: «Заря революции».
Апраксин постоял, задумчиво посмотрел ему в след, тоже покачал головой и повернул в ту сторону, откуда только что пришел. Пора было направляться на Химкомбинат, который был расположен на другом конце города, почти у самой Волги.
На всем обратном пути Апраксин снова и снова пристально всматривался в прохожих, пытаясь угадать товарищей детства, но никого из знакомых больше не встретил.
БЕРЕЗОВЫЙ СОК
Охота в наших краях еще не была разрешена, и мы с друзьями отправились коротать воскресенье в лесу без оружия. Один я неизвестно для чего прихватил мелкокалиберку.
Гогоча и дурачась, мы вошли в березовый лес. Сколько раз бывали мы здесь, а все не устаем восхищаться – тут и в пасмурный день светло, а в мартовский, высвеченный солнечными лучами, даже глазам больно.
Залюбовавшись березами, я сдернул с плеча винтовку и от избытка чувств, что ли, выпалил в воздух. Когда эхо от выстрела замерло, кто-то из приятелей крикнул:
– Стрелял в белый свет, а попал в белый ствол! – и, смешно приседая, стал ловить ртом летевшие сверху капли – частые и крупные.
– Сок! Березовый! – перегоняя друг друга, мы кинулись к невзначай раненному мной дереву.
Кто-то вытащил из рюкзака котелок, и алюминий загремел под ударами тяжелых капель. Очень скоро котелок уже ходил по кругу, и каждый из нас старался сделать глоток побольше – таким вкусным показался давно непробованный сок.
Только один Грушевский, отпив из котелка, разочарованно поморщился.
– Разве это сок? Вот во время войны был сок, это да!
– Скорей не «во время», а «до», – шутя поправил я Грушевского.
– Нет, именно «во время», и не где-нибудь, а в моем родном госпитале.
– Память тебя, старик, не подводит? В госпитале? – удивились мы.
– Не подводит. В госпитале.
Грушевский рассказал нам историю, которая неопровержимо убедила всех в том, что в дни войны березовый сок в самом деле был несравненно слаще нынешнего.
История эта показалась мне любопытной, и, вернувшись домой, я решил записать ее.
…Госпиталь, где лежал Грушевский, находился в Канатине – маленьком городке, затерявшемся среди дремучих лесов. Фронт обошел его стороной, но «юнкерсы» и «мессеры» не забыли о существовании городка.
Госпиталь следовало уже давно эвакуировать, но дороги были кругом разбиты, и эвакуация откладывалась с недели на неделю. Бомбежки между тем все усиливались. Бомбили не только Канатин, но и деревни вокруг него. Все больше становилось раненых – через леса их доставляли сюда партизаны. А подвоз продуктов почти прекратился. На улицах городка уже встречались отощавшие, теряющие последние силы люди. Голод начал добираться до госпиталя. Даже о «шрапнели» тут мечтали как о самом изысканном блюде.
Шефы, пионеры единственной школы Канатина, стали появляться в палатах все реже – с пустыми руками идти кому охота, а что принесешь, если на дверях магазина висит ставший уже красным от ржавчины замок? Последние дни шефов вовсе не стало видно. Раненые хотели уж послать за ребятами кого-нибудь. Приходите, мол, так, ничего нам от вас не нужно. Просто так приходите, без всякого.
Словно подслушав этот разговор, шефы наконец объявились. Вид у ребят был очень странный, словно у заговорщиков. Каждый из них нес перед собой осторожно, как хрустальную вазу, зеленую бутылку.
У одного из бойцов даже озорная мысль шевельнулась:
– Да-а… Оно, конечно, неплохо бы разговеться сейчас по маленькой или по большой еще лучше, но ведь с неба горилка не свалится.
Шефы по причине своего возраста солдатской шутки скорее всего не поняли.
– Мы вас поздравить пришли. Можно?
– Поздравить? С чем же? Сводку слушали нынче. Обратно вроде не особо веселая.
– С весной поздравить хотим.
– С весной?..
– Да, наступила уже. Мы все утро в лесу были. Вот, посмотрите.
Бутылки с березовым соком одновременно, как по команде, встали на всех тумбочках. Ребята народ пунктуальный, обстоятельный, у них всегда все точно рассчитано, каждому раненому по бутылке соку досталось.
– Пробуйте. Сил набирайтесь.
Бледные, худые, в чем только душа держится, мальчишки сказали все-таки именно эти слова. У солдат – комок к горлу. Даже самый красноречивый из них, Иван Богма, и тот провел рукавом рубахи поперек лица, ничего не ответил шефам.
Ребята в смущении тоже молчали. Первым все-таки Богма нашелся:
– Тю! А ведь верно, весна! Зараз и сводки краше будут. Вот побачите! С такими хлопцами… – он раскинул руки так, словно хотел обнять всех вместе, и шефов, и раненых, и было только непонятно, к кому относится это его «с такими хлопцами» – к ребятам или к бойцам. Скорее всего и к тем и к другим одновременно. – С такими хлопцами!.. – опять и опять восклицал Богма и не заканчивал фразы, будто вспоминал и никак не мог вспомнить начало какой-то песни.
Долго в тот день не могли угомониться раненые. И поздно вечером, когда ребята давно ушли, Богма все напевал себе что-то под нос, тихо-тихо, еле слышно. Мелодия была украинская, но слов никак не разобрать – только по движению губ догадывались:
С такими хлопцами…
Березовый сок был почти прозрачный, удивительно сладкий и чуть-чуть опьянял каким-то неуловимым хмелем. Отхлебывали солдаты, и у них вроде в самом деле настроение поднималось. Каждый, конечно, по дому взгрустнул, не без этого, а если на войне про дом вспомянешь хоть на минутку, у тебя непременно откуда-то новые силы берутся, даже если весь ты израненный. Становится грустно-грустно, но в то же время так хорошо на душе, что раны сами собой зарастают.
Когда Богма уже перед самым отбоем затянул вполголоса свою любимую, ему подтянули все – и те, кто знал украинский, и те, кто от Богмы начинал привыкать понемногу к певучим, ласковым, неповторимым словам:
Садок вишневый коло хаты…
Только утром в палате все с удивлением заметили, что Богма, оказывается, к березовому соку и не прикоснулся, – его бутылка нетронутой стояла на тумбочке, а хозяин ее задумчиво глядел в окно, через которое ломилось в госпиталь солнце.
– Иван! Богма! Чего ж ты? То «с такими хлопцами, с такими хлопцами», а то… Брезгуешь, что ли?
– Та шо вы, сказились?
– Ну так в чем же дело?
– Ни в чем.
– А все-таки?
– Надо ж було кому-то с нас одну бутылку для экспэртизы оставить? Нехай моя будет.
– Как – для экспэртизы?
– Так, для экспэртизы. Сок вам понравился?
– Спрашиваешь! Сладкий, высший сорт!
– А теперь подумайте, вы пили когда-нибудь такой сладкий, а?
– Конечно, пили.
– Ну и брешете.
– Ты что сказать хочешь?
– Я? Ничего. Мэдицына нехай скаже, а я послухаю. – Богма поглядел на свои часы, взял с тумбочки бутылку с соком и исчез за дверями палаты.
– Чудной все-таки этот Иван Богма, – проворчал кто-то, когда стихли его быстрые шаги в коридоре.
– Да-а… – отозвалось сразу несколько голосов. – Чудней просто некуда.
Богмы не было все утро. За это время чего только не передумали бойцы, но ни к какому более или менее правдоподобному предположению прийти так и не смогли. Даже спорить устали. Совсем растерялись, увидев Богму на пороге палаты в окружении врачей и сестер.
– Слухайте сюда! – торжествующе гаркнул Иван прямо с ходу. – Кто прав оказался? Я? Или вы? А ну, скажите им, доктор.
Главный врач не смог скрыть набежавшей улыбки.
– Товарищи, Богма совершенно прав. Мы вот только что анализ закончили. Все подтвердилось.
После такого объяснения окончательно переполошилась вся палата:
– Какой анализ? Что подтвердилось?..
Главный врач опустился на край ближайшей к нему койки (этого он никогда раньше не делал, ни при каких обстоятельствах), поправил очки и сказал:
– Одним словом, повезло вам на шефов, товарищи. Крупно повезло. Месячная норма их сахара в этом березовом соке! Самого настоящего, свекловичного. Точно вам говорю, лабораторным путем установлено.
– Быть такого не может!..
– Може! – вмешался Богма. – Може, може, може!
– Загадки какие-то! – загалдели во всех углах палаты. – Ни черта не поймешь! И где взять эту «месячную норму»? Магазин-то с каких пор не работает?
Тут в разговор вступила молчавшая до сих пор медсестра Варя. Шагнула вперед робко, но сказала необыкновенно решительно:
– Работает. Больше месяца на замке был, а вчера открыли и весь день выдавали селедку и сахар. Я в город ходила, сама видела. Мальчишки ваши чуть ли не самыми первыми были. Их сперва не хотели пускать без очереди, потом пустили. Ладно, говорят, дайте им, если не врут, что шефы!
Вот какую историю, возвратившись в тот весенний день из леса, записал я со слов Грушевского. Точь-в-точь записал все, как было рассказано.
ТОПОЛЬ
Это деревцо всегда теперь стоит у меня перед глазами. Его необыкновенную историю рассказал мне один старый колхозник в маленькой подмосковной деревеньке.
…Когда пришли сюда немцы, они прежде всего устроили в Вертушине лагерь для военнопленных – срубили сотни две или три тополей, понаставили столбов, натянули на них усеянную шипами проволоку.
Только глубокой ненастной ночью удавалось кое-кому из местных крестьян прокрасться к страшному забору, просунуть руку сквозь ржавые колючки, тихо положить прямо на землю какую-нибудь снедь, завернутую в тряпицу.
Потом немцев погнали. Бегство их было таким скоропостижным, что они не успели учинить расправы над пленными. Несколько дней кряду в деревне отогревали, отпаивали кипятком полузамерзших людей.
Вскоре началась весна. Весна нашего первого наступления.
Однажды утром ребятишки Вертушинской школы, проходя мимо бывшего лагеря, мимо скованных железом столбов, заметили невероятное…
Прибежали ребята к учительнице и, перебивая друг друга, загалдели:
– Татьяна Николаевна, он растет!..
– Кто – он?
– Столб растет. Если не верите, идемте, покажем.
Когда Татьяна Николаевна подошла к тому месту, куда тащила ее детвора, она увидела, что кусок дерева, скованный со всех сторон железом, действительно ожил! На его изрубцованном теле туго набрякли большие клейкие почки и, казалось, вот-вот лопнут, прорвутся зеленым пламенем первого листа.
Постояли ребята, посмотрели на оживающее дерево и вдруг все, как будто сговорились, понеслись наперегонки в деревню, а оттуда – обратно: кто с клещами, кто с топором, кто с чем…
Вытащили из дерева длинные скрюченные гвозди. Размотали проволоку. Взрыхлили землю вокруг.
Тополь начал набирать силу, выбросил устремленные к солнцу побеги, зашумел еще недружной, несмелой, но уже ярко-зеленой листвой…
С тех пор прошло много лет. Красавец тополь так разросся, что сейчас трудно поверить в то, что он был кургузым обрубком, в два метра высотой. Спиленный верх его оброс со всех сторон ветвями, обтянулся свежей корою, и венчает его такая мощная островерхая крона, что сразу и не разглядишь, где тот горизонтальный срез, когда-то тупо нацеленный в низкое зимнее небо. Только посеревшие от времени столбы, стоящие в одной шеренге с деревом, красноречивее человека рассказывают нам историю своего собрата.
Вот как в маленькой деревеньке Вертушино началась много лет назад весна нашего первого наступления.
Глубоко в землю ушли корни тополя, однажды погибшего и родившегося снова, чтобы не умирать уже больше никогда.
Около этого дерева пионеры любят разводить костры. Делают они это осторожно, чтобы не опалить листвы, не повредить ветвей. Даже отгоняют дым в сторонку огромной фанерной звездой, которая невесть кем трогательно прислонена к тополю, как будто это не дерево, а памятник.








