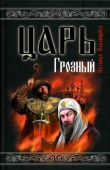Том 13. Стихотворения

Текст книги "Том 13. Стихотворения"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
ЦАРЬ ПЕРСИИ
Царь Персии живет средь страха и терзаний
В Тифлисе – в летний зной, зимою – в Испагани;
В его садах, средь роз, в душистой их тени,
Без счета – воинов: боится он родни;
Все ночи напролет проводит он в тревоге.
Раз утром пастуха он встретил на дороге
Согбенного; с ним сын шагал, высок и прям.
Царь подошел: «Кто ты?» – «Меня зовут Карам, —
Сказал старик, прервав задумчивое пенье,
С которым коз он гнал, в степь выйдя из селенья. —
Я счастлив: хижину скала хранит мою;
Со мной любимый сын; я счастлив; я пою,
Как ныне Саади и как Хафиз когда-то,
Как стрекоза звенит с восхода до заката».
И нежный юноша, склонясь, поцеловал
Ладонь у старика, который распевал,
Как пели Саади с Хафизом, полон жара.
«Он любит, – молвил царь, – хоть он и сын. О, кара!»
ДВОЕ НИЩИХ
Подать – священной римской империи, десятину – папскому престолу.
Петром и цезарем зовут их в мире этом.
Один все молится, другой – всегда с мушкетом,
И оба прячутся в засаде у дорог:
Петр руку протянул, а тот нажал курок.
Ограбив путников, сбирают денег груды
И царствуют, веля платить за изумруды.
Тиар тому, кто сам не носит башмаков.
Законы, догматы – как заросли лесов,
Где святость древних прав во тьме веков ветвится.
Кто в чаще той засел, тот ада не боится.
От них не убежать. Остановись, плати!
Через священный лес тебя ведут пути.
О, пусть в невежестве народ не пребывает,
Пусть рабства пот ему чело не омывает…
Христос! Ведь ты за них молился на кресте!
Они рабочие, – отверженные те, —
Страдальцы вечные, усталые от пыток,
Владеющие всем; у них добра избыток:
Болезней множество, – кто станет их лечить?
И много малышей, – их надо накормить…
И этих богачей без крова и без пищи!
Теснят алтарь и трон – голодных двое нищих!
МОНФОКОН
1ДЛЯ ПТИЦ
2
На склоне дня, когда закат бледнел вдали,
Беседовал в лесу под Сен-Жан-д'Анжели
С Филиппом-Августом прелат Бертран суровый:
«Связует, государь, единая основа
Алтарь и трон. Должны давать совместно мы
Отпор всем новшествам, смущающим умы.
Спасетесь вы от бед, нас от беды спасая.
Власть крепнет, сея страх, боязнь в сердца вселяя.
Пока толпа дрожит, она покорна вам.
Быть непреклонными присуще королям —
Вот право высшее. Старинные законы
И четверо бальи, от имени короны
Свершающие суд, бессильны перед злом,
Неукоснительно растущим с каждым днем.
Покруче надобны в такое время меры.
Идут схизматики войною против веры,
И чернь пытается избавиться от пут,
Наглеют ереси, и мятежи растут.
Откуда это все? Из бездны столь глубокой,
Что никнет перед ней всевиденье пророка.
Небесный этот свет иль порожденье тьмы?
Но тише! Говорить должны с оглядкой мы.
Опасности одна другой неимоверней
В том новом, что растет в смятенных толпах черни.
Как призрачная тень, оно скользит, снует, —
Исчезнет, выползет, отпрянет, промелькнет;
Закрытые глаза отверзнет, в мыслях бродит,
К людскую плоть и кровь струей дыханья входит,
Колеблет алтари, на догмат посягнув,
Вонзает в спящего прозренья острый клюв
И, тайне бытия стремясь найти разгадку,
Наводит на людей исканий лихорадку,
И что-то отберет и что-то даст, дразня…
Что? Ваша гибель в том и мука для меня.
Так что ж, добро иль зло в его таится взорах?
Дыханье ль, ветра ль шум, огромных крыльев шорох?
Не знаю! Это знать мне богом не дано,
Но пустота и смерть там, где прошло оно».
Король внимал. Прелат задумчиво рукою
На небо указал, на небо всеблагое:
«Мы новшества должны искоренить!»
Они
Теперь шли по полю, лежавшему в тени,
Как бы объятому прохлады легкой дрожью,
А над колосьями, над вызревшею рожью,
На солнце выгорев, намокнув от дождей.
Торчали тут и там на остриях жердей
Отребье, падаль, рвань, увечье на увечье,
Мешки с соломою – подобье человечье;
Лохмотья страшные безумную игру,
Казалось, здесь вели, качаясь на ветру.
Манили стаю птиц колосьев спелых прутья,
И жаворонка свист сзывал их: «Тут я, тут я!»
Слетались звонкие, но легкий ветерок
Отребья оживлял, и птицы наутек
Пускались тотчас же в испуге и смятенье.
«Но как мне царствовать тогда?» – придя в смущенье,
Спросил король Филипп, и набожный прелат,
На тучные хлеба, на поле бросив взгляд,
На эти чучела, что, на ветру играя,
Зловещим обликом вспугнули птичью стаю,
Филиппу показал: «Вот, государь, вот так!»
ДЛЯ МЫСЛИ
И вот поэтому виднеется сквозь мрак
С тех сумрачных времен отчаянья и горя,
Грязня собой Париж и Францию позоря,
В столице короля Филиппа, – словно он
Избрал прообразом библейский Вавилон, —
Неописуемо чудовищное зданье.
Обломки мерзкие, которым нет названья,
Сплетенья ржавых скоб, подпорок и столбов,
И арки – глыбы ферм разрушенных мостов
Чернеют на холме, вздымающемся тушей.
Запечатлел Париж в других строеньях душу:
Коллежи, храмины, больницы и дворцы —
Они целители, святые и творцы;
А это – лишь урод. И хищником жестоким
По склону, ужасом объятому глубоким,
Он в преисподнюю по лестнице скользит.
Все, что звериного цемент, кирпич, гранит
Вобрать в себя могли, вобрал он. Отсвет лунный
Ложится на столбы – чудовищные руны,
Что Ирменсула столп могли бы испещрять.
Молох, должно быть, здесь решил приют избрать.
Для башни брусья дал Ваал и прозорливо
Вдел кольца в каждое, – пусть их колышут дивы,
Сатурн дал крючья ей, Товт – каменный скелет.
Отыщется здесь всех кровавых культов след.
Терновник ли росток на камне даст щербатом,
Трава ли прорастет, – подобные стигматам,
Их тени узкие ползут, кровоточа,
По выцветшей стене, как пальцы палача.
Творенье страшное ужасных лет; громада,
Что черных виселиц безумной колоннадой
Для Лувра создала достойнейший венец;
Улыбка мерзкая, что шлет живым мертвец.
И «Справедливостью», должно быть в назиданье
Престолу божьему, зовется это зданье.
Еще не злейшая издевка, впрочем, в том,
Что этим сравнена клоака с алтарем.
Содом, а не Париж украсил бы, пожалуй,
Он, – призрак каменный, чья пасть приютом стала
Для призрачных теней. Неумолим, как сталь,
Он глыбой высится и думает едва ль,
Что мир у ног его страдает и томится.
На все, что ново, вмиг готов он ополчиться.
И это скопище гнилых костей порой
Застонет жалобно или подымет вой,
Как будто примешать стремясь свое дыханье
К полночным шорохам и ветра завыванью.
Что это? Скрип петли… Не мудрено ничуть
От трупа к трупу здесь постичь тот страшный путь,
Что мертвым суждено пройти в своем распаде.
Гниющие тела в холщовом их наряде
И нескончаемый столбов позорных ряд
Здесь мартирологом зияют скорбных дат.
Во мраке кажется, что глыба вырастает,
И в ужасе Париж дрожит и отступает.
Ничто ужаснее не высилось дотоль
Над кучкой муравьев несчастною, чью роль
Так возвеличили истории анналы.
О человечество, страдать ты не устало?
Виденье мрачное! Как смутное пятно,
Над белизною стен колышется оно
Хаосом трепетным, густою дикой кущей
Молчанья, ужаса и темноты гнетущей.
Оно застлало все. Напрасно ищет взор
Далекую звезду иль синевы простор.
Высоких виселиц широкие прогалы
Скрывает отблеск их, и лишь кроваво-алый
Туман тут зыблется. Невольно мысль одна
Приходит в голову – что это Сатана,
Палач, терзающий Адамов род веками,
Своими жадными и хищными руками
Из балок виселиц построил эту клеть,
Все человечество решив в ней запереть.
То зданье – бледный страх, что в темноте кромешной
В камнях гнездится; страх, который безуспешно
Стремится вырваться из них. Лишь пустота
Здесь служит крышею; подмостки неспроста
Уперлись в лестницу, та – в тучах тает где-то.
Сочатся сумерки меж ребрами скелета,
По пальцам скрюченным, по чашечкам колен.
От света лунного и плесень этих стен
И мертвые должны еще бледней казаться;
А черви, что в своей добыче копошатся,
Перегрызают кость, въедаются в живот,
И лопается он, как перезрелый плод.
Когда бы хоть того мы стоили, чтоб знала
Могила тех, кому она приютом стала,
То, словно четками играя, смерть могла б
Припоминать порой: «Вот Трифон, жалкий раб, —
Он пасху праздновать посмел не по канону,
Что создал Ириней; вот рядом – на корону
Мужичью палицу обрушивший смутьян;
А там – Платонов «Пир» нам подаривший Глан;
Возмездье этого настигло справедливо
За то, что воскресил Вергилиево диво,
Искусство майнцского кудесника познав;
Вот Петр Альбин, – он пал, забвенья жертвой став.
Тут воры, бунтари, убийцы и поэты…»
На эти черные немые силуэты
Небесный льется свет, зефир своим крылом
К ним прикасается, и смрад чумной потом
Разносится вокруг… От зноя ли пылает
Июнь иль вновь февраль дождем их поливает, —
Скелеты черные качаются впотьмах,
Как будто это ночь дрожит в своих цепях,
Лишь перекладина скрипит, когда их кости
По воле ветра вдруг столкнутся на помосте;
И – ужаса предел! – от каждого толчка
Кривит их челюсти конвульсия слегка,
Глазами мертвыми поводит череп тупо, —
То улыбаются, осклабившись, два трупа.
И словно этот храм костей и агоний,
Ища своих сестер – кровавых гемоний,
Вперяет жадные сверкающие взгляды
В ворота города святого или ада
И словно силится спросить у этих врат:
«Ужель покажется страшней Иосафат?»
Над крышами домов – днем, ночью, в зной и в стужу —
Угрюмые ветра ведут игру всё ту же
С бесплотным сонмом здесь витающих теней,
С телами, где кишит тьма-тьмущая червей,
Как в темноте дупла роятся летом пчелы;
И этот лязг цепей, когда костяк тяжелый
Качается, гремит, исполненный угроз,
И эти черепа без кожи, без волос,
И дыры глаз пустых, – их ужас несказанный
В ночную гонит мглу, в сырую муть тумана
Рассвета вестников крылатых, что опять
В толпе мятущейся явились собирать
Колосья спелые еще далекой жатвы,
Чтоб души навсегда связать священной клятвой
И правду возвестить о веке грозных бурь.
И видим снова мы, как, устремись в лазурь,
Парят в ней радостно бессмертной мысли крылья.
Свобода, право, жизнь, пред вами мрак насилья,
Церквей порталы, Лувр, храм виселицы, ночь…
Прочь, легкокрылые, от этих пугал, прочь!
ЛЬВУ АНДРОКЛА
Стал Рим подобием вселенной. То был час,
Когда менялся мир, и звездный пламень гас,
И глубоко в сердца молчанье вкоренилось.
Рим пурпуром прикрыл чудовищную гнилость.
Там, где парил орел, гнездился скорпион.
Прах Сципиона мял пятой Тримальхион.
Рим нарумяненный веселье захлестнуло,
И шел могильный смрад от пьяного разгула.
Дышала ужасом любовь существ людских.
Тибуллу своему за посвященный стих
Улыбку томную и нежную даруя,
Внезапно Лесбия булавку золотую
Рабе неловкой в грудь вонзала что есть сил.
В людей вдохнуло зло свой беззаконный пыл,
В них страсти грубые бурлили озверело.
Сын умерщвлял отца, кем дряхлость овладела.
О властелине спор с шутами ритор вел,
Царили золото, и грязь, и произвол,
И с жертвою палач совокуплялся в яме.
Рим в исступленье пел. Распятыми рабами
Порой какой-нибудь непобедимый Красс
Путь от ворот его обсаживал, и в час,
Когда бродил Катулл с возлюбленной своею,
Шесть тысяч мертвецов – из мертвых тел аллея
На них медлительно сочили кровь. И Рим
Когда-то славою был взыскан и любим;
Теперь – бесчестие прельстило исполина.
На ложе похоти нагая Мессалина
Кидалась, позабыв достоинство и стыд.
В игрушки превращал людей Эпафродит
И с диким хохотом увечил Эпиктета.
На сносях мать, старик, дитя в красе расцвета,
Военнопленный, раб, христианин, атлет,
Травимые зверьми, влача кровавый след,
Метались, корчились – и агонии стоны
Из бездны цирковой летели в свод бездонный.
Пока медведь ревел, пока вопил шакал
И слон по черепам младенческим шагал,
Весталка нежилась на мраморном сиденье.
Внезапно приговор скользил зловещей тенью
С ее бровей – и вновь мечтала, заскучав;
И те же молнии убийства слал стремглав
В ее глаза зрачок тигровый иль медвежий.
Была империя как некий двор заезжий.
Пришельцы темные, набредшие на власть,
Над человечеством поиздевавшись всласть,
Спешили скрыться. Мир запомнил дни Нерона.
За горло Цезарь взял ибера и тевтона;
И новый властелин мог тут же, средь похвал,
Стать мерзкой падалью, коль божеством не стал.
Кабан Вителлий в Тибр скатился со ступеней.
О, эта лестница, позорный столб падений,
Купальня мертвецов, где тление и мрак,
Казалось, всей земли должна сгноить костяк!
Повсюду бредили на ней, хрипя и воя,
Замученные: вор с отрубленной рукою,
Еврей без языка, без глаза – бунтовщик.
Такой же не смолкал там на ступенях крик,
Как в цирке, где людей зверье на части рвало.
Все шире черный зев клоака раскрывала,
Куда валился Рим; и на зловонном дне,
Когда суровый суд свершался в вышине,
Порой два цезаря, две цифры роковые,
Грудь с грудью в темноте сходились, чуть живые,
И, между тем как полз к ним пес или шакал,
Божка вчерашнего сегодняшний толкал.
Злодейство и порок сплелись на гнусном ложе;
Взамен созданий тех, в ком бился пламень божий, —
Адама с Евою, не знавших лжи и зла, —
Змея двуглавая в кромешной тьме ползла.
Разлегшейся в грязи свиньей неимоверной
Был Рим, и, в небесах рождая гнев безмерный,
Бросали, обнаглев, людские существа
Кощунственную тень на ризу божества
Был облик их далек от прелести первичной,
Свирепость дикаря в нем сделалась привычной,
И, между тем как мир Аттилою гремел, —
Всему, прослывшему святынею, предел
Они поставили. В их лапе жесткопалой
Величье прежнее бессильно трепетало
Рычаньем стала речь людская, и душа
Из тела вон рвалась, безумием дыша
Но, беспросветный свод навеки покидая,
Все ж медлила она, тревожась и гадая,
В какого зверя бы переселиться ей.
Могила в свой приют звала живых людей;
Царила в мире смерть, всесильная отныне.
Об эту пору ты, родившийся в пустыне,
Где солнце лишь да бог, – ты, грезивший средь скал,
В пещере, что закат багрянцем заливал,
Задумчиво вступил в тот город пресловутый —
И содрогнулся весь, как перед бездной лютой.
На мир истерзанный, проникновенен, тих,
Свет сострадания лился из глаз твоих,
И ты, гривастый зверь, внушавший страх от века,
Стал людям-чудищам примером человека.
28 февраля 1854
ОТЦЕУБИЙЦА
Случилось раз: Канут, когда глубокий сон
Сомкнул у всех глаза, – был черен небосклон, —
Взяв Ночь в свидетели, великую слепую,
Безумного отца узрел главу седую,
Который без меча, без пса спокойно спал, —
Убил его, сказав «Старик не услыхал»,
И сам стал королем.
Идя всю жизнь к победам,
Он благоденствие вел за собою следом,
На ниве был снопом, богаче всех снопов.
Когда он проходил в собранье стариков,
Их грубые черты смягчались добротою.
Законов мудростью и нравов чистотою
Связал он с Данией ряд островов морских:
Арнхут, Фионию, Фольстер – немало их!
Он трон себе воздвиг на глыбах феодалов,
Он пиктов покорил, и саксов, и вандалов,
Нещадно кельтов гнал, преследовал славян
И диких жителей лесных болотных стран.
Он идолов отверг и жреческие руны,
Менгир, о чей уступ чесался ночью лунной
Ужасный дикий кот с изогнутым хребтом.
О грозном Цезаре сказал он «Мы вдвоем!»
И шлем его бросал колючее сиянье,
Всех чудищ приводил он взглядом в содроганье,
И целых двадцать лет ввергать он в ужас мог
Свой край – надменный вождь, губительный стрелок.
Он, гидру поразив, воссел над племенами;
Благословенными и страшными делами
Прославлен на века в устах народа был;
В одну лишь зиму он мечом своим сразил
Трех гидр Шотландии, двух королей надменных.
Гигантом, гением казался он вселенной
И судьбы многих стран связал с своей судьбой.
Отцеубийство он забыл, как сон пустой.
И умер он. Тогда над каменной гробницей
Епископ повелел над цоколем молиться,
Кадить и славить прах владыки из владык.
Вещал он, что Канут – святой, Канут – велик,
Что он себя давно покрыл бессмертной славой,
Что зримо пастырям – воссел он, величавый,
У трона господа – избранник и пророк.
Уж вечер; и орган в рыданьях изнемог;
Ушел священный клир из сени кафедральной,
Оставив короля во тьме ее печальной.
Тогда он встал, открыл глаза. Покинул плен
Гробницы, взял свой меч и вышел. Камень стен
Бесплотным призракам – от века не препона.
Он море пересек, где с башнями Альтоны
Архуз был отражен и мрачный Эльсинор.
Ночь видела, как в тьму вперял владыка взор.
Без шума он скользил, как сонное виденье,
Туда, к скале Саво, встречавшей волн кипенье,
И, к предку мрачному приблизясь в тишине,
Так попросил его: «Оставь на саван мне,
О сумрачный Саво, смиритель пен мятежных,
Хоть небольшой клочок твоих покровов снежных».
Утес узнал его и отказать не мог.
Тогда Канут извлек из ножен свой клинок
И, на скалу взойдя, дрожащую заране,
Отсек полотнище чистейшей снежной ткани.
Потом сказал: «Утес, ответа жаждет грудь,
А смерть безмолвствует. Скажи – где к богу путь?»
В глубоких трещинах, огромный и могучий,
Утес, чей мрачный лоб окутывают тучи,
Ответствовал ему: «Не знал я никогда».
И сумрачный Канут покинул глыбу льда.
Он, с поднятым челом, закутан в саван гордый,
Через Норвегию, исландские фиорды,
В молчанье, одинок, направил шаг во тьму.
И мир покинутый не виден стал ему.
Он – призрак, дух, король, уже лишенный трона, —
Лицом к лицу летел пред этой бездной сонной
И бесконечности зрел отступавший свод,
Где молния во тьме то вспыхнет, то замрет.
Той тьмы земная ночь – лишь отблеск слабый, бледный,
Темнее тьмы любой, царит здесь Мрак победный,
Нет ни одной звезды. И все же чей-то взор
Из хаоса глядит безжалостно в упор.
Не слышно ничего; лишь мрачно плещут волны,
Что катит ночь ночей среди пространств безмолвных.
Канут, шагнув, сказал: «Могила! А за ней —
Бог». Он еще шагнул и крикнул. Но темней
Немая стала тьма. Ответа нет. И складки
На белом саване всё так же спят в порядке.
Он дальше двинулся. И саван белизной,
Ничем не тронутой, внушал душе покой.
Он дальше шел. И вдруг на ткани покрывала
Как будто черная звезда с небес упала.
Она вся ширится, растет… И, поражен,
Рукою призрака свой саван тронул он
И вдруг почувствовал, что это – капли крови.
Он голову свою, которой страх был внове,
Не опустил и в ночь направил твердый шаг.
Кругом все та же тьма. Ни звука. Только мрак.
«Вперед!» – сказал Канут, сверкая гордым взглядом.
Другая капля вдруг с той, прежде бывшей, рядом
Упала и растет. И кимвров вождь кругом
Глядит, – но тот же мрак в безмолвии ночном.
По следу, словно пес, гоним мечтой о свете,
Он продолжает путь. Но тотчас каплей третьей
Запятнан был покров. Хоть был всегда он смел,
Канут идти вперед уже не захотел.
Он вправо повернул, с мечом в руке простертой,
И каплей новою, теперь уже четвертой,
Забрызган саван был и правой кисть руки.
Вторично в сторону направил вождь шаги,
Как будто новая откинута страница.
Налево он теперь в густую тьму стремится.
Кровавого пятна вновь след на саван лег.
Вождь вздрогнул оттого, что здесь он одинок,
И хочется ему в свой саркофаг обратно,
Но свежие растут на снежной ткани пятна,
И воин, побледнев, остановясь в пути,
Пытается в тоске молитву вознести,
Но капли падают. И, став еще суровей,
Молитву оборвав свою на полуслове,
Влачится дальше он – ужасный призрак – в тьму,
Белея саваном, и все страшней ему.
А пятна новые, кровавые, как прежде,
На белой некогда растут его одежде.
Дрожа, как дерево под ветром и дождем,
Он видит, что пятно встает вслед за пятном.
Вот капля! Вот еще! Еще, еще… Как стрелы,
Они, прорезав тьму, летят на саван белый
И, расплываясь там, все ширятся в одно
Неумолимое кровавое пятно.
А он идет, идет… и с высоты грозящей
Кровь каплями дождя летит все чаще, чаще,
Без шума, без конца – подобна крови той,
Что с ног повешенных стекает в тьме ночной.
Увы! Кто плачет так в ночи неудержимо?
То бесконечность. К ней, лишь светлым душам зримой,
В безмолвный океан, где спят прилив, отлив,
Канут свой держит путь, взор долу опустив.
И вот, как сквозь туман, облит холодным потом,
К тяжелым запертым подходит он воротам,
Где в щель струится свет, сияющий простор.
На саван свой тогда он обращает взор.
Обетованный край! Окончена дорога.
И чудный, страшный свет рожден величьем бога,
Осанну ангелы, ликуя, здесь поют.
Но саван весь в крови… И задрожал Канут.
Вот почему Канут, взглянуть в лицо не в силах
Тому, чья мудрость все на свете озарила,
Встать не решается пред грозным судией;
Вот почему король, оставшись в тьме ночной,
Не может чистоты обресть первоначальной
И, к свету все стремясь дорогою печальной,
Все время чувствуя, что кровь пятнает грудь,
Блуждает в темноте и длит свой вечный путь.
СВАТОВСТВО РОЛАНДА
На берегу сошлись и бьются. Страшен бой!
Уж трупы их коней чернеют под горой.
На островке они средь бурной, быстрой Роны,
Что мимо катит вал холодный и зеленый…
И, пенясь, на траву выносит мокрый ил.
Не столь бы страшен был архангел Михаил
В сраженье яростном, поднявший меч на Феба.
Когда был начат бой, еще темнело небо.
Но кто баронов тех вчера бы видеть мог,
Пока тяжелый шлем на их чело не лег,
Увидел бы пажей, как девушки кудрявых,
Встречавших милые семейные забавы
Улыбкой радостной. Теперь взгляни на них,
На исступленный бой двух призраков ночных,
В которых сатана дух для борьбы влагает.
В глазницах их огонь зловещий полыхает.
Удары всё сильней. Бой словно гром гремит,
И лодочников страх невольный леденит,
И в лес они бегут, в душе творя молитву,
И только издали глядят на эту битву —
Затем что из юнцов, вступивших в смертный бой,
Один был Оливьер, Роландом был другой.
Они, скрестив мечи, томимы черной злобой,
И слова одного не вымолвили оба.
Вот юный Оливьер, граф; Вьенны сюзерен
Его отец – Жерар, и дед его – Гарен.
Для боя поутру одел его родитель:
Изваян на щите Вакх, дивный победитель
Норманнов, и Руан, весь ужасом объят.
Вакх улыбается, его два тигра мчат,
И гонит бог вина всех, кто привержен сидру.
Своими крыльями шлем увенчала гидра.
Сей панцирь надевал царь Соломон не раз.
Сияет длинный меч, как Люциферов глаз.
В тот незабвенный час, когда родные стены
Граф юный покидал, архиепископ Вьенны
Благословил его, стремящегося вдаль.
Роланд в железе весь, с ним верный Дюрандаль.
Вплотную борются; их глухо бормотанье;
Росою на металл ложится их дыханье;
Стоят нога к ноге. Гром битвы у реки
Даль грозно сотрясал. Уже летят куски
То шишаков, то лат, скрываясь под волною
Или в густой траве. Широкою струею
Кровь с головы течет, их замутняя взор.
Ужаснейший удар Роланд нанес в упор,
Меч вырвал у врага и отрубил забрало;
И гибель в этот миг пред юношей предстала.
Он вспомнил об отце, в душе призвал творца.
И Дюрандаль блеснул у самого лица,
В руке Роландовой взнесенный. О, спаситель!
«Брат матери моей, французов повелитель,
Я званья своего достоин должен быть,
Я ль безоружного врага могу убить? —
Роланд воскликнул. – Ты не виноват нимало.
Ступай, достань клинок хорошего закала,
И пусть нам поскорей напиться подадут».
Ответил Оливьер:
«Спасибо! Принесут».
Сказал Роланд:
«Спеши».
И с просьбою сыновней
Граф лодочника шлет, что скрылся за часовней.
«Скорее в Вьенну мчись и меч возьми другой;
Да графу расскажи, как нынче жарок бой».
И вот уж, о враге заботясь, как о друге,
Один с другого снял тяжелый груз кольчуги.
Спешат умыть лицо, беседуют часок…
Вернулся посланный – он славный был ходок.
Граф древний меч прислал, что свято был лелеем,
И крепкого вина, любимого Помпеем,
Которое взрастил холмов Турнонских склон.
Тот меч прославленный был гордый Клозамон,
Что Яркоблещущим среди людей зовется.
И лодочник ушел. Опять без злобы льется
Беседа. Все кругом отрадою полно.
И в кубок Оливьер Роланду льет вино.
Но вот опять сошлись, и поединок в силе;
И снова юноши в проклятый круг вступили.
Их опьяняет бой. И входит в их сердца
Тот бог, что биться их заставит до конца
Победоносного, удары учащая,
С сверканием мечей сверканье глаз мешая.
Так бьются. Кровь течет багровою струей.
Уж день кончается, и солнце за рекой
Касается земли. Ночь очень близко.
«Что-то, —
Вдруг говорит Роланд, – долит меня дремота;
Мне нездоровится. Когда б теперь я мог
Немного отдохнуть!» —
«Пусть мне поможет бог, —
Красавец Оливьер ему ответил кратко, —
Вас победить, Роланд, мечом, не лихорадкой.
Ложитесь на траву, а я всю ночь готов
Над вами бодрствовать, гоняя комаров.
Усните». —
«Ты, вассал, еще младенец, видно,
Поверил шутке ты, и это мне обидно.
Могу без отдыха, не хвастаясь, ей-ей,
Четыре биться дня и столько же ночей».
Бой снова. Смерть близка. Обильно кровь струится,
Меч по мечу скользит, меч за мечом стремится,
От столкновенья их искр вылетает рой
И борется с вокруг царящей темнотой.
Удары сыплются… Уже река в тумане.
И мнится путнику: он видит на поляне
Во мгле чудовищных двух дровосеков тень.
Опять грохочет бой – родится новый день.
Ночь возвращается. Всё бьются. Вновь зарею
Зарделись небеса – конца не видно бою.
Мир в третий раз ночной покрылся темнотой.
Они, чтоб отдохнуть, присели под сосной;
И снова бой…
Жерар за вьеннскою стеною
Ждет сына третий день с волненьем и тоскою.
Вот он на башню шлет седого мудреца;
Гадатель говорит: «Их битве нет конца».
Четыре дня прошли. Брег острова отлогий
Дрожит от грохота и ежится в тревоге.
Они без устали друг друга бьют мечом.
Перемахнуть овраг обоим нипочем
И в гущу врезаться кустарников колючих.
Там носятся они, как тень смерчей летучих.
О, сшибка смертная, о, ужас, пыл сердец!
Граф Вьенны охватил Роланда наконец,
И крови собственной тогда Роланд напился,
И славный Дюрандаль в реке глубокой скрылся.
«Теперь черед за мной – вы для меня пример;
Достану вам клинок, – промолвил Оливьер. —
Давно хранит отец гиганта Синнагога —
Меч, что других мечей прекраснее намного,
Он взят моим отцом в победный светлый час».
Роланд ему в ответ: «Нет, мне на этот раз
Довольно палицы». И вырвал дуб зеленый
С корнями. В этот миг противник разъяренный
Такой же вырвал вяз. Роланд обижен был.
Великодушья он такого не любил
И не терпел ни в чем себе уподобленья.
И вот уж без мечей, в припадке исступленья,
Друг друга бьют стволом, забыв про тяжесть ран,
Как великана бьет в сказаньях великан.
И пятый раз вокруг деревья потемнели.
Вдруг Оливьер – орел со взорами газели —
Сказал:
«Мне кажется, не кончить нам, пока
Останется у нас хотя б одна рука.
Так с львом ведет борьбу свирепая пантера.
Не лучше ль братом стать вам графа Оливьера?
Есть у меня сестра красавица. На ней
Женитесь».
«Черт возьми! Тем лучше, чем скорей!
Ответствовал Роланд. – Но выпьем после боя».
Так Ода сделалась невестою героя.