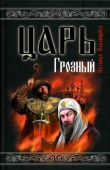Том 13. Стихотворения

Текст книги "Том 13. Стихотворения"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
« Порой наш высший долг – раздуть, как пламя, зло;»
Порой наш высший долг – раздуть, как пламя, зло;
Пусть мрачный свет падет тирану на чело.
И вот «Возмездий» том. Увы! Так было надо.
Я, для которого всегда была отрада
В прекрасном, в чистоте, я нехотя на месть
Призвал гармонию. Ушла в изгнанье честь,
И я почувствовал, что долг – над преступленьем
Зажечь возмездие карающим виденьем, —
И, как звезда во мгле, вот этот том возник.
Мне тяжко злобствовать. Но если бунтовщик
Прервал движение великого народа,
Чтоб умертвить его и стать кумиром сброда,
Пускай рассеется сгустившаяся мгла!
И вот приподнял я ужасный саван зла,
И книгу гневную пронзил лучами света,
И, нарушая мрак, венчал его кометой.
"О, надо действовать, спешить, желать и мочь! "
О, надо действовать, спешить, желать и мочь!
Но грезить, как султан, спать, как сурок, всю ночь,
Ходить в поля, в леса и в храмы наслажденья, —
О, так не сможем мы спасти свои селенья,
Вернуть свои права, поднять свое чело
И средство отыскать, карающее зло.
Мы – в розовых венках, но шею жмут оковы.
В мечтах мы созданы для века золотого,
Где мера счастия – животная любовь.
Немного пошлы мы, но молода в нас кровь.
Ведь это же позор! Ведь в этом извращенье —
Предвестье гибели и душ и поколений.
Безумной гордостью напрасно мы полны:
Вослед за сном сердец приходит смерть страны.
Долг – настоящий бог, и он не допускает
Неверья. Родина оскорблена, страдает,
А вы играете… Ступайте в бой! И трон
Верните вновь правам, изгнав тирана вон.
Тогда и смейтесь вы. Сейчас же к вам взываю:
Проснитесь, при смерти страна лежит родная!
Несчастной матери, чьи крики вас зовут,
Нужней всего сейчас не Сибарит, а Брут,
Бойцы суровые, встающие с угрозой;
Мечи подъятые нужны ей, а не розы.
Вот почему и я – хоть стар, и хил, и сед, —
На площадь людную опять несу на свет,
Под солнце, чьи лучи даруют жизнь посевам,
Все тот же старый дух все с тем же старым гневом.
Май 1858
"Итак, все кончено. Все разлетелось пылью. "
Итак, все кончено. Все разлетелось пылью.
Да, революция была безумной былью,
Брюссель ей приказал: «Прочь, негодяйка, вон!»
И вот дворянами повергнут ниц Дантон,
И бедный Робеспьер дрожит в руке Корнесса,
И заперли Париж в кутузку, как повесу…
Мы стали овцами; вся доблесть наша в том,
Что за Бурбонами на бойню мы идем.
Четыре сотни лет мы повторяли с жаром
Все тот же вздор. Прогресс стал анекдотом старым.
Довольно с нас химер. Умножить свой доход —
Вот дело. Санчес нам мораль преподает.
И гильотины нож и виселица – благо,
А совесть – лишь обман: забудь о ней, бедняга!
Не суть религии, а догма в ней важна.
В исповедальнях есть с решеткою стена:
Прильни же ухом к ней, явись глупцом примерным —
И будешь ты спасен. К обычаям пещерным
Давайте пятиться по мере сил назад,
А цели чистые пусть позади горят.
Вернулись к нам и трон и храм с поповской кликой.
Забудь же, Франция, что ты была великой.
Раз папа заявил, что бог он, – значит, так.
Безумных помыслов в Париже был очаг,
Откуда в мир они неслись, как ветры в поле.
Священные права – комедия, не боле.
Народ – мощеный путь для царственных карет.
И ни идей у нас, ни достижений нет:
Открытья наши – чушь; не придавать им веры!
По справедливости Тартюф клеймит Мольера,
Вольтер писакой был, Жан-Жак был мужиком,
И Плюш и Патулье сияют торжеством.
Альтвис, 20 сентября 1871
"Да, верно, я глупец – вы правы, без сомненья… "
Да, верно, я глупец – вы правы, без сомненья…
Да, небо, сохранив под сицилийской сенью
Ту флейту Мосха, чей любезен эху звук,
На крыльях вознося твой, Ариосто, дух,
Пророку говорить с орлом повелевая, —
Оно, великое, нам свет и тень давая,
Мечтателем меня создав, влекло мой взор
К путям туманным, где брожу я с давних пор,
И сделало меня созданьем незлобивым,
С нежнейшею душой, на гнев неторопливым.
Старик по грузу дней, по склонностям юнец,
Я создан был пасти в полях стада овец.
Но, как Эсхилу, две души мне рок дарует:
В одной растут цветы, в другой огонь бушует:
И в сердце Феокрит столкнулся с д'Обинье.
Так, негодуя, я взираю в тишине
На зло извечное, которому и деды
И мы, увы, даем название победы.
Я склонен проклятых благословлять в аду.
Что ж, смейтесь надо мной, своим путем иду
Я без раскаянья и нахожу желанным,
Почетным, сладостным слыть человеком странным.
И, видя, каковы все умники, я рад,
Я счастлив быть глупцом, я этим горд стократ!
Я в бурю ринулся один, по доброй воле.
Но смелость глупым быть редка, и, в тайной боли,
Я понимаю смех, что на устах у вас.
В надежной гавани я был, но пробил час —
И, видя тонущих во тьме, я безрассудно,
Бесстрашно бросился на гибнущее судно:
Мне вашей радости дороже горе их;
Чем с вами царствовать, погибну среди них!
"Мы все изгнанники, мы в бездне обитаем. "
Мы все изгнанники, мы в бездне обитаем.
Мы счастье гнусное злодейства наблюдаем.
Мы видим гордый ум, что зверем побежден,
Удачи поцелуй тому, кто злом рожден.
Мы видим подлецов, обласканных судьбою.
Мы речь высокую ведем между собою:
«Свобода умерла, обманут наш народ!..»
Мы – молнии, что бог вам с колесницы шлет.
Бросаем яркий свет мы в гущу толп огромных,
И животворный луч то гаснет в водах темных
И падает на дно, то вспыхивает вновь…
Мы знаем лишь одну печальную любовь:
Мы любим Францию! Но каторжные норы —
Наш дом… Велите нам, чтоб потрясли мы горы,
Схватили на лету орла средь черной тьмы,
Гром, ветер, молнию – на все решимся мы!
Мы оправдания не ищем у злодеев.
Мы ждем, суровые, проклятье злу взлелеяв,
Чтоб в грохоте громов вновь бог обрел венец
И право сделалось законом наконец,
Чтоб род людской узнал счастливые мгновенья.
Мы на предателей подъемлем в возмущенье
Те черные ключи, что отпирают ад.
Как ели не сменить зеленый свой наряд,
Как солнцу не стоять мгновения на месте, —
Нам не забыть вовек о праве и о чести!
И перед ликом зла, что деспоты творят,
В свидетели берем мы неба грозный взгляд,
И бронзовым пером мы пишем неустанно.
Филипп Второй, Нерон, Людовики-тираны
Дрожат: мы видим их!.. Времен проходит строй —
Пусть! Негодуя, мы страниц опасных рой
С ветрами вольными шлем в дальнюю дорогу.
Коль император – бог, так мы не верим в бога!
А видя иногда победу сатаны,
Мы отрицаем все, отчаянья полны;
И гнева нашего разбуженная сила
Терзает душу нам, что этот гнев вскормила.
Но богу жалоба правдивая мила.
Пускай была жара в день летний тяжела,
Мы рады помечтать, когда поют стрекозы.
Мы детвору растим… Пускай пришлец сквозь слезы
Шепнет: «Я голоден», – его к столу зовем.
Мы, глядя в небеса, освобожденья ждем:
«О Немезида, с нас сними скорей вериги!»
И пишем у морей суровые мы книги,
И наши все дела, и мысли, и слова
Напоминают гнев рассерженного льва.
"Вся низость клеветы, что за спиной шипит, "
Вся низость клеветы, что за спиной шипит,
Клеймя нас злобой мрачной,
Озер души моей ничем не замутит,
Не тронет вод прозрачных.
Она, упав на дно, где даже солнца нет,
Рассеется в молчанье,
А мир и чистота, любовь и правды свет
Всплывут, струя сиянье.
И вера, и мечты, и светлых дум полет
Свободно, без усилья,
Как прежде, отразят в просторе чистых вод
Сверкающие крылья.
Пускай же клевета, коварна и черна,
Рвет глубь души невинной, —
Что этот мутный ил и злая темень дна
Для стаи лебединой?
"Прямой удар меча, но не кинжала, нет! "
Прямой удар меча, но не кинжала, нет!
Ты в честный бой идешь, подняв чело, поэт,
Разишь врага клинком, без ярости змеиной,
Грудь с грудью и лицом к лицу, в отваге львиной.
Ты – истины боец, и воин ада – он…
Ты бьешь при свете дня, и верность – твой закон;
Ты страшен и суров, но ты и добр при этом,
И если ты падешь в бою, то пред поэтом
Предстанут завтра там, где сумрак и покой,
Они, Баярд и Сид, с протянутой рукой.
ИЗГНАНИЕ
О, если б, родина, мне снова
Увидеть шелк твоей травы,
Миндаль, сирени куст лиловый…
Увы!
О, если б лечь на холм унылый,
Отец и мать, где спите вы!
Но ваши далеко могилы,
Увы!
О, если б вам, родные тени,
Во тьме гробов, под крик совы,
Шептать – брат Авель, брат Евгений,
Увы!
О, если бы к твоей гробнице,
Не поднимая головы,
Голубка милая, склониться!..
Увы!
Как руки я б к звезде неясной
Простер под кровом синевы,
Как землю целовал бы страстно!
Увы!
Звон черный слышу над могилой.
Бежать туда б, где спите вы!
Но остаюсь в стране немилой,
Увы!
Все ж неправа судьба слепая,
Поверив голосу молвы,
Что путник изнемог, шагая,
Увы…
"Пока любовь грустна, а ненависть смеется, "
Пока любовь грустна, а ненависть смеется,
И правит ад,
Нерон в изгнанье шлет и в церкви ложь куется,
Христос распят;
Пока есть короли, и ложные идеи,
И пыток страх,
Пока народ – в цепях, и коршун Прометея
Клюет в горах;
Пока, твой гордый долг, о сердце, исполняя,
Я сознаю,
Что гневною строфой я тучи разгоняю
В своем краю, —
Оружья не сложу! И знаю – трусом буду,
Свернув с пути!
О небо, никогда я клятву не забуду
Свой долг нести!
Ничто не соблазнит меня – ни первый шелест
Зеленых риз,
И ни цветущий луг, и ни нагая прелесть
Амариллис!..
Народы на нужду, на слезы злобным роком
Обречены;
Тираны церковью оправданы, но богом
Осуждены…
А человечество – добыча лжи, бесправья,
Воров-царей, —
Живущее мечтой, владеет в грустной яви
Лишь злом скорбей.
Перед лицом гордынь, ошибок, преступлений,
И долгих битв,
И поднятых голов, и низких душ и мнений,
И злых обид, —
О Франция, пока могу пролить луч света
На мрак вокруг,
Немому трауру и гневному обету
Я верный друг;
И правду возвещать без устали я стану
В краю родном;
И в черной пене вод вовеки не устану
Быть маяком.
Я призрак-судия, мой голос в час расплаты —
Как грозный звон,
Как отзвук страшных труб, разрушивших когда-то
Иерихон!
Я не покину, нет, о Франция родная,
Мой трибунал;
Я смолкну лишь тогда, о горестный Исайя,
О Ювенал,
О Дант, Езекииль со взором ясновидца,
О д'Обинье, —
Когда иссякнет гром и молния затмится
Там, в вышине!..
2 декабря
"Когда вставал Эсхил в защиту Прометея, "
Когда вставал Эсхил в защиту Прометея,
Рим Ювенал хранил от ярости злодея,
А Данте низвергал тиранов в черный ад,
Поэты были те подобны эвменидам;
Их озаренный лик пугал всех мрачным видом,
Был маской бронзовой, чьи в ночь уста кричат.
И ужас шел от них. В их черепах горящих
Клубился мыслей рой, стремительных, свистящих,
Что жгли надменный грех, боролись с подлым злом
И гордой на чело ложились диадемой —
Неумолимою и грозною эмблемой
Змей, что сплелись клубком.
О змеи тайные Минервы исступленной,
Драконы-божества, пророчицы-горгоны,
Стон подхватив людской в неистовстве своем,
Всем нам несете вы пример и поученье.
Вы для народных масс, для зла и преступленья —
И мудрость светлая и черной кары гром.
Джерси, 1 ноября
"О жалкий сплав людских сует, пустых желаний, – "
О жалкий сплав людских сует, пустых желаний, —
Мечты! Вы вянете при первом же дыханье
Степных ветров, что вас разносят по земле.
Любовь, и власть, и скорбь, горящая во мгле,
Гордыня, ненависть, и гнев, и сладострастье, —
Как мимолетный дым, все исчезают страсти.
Зачем такой порыв и пыл зачем такой,
Раз он сменяется уныньем и тоской?
К чему весь этот шум, о люди? Для того ли,
Чтоб слыть титанами? Мир верит поневоле,
Когда рычите вы в костре глухих страстей,
Средь вспышек ярости, тщеславия затей,
Желаний, страхов, мук и ухищрений мозга,
В то, что из бронзы вы, меж тем как вы – из воска!
ПАРИЖАНИН ПРЕДМЕСТИЙ
В беседке лиственной, беспечный,
Он пьет, он веселится вечно;
Напившись, валится он с ног.
И, снова жаждущий веселья,
Едва оправясь от похмелья,
Он за шесть су идет в раек.
Смеяться, пить – святое дело!
Толчется он у почернелой
Свинцовой стойки день-деньской.
И тащит будни воскресенье
В домишко под зеленой сенью
Своею длинною рукой.
В листве поблескивают жбаны…
Подружкам протянув стаканы,
Их чмокнем в щеки лишний раз.
Для счастья ведь немного надо!
Имела портики Эллада, —
Повсюду кабачки у нас.
Вот – отдохнуть на камни сели,
О, этот, удержу в веселье
Не знающий, народ низов,
Кто, полн ребяческих замашек,
Дает из столь глубоких вспашек
Бесплодных несколько цветов!
«О, что за сибарит врожденный!» —
Рим восклицает, пораженный;
А Сибарис: «Какой квирит!»
Он склонен к диким переменам,
И, если б не был он гаменом,
Архангела б он принял вид.
Афинянин – его родитель.
То он своей судьбы властитель,
То – в малодушье родовом.
Попробуйте решить загадку!
Он все, что начал, выйдя в схватку,
Заканчивает шутовством.
Без крови в жилах, в пляске праздной,
Проводит он с душой развязной
Июль и август – день от дня.
О, что за легкость в человеке! —
Но вот поднялся ветер некий,
И он, исполненный огня,
Провозглашает, пробуждаясь:
«Я Франциею называюсь!»
В стремительной своей красе,
С душой, поющей в гибком теле,
Он – как пчела, во дни апреля
Купающаяся в росе.
И он встает, грозой сверкая,
Несокрушимое свергая!
Огонь взяв в руки и со злом
В борьбе неистовой испытан,
Во взгляде божество хранит он,
И человека под крылом.
Эдем – в его зловонной яме;
Он в сталь вгрызается зубами,
Вождей и воинов родит.
И, горд, победу торжествуя,
Свою он песенку хмельную
Кончает криком: «Леонид!»
И пусть его иной бесчестит.
Народ – и женщина он вместе!
Ребенок он, что, полн чудес,
Вдруг превращается в героя.
Он низко падает порою,
Но достигает и небес!
РЕВОЛЮЦИЯ
поэма
I. СТАТУИ
Наездник бронзовый стоял во тьме, – прямой.
Спал город вкруг него – домов несчетных строй;
На небе сумрачном чертились колокольни,
Подобны пастухам, пасущим гурт свой дольний;
Стыл Богоматери двухбашенный Собор,
И башня каждая страшилась кинуть взор
В безлунной мгле на стан своей сестры огромной;
Зенит заволокло такою мутью темной,
Что блеск небесных бездн бесследно в ней исчез;
Хрипя под сводами полуночных небес,
Лишь ветер мял ее, отчаянье впуская;
Висела облаков завеса гробовая;
Казалось, что заре воскреснуть не дано,
Что утру не открыть прозрачное окно,
Что солнце – страшный угль, очаг, навек разбитый,
Здесь, в беспредельности, где ночь сомкнула плиты
Над устрашенною, застылою землей,
Угасло навсегда, задушенное мглой:
Такое из небес, исполненных томленья,
Полуночь пролила на мир оцепененье!
Как бы для зрителей угрюмых – небосвод
Разверз до самых недр ночного мрака грот.
Спокоен, при мече, вздымая шлем пернатый,
Старинных рыцарей надев крутые латы,
Был там он, выпрямясь, в одежде боевой.
Фигурой – исполин, улыбкою – герой,
Поводья черные перчаткой стиснув черной,
Гигант и властелин, недвижный и упорный,
Он вечным жестом ночь, казалось, леденил
И, с тенью траурной вплотную слитый, стыл,
С небесной теменью могильной медью сплавясь.
Кумир, загадочно перед собой уставясь,
Видением вершин, фантомом горных гряд,
Стоял, недвижностью зловещею объят:
Ведь он – от вечности, поскольку – от могилы!
Конь этот, никогда не ржавший и застылый,
Безмолвный воин сей, чей образ воплотил
Всю мощь молчания, как признак скрытых сил,
Сей цоколь сумрачный, царящий над толпою,
Вознесший свой покой над бурею живою,
И, гроба выходец, державный сей колосс,
В нас нагнетающий воспоминанье гроз,
В ком до сих пор король, палач и деспот мнится
(Которого б теперь не испугалась птица),
Вся эта статуя – чудовище мечты.
И если даже день плеснет в его черты,
Их солнечным лучом светля и уточняя,
И если даже вкруг кишит прохожих стая,
То жутью тайною он все же облачен,
Тоской кладбищенской… Но вечерами он,
Король задумчивый, солдат и вождь угрюмый,
Вновь обретает ночь с ее ужасной думой.
В бездонном сумраке стоит он, жуть струя.
И все величие, всю мощь небытия,
Все то спокойствие, что лоб его надменный
В трагическом плену у меди неизменной
Мог сохранить, все то, что пристальный зрачок,
Став вечным, сохранить из блеска молний мог,
Всю эту полужизнь за гранью гробовою,
Что знаменитому оставлена герою
Во сне, под черными крылами похорон,
Все то усилие, что совершает он,
Воитель, чтобы стать не королем, а богом,
Всю мрачность местности в ночном безмолвье строгом, —
Все это истукан сумел в единство слить,
Чтоб одиночество державное хранить!
И Сена мрачная струит свой шум унылый
Под этим всадником из ночи и могилы…
И ветер вопль стремит, и плещет пена вод,
И тяжкоарочный в тумане мост растет
Каким-то призраком расплывчатым и смутным
Под гордым рыцарем, над бегом бесприютным
Реки униженной; и в арках темнота —
Как триумфальные для статуи врата.
Внезапно в тишине, неведомо откуда,
Из непроглядной тьмы, где туч сгрудилась груда,
Где дремлет страшная, пустая глубина, —
Над этой статуей, томящейся без сна,
Глядящей, медное свое чело нахмуря,
В даль, в гробовой простор, где ночь, тоска и буря,
Раздался голос – чей? – из ледяных глубин:
«Узнай, на месте ли еще стоит твой сын?»
***
И если кто-нибудь бродил бы этой ночью
Над берегом пустым, где ветер треплет в клочья
Свет угасающий и дымный фонарей, —
Он услыхал бы там, средь облачных зыбей,
Что делают зимой Париж чернее чащи,
Какой-то странный звук, какой-то лязг рычащий,
Как бы бряцание огромных лат ночных.
И холод ужаса на позвонках своих
Он ощутил бы вдруг; его язык – признанья
Залепетал бы в ночь; испуг и содроганье
Вздыбили б волосы; зуб ляскнул бы во рту:
На пьедестале том, взнесенном в темноту,
Где в ветре яростном скопленье туч клубилось,
Внезапно статуя – о страх! – пошевелилась.
Ничто, ни даже медь сковать навек нельзя.
Король рванул узду; конь дрогнул, сталь грызя.
Тряхнуло землю; зыбь глубинная, глухая
Прошла, священные порталы сотрясая,
Веками чтимые, и в башнях прозвеня.
И мышцы напряглись у медного коня,
Круп задрожал; нога, застывшая согбенной
Над камнем в трещинах, где мох пророс зеленый,
Копытом грянула; с карниза сорвалась
Другая; всадник лоб понурил, в тьму вперясь;
Скакун, залязгавший суставами металла,
Ужасный, сдвинулся до края пьедестала
(Взор человеческий таких не знает грез!),
И, точно отыскав невидимый откос,
Неспешно статуя сошла с гранитной глыбы.
Проулки жуткие, где убивать могли бы,
Лавчонки, чердаки с их черной нищетой,
Строй бесконечных крыш, нависших над рекой
И отраженных в ней, пустые перекрестки,
Где днем толпа снует и слышен говор хлесткий,
Ряд ржавых вывесок, повисших на крюках,
Дворцы суровые с оградами в зубцах,
Вдоль берегов крутых шаланды на причале —
Все с изумлением пернатый шлем встречали,
Что и под бурею не шевельнет пером,
И, чуя под землей как бы кузнечный гром,
Покуда на часах старинной башни время
Не смело звон стряхнуть на городское темя,
Глядели, замерев, как в недрах тьмы идет
И близится, прямой, оцепенев как лед,
Вещая грохотом о гробовой победе,
Наездник бронзовый на скакуне из меди.
Река под арками лила свой плач в туман.
***
О, ужас внеземной! Идущий истукан!
Тяжелой поступи дивится мостовая.
Тень движется, скользит, закинув лоб, немая,
Окоченелый труп, – и стан ее и лик
Под бурей черных бездн не дрогнут ни на миг.
Закон полуночи нарушен этой тенью!
Внимая тяжкому и мерному движенью,
В безмолвии гробниц, в могилах ледяных
Скелеты привстают, дрожа, в гробах своих
И вопрошают ночь: «О, кто прошел? Что это?»
Сама смущенная, ночь не дает ответа.
Когда бы взор проник в то царство гнусных ям,
В их тайны мерзкие, он увидал бы там,
Как бьет фантомов дрожь пред явью невозможной:
Та тень, чей взор снести б лишь Дон Жуан безбожный
Сумел, не побледнев, – чем славился б века! —
Виденье то, чья плоть иззубрит сталь клинка
И руку – только тронь – оледенит мгновенно, —
Все в нем: борьба, любовь, страстей свирепых смена,
Злодейство, гордость, месть, все тайны мертвеца
И вся ответственность героя и бойца,
Что на гранит ступил, став бронзой роковою!
Кто, кто, охваченный горячкой мозговою,
В хаосе городов, грозит которым рок, —
Кто видеть статую блуждающую мог?
Такое существо, немыслимо, ужасно,
Идет, – и ночь дрожит, и стынет мрак безвластно,
И мгла в смятении; да и сама мечта,
Которой по ночам рисует темнота
Свой мир таинственный сквозь сомкнутые веки,
Мечта, привычная встречать вдруг морок некий, —
И та пугается, завидя тот фантом,
В полночном сумраке блуждающий пустом,
И бьет ее озноб: у призрака такого
Не поступь мертвеца и не шаги живого.
Тень шла – и глубь тряслась под тяжестью копыт.
Быки мостов, где волн немолчный стон звучит;
Кладбища мрачные, где гулче гром металла;
Соборов паперти под сводами портала,
Что в коронацию видали строй карет;
Канавы боен тех, где кровь за много лет,
Сгустившись, загнила; мансарды, где во мраке
Свой гнев задумчивый растили Равальяки;
Подполья тайные безмолвных башен, где
Висят ошейники людские на гвозде;
У старых крепостиц крюки мостов подъемных;
Дороги, где зимой льет дождь из туч огромных
Как из ведра иль снег сплошной стеной валит, —
Всё содрогается под бронзою копыт.
И так как истинно (то подтвердит гробница!),
Что вслед за королем, кто б ни был он, влачится
Все королевство, встав как призрак, – то Париж
От замков до лачуг, от погребов до крыш,
От самых жалких нор до башни самой главной
Глубинный отзвук дал на этот шаг державный.
То как бы дикий крик возник из темноты —
Вопль рабства вечного и вечной нищеты,
Рычание веков, безумных и мятежных,
Стон тяжкий времени и бедствий безнадежных.
Рыдало Прошлое в тех жалобах ночных —
Тоска исчезнувших и с ней тоска живых.
Там кровь была и плоть, железо, яд и пламя,
Чей хриплый зов летит к тому, за облаками;
То недра кладбища свою стремили речь.
Там, в грозном ропоте, рвались огнем – картечь,
Убийства, гордый блеск победоносной власти
Под плач младенческих и девичьих несчастий,
Со свистом пули там летели из бойниц;
Вой сумасшедших плыл из гнусной тьмы больниц;
В застенках пыточных под горн мехи дышали;
Подвалы карцеров рыдали и стонали;
Ужасный Сен-Лазар чумой дышал из недр;
Всех парий гноище, хрипел в тоске Бисетр,
Там шло Отчаянье со свитой прокаженных,
Смерть – с палачами, Власть – с толпой вооруженных;
Терзали матери седые космы; битв
Курилась кровь под гром торжественных молитв;
Все, все звучало там: турниры, состязанья,
Тяжелый четверной галоп четвертованья,
Секира, плаха, бич, и кол, и цепь – набор
Орудий пыточных, что придан с давних пор,
С повязкою для глаз, Фемиде человечьей,
Кто самого Христа за дерзостные речи
Распяла на кресте, одежды разыграв,
И числит господа среди лишенных прав;
Все там смешалось: скорбь, убийства, и набаты,
И, с аркебузою, в окошке Карл Девятый;
Крик, заглушаемый забывчивой водой
Близ Нельской башни, гуд колоколов ночной;
Марго, что в гроб альков опорожнять умела;
Брюнгильда лютая, скупая Изабелла;
Столбы позорные средь лавров и венков.
Порой, как ураган, чей вдруг стихает рев,
Иль океан, чья зыбь свои снижает горы,
Тот ропот умолкал, – и оглашал просторы
Лишь страшной статуи тяжеловесный шаг.
И бледным ужасом ночной струился мрак
С небес загадочных в лохмотьях черной тучи.
И беспредельность их клубилась мглой летучей.
И воин к площади Дофина путь избрал,
Потом – проулочком, что, узенький, бежал
От Кордегардии туда – к «Дворцу закона»,
Где спят и мантия судейская Немона,
И Приматиччио написанный портрет;
Палату обогнул, откуда сотни лет
На головы людей летит судьба слепая;
Проехал Мост Менял и, вдоль реки ступая,
На площадь Гревскую близ Ратуши вступил;
Аркады пересек, что ныне заменил
Дворец новехонький тяжелою стеною;
Ворота Сен-Жерве оставил за собою;
Взял влево, и, пройдя петлистых улиц ряд,
Теперь исчезнувших, – трущобы, где грозят
Жилища ветхие бандитскими глазами, —
И, тяжкий, медленный, проследовал вратами
(Там королеву ждал когда-то Бассомпьер)
На площадь скучную, где стыл в аркадах сквер.
***
Там, в центре, под листвой, во тьме оцепенелой
Сквозил неявственно огромный призрак белый.
Был гордый всадник тот из мрамора.
Суров,
На стройном цоколе, один, во власти снов,
Как цезарь, лаврами победными венчанный.
Он властно высился, недвижный и туманный.
Рукою опершись на перевязь у чресл,
Он императорский сжимал другою жезл.
Длань правосудия подножье украшала.
Семья деревьев вкруг, пугливая, дрожала,
Как будто им стволы холодный ветер гнул.
И к этой статуе тот истукан шагнул.
Он, двигаясь, глядел неотвратимым оком
На грустный лик того, кто, как во сне глубоком,
Безмолвно грезил там, меж зыблемых дерев.
И бронза мрамору сказала, прогремев:
«Ступай и погляди: твой сын на том же ль месте?»
***
Как бы заслышавший рогов далеких вести,
Луи Тринадцатый очнулся от дремот.
И, скиптроносец, он, и, меченосец, тот,
Он, цезарь мраморный, и тот, воитель медный,
Спустились с лестницы, сквозь тьму зловеще бледной,
И, через площадь взяв, решетку перешли.
Фантом Бастилии приметил издали,
Что к сердцу города их пролегла дорога.
Наездник бронзовый был впереди – и, строго
Вздев перст, указывал извилины пути.
Под сводом арочным им не пришлось пройти;
Тропою Мула шли – и дальше по бульварам,
Где толпы вьются днем, хлеща прибоем ярым,
И – к центру, спящему в тиши ночных часов.
И у Дворца Воды четверка мокрых львов,
Скопленье ветхих крыш, где птичьих гнезд без счета,
Ворота Сен-Мартен и Сен-Дени ворота,
Таверны Поршерон, где вечен звон стекла, —
Глядели с трепетом, как пара та прошла.
Два грозных всадника упорно вдаль стремились,
Без слов, без оклика, – и оба очутились
На новой площади, на перекрестке том,
Где третий встал колосс в безмолвии литом.
Вблизи он выглядел не человеком – богом.
Со лбом закинутым, в высокомерье строгом,
Он, точно сын небес, негодовал на тьму.
Казалось, ореол обвил главу ему;
Он сумрачно сиял, и в нем та мощь блистала,
Что смертным свойственна, глядящим с пьедестала, —
Священный ужас тот, что явлен на челе,
Коль бог творящий скрыт в разящем короле.
Как первый конник, он из бронзы был изваян;
Ни шлем на нем не взвит, ни панцирь не запаян;
Как Аполлон красив, он, как Геракл, был наг.
Под бронзою копыт, черны сквозь бледный мрак,
Клубились Ду, Эско, Дунай и Рейн – четыре
Реки, им попранных, чей плач пронесся в мире.
Казалось, он внимал, бесстрастен и велик,
Стон взятых городов и грозных армий клик.
Он гриву льва вздымал; недвижный и безгласный,
Он правил; королям грозил он шпагой властной;
Длань к богу возносил, к его лазурной мгле
И подставлял стопу – чтоб лобызать – земле.
Казалось, ослеплен навек он сам собою.
Два всадника прямой к нему влеклись тропою.
Слепая ночь глядеть старалась; ветер стих
Внезапно.
Конник тот, что в латах боевых,
Другого обогнал, в тунике. И его там
Зов прогремел:
«Луи, Четырнадцатый счетом!
Очнись! И, раньше чем блеснут лучи зари, —
Еще на месте ли твой правнук, посмотри!»
И бронзовый кумир, чья бронза с тьмой боролась,
Раскрыв чеканный рот, спросил: «Я слышу голос?»
И, мнилось, взор его рождался вновь на свет.
«Да». – «Чей же?» – «Мой». – «Ты кто?»
И услыхал: «Твой дед». —
«А кто же правнук мой, – коль голос не был мнимым?»
«У подданных твоих он наречен Любимым». —
«Где ж он, кому народ возводит алтари?» —
«На главной площади, у входа в Тюильри». —
«В путь!»
Черный полубог приветствовал героя
И съехал с цоколя священного. Все трое
Бок о бок мчались в ночь. И предок в тьме ночной
Потомков превышал надменной головой.
По набережной взяв, промчались под балконом,
Где грезил все еще Парижем устрашенным
Фантом чудовищный, святой Варфоломей;
Проехали дворец французских королей —
Комок из крыш и стен, бесформенный, гигантский,
Взрастивший, как дворцы Аргосский и Фиванский,
И Агамемнонов, и Лайев, и Елен.
И Сена жуткая, скользя вдоль мрачных стен,
Солдата, цезаря и бога отражала
И, среднего узнав, с ним Ришелье искала.
Лувр окнами на них чуть поглядел, дремля.
Так, Елисейские к ним близились Поля.