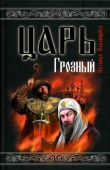Том 13. Стихотворения

Текст книги "Том 13. Стихотворения"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
" Я некогда знавал Фердоуси в Мизоре. "
Я некогда знавал Фердоуси в Мизоре.
Казалось, он собрал все пламенные зори,
Связал султаном их и осенил чело;
Похожий на князей, в чьей жизни все светло,
Горя рубинами и огненным тюрбаном,
Он шел по городу в своем халате рдяном.
Я повстречал его чрез десять лет опять
Одетым в черное.
Спросил я: «Как понять,
Что ты, кого мы все владыкою когда-то
Видали в пурпуре, пылавшем в час заката,
В халат, что ночь ткала, одет на этот раз?»
Сказал Фердоуси: «Ты знаешь, я погас».
НОВЫЕ ДАЛИ
Гомер поэтом был. И в эти времена
Всем миром правила владычица-война.
Уверен, в бой стремясь, был каждый юный воин,
Что смерти доблестной и славной он достоин.
Что боги лучшего тогда могли послать,
Чем саван, чтобы Рим в сражениях спасать,
Иль гроб прославленный у врат Лакедемона?
На подвиг отрок шел за отчие законы,
Спеша опередить других идущих в бой,
Им угрожавший всем кончиной роковой.
Но смерть со славою, как дивный дар, манила,
Улисс угадывал за прялкою Ахилла,
Тот платье девичье, рыча, с себя срывал,
И восклицали все: «Пред нами вождь предстал!»
Ахилла грозный лик средь рокового боя
Стал маской царственной для каждого героя.
Был смертоносный меч, как друг, мужчине мил,
И коршун яростный над музою кружил,
В сражении за ней он следовал повсюду,
И пела муза та лишь тел безгласных груду.
Тигрица-божество, ты, воплощенье зла,
Ты черной тучею над Грецией плыла;
В глухом отчаянье ты к небесам взывала,
Твердя: «Убей, убей, умри, убей – все мало!»
И конь чудовищный ярился под тобой.
По ветру волосы – ты врезывалась в бой
Героев, и богов могучих, и титанов.
Ты зажигала ад в рядах враждебных станов,
Герою меч дала, сумела научить,
Как Гектора вкруг стен безжалостно влачить.
Меж тем как смертное копье еще свистело,
И кровь бойца лилась, и остывало тело,
И череп урною могильною зиял,
И дротик плащ ночной богини разрывал,
И черная змея на грудь ее всползала,
И битва на Олимп в бессмертный сонм вступала,
Был голос музы той неумолим и строг.
И обагряла кровь у губ прекрасных рог.
Палатки, башни, дым, изрубленные латы,
И стоны раненых, и чей-то шлем пернатый,
И вихорь колесниц, и труб военных вой —
Все было в стройный гимн превращено тобой.
А ныне муза – мир… И стан ее воздушный
Объятьем не теснит, сверкая, панцирь душный.
Поэт кричит войне: «Умри ты, злая тень!»
И манит за собой людей в цветущий день.
И из его стихов, везде звучащих звонко,
Блестя, слеза падет на розу, на ребенка;
Из окрыленных строф звезд возникает рой,
И почки на ветвях уже шумят листвой,
И все его мечты – как свет зари прекрасной;
Поют его уста и ласково и ясно.
***
Напрасно ты грозишь зловещей похвальбой,
Ты, злое прошлое. Покончено с тобой!
Уже в могиле ты. Известно людям стало:
Те козни мерзкие, что ты во мгле сплетала,
Истлели; и войны мы больше не хотим;
И братьям помогать мы примемся своим,
Чтоб подлость искупить, содеянную нами.
Свою судьбу творим своими же руками.
И вот, изгнанник, я без устали тружусь,
Чтоб человек сказал: «Я больше не боюсь.
Надежды полон я, не помню мрачной бури.
Из сердца вынут страх, и тонет взор в лазури».
ПОСЛЕ БОЯ
Мой доблестный отец, чей взор так кроток был,
Однажды с вестовым, которого любил
За храбрость дерзкую и рост его огромный,
По полю проезжал верхом, порою темной,
Меж трупами бойцов. Уже померкнул день.
Вдруг шорох слышится… Там, где сгустилась тень,
Испанец полз, солдат из армии разбитой,
Тащившийся с трудом и кровью весь залитый,
Хрипя в агонии и не надеясь жить,
Он тихо умолял: «Пить! Ради бога, пить!»
Отец, оборотясь к гусару-вестовому,
Со своего седла снимает фляжку рому
И говорит: «Возьми! Пускай напьется он!»
И вот, когда гусар, услышав новый стон,
Нагнулся, – раненый, похожий на араба,
Хватает пистолет рукой худой и слабой
И целит в лоб отцу, «Каррамба!» процедив.
И выстрел прогремел, мгновенно шляпу сбив.
Отпрянул конь назад, как будто от удара.
«Дай все ж ему глотнуть!» – сказал отец гусару.
1851 – ВЫБОР
Предстали предо мной Позор и Смерть: верхом
Сквозь сумрак ехали они в лесу глухом.
Пожухлая трава под ветром шелестела.
На мертвой лошади, я видел, Смерть сидела;
Позор держал свой путь на лошади гнилой.
Неясных черных птиц был слышен крик порой.
Позор сказал мне так: «Зовусь я Наслажденье.
Я еду к счастью. Шелк и золото, кажденье,
Чертоги, пиршества, шуты и сонм жрецов,
Смех, торжествующий под сводами дворцов,
Раскрытые мешки с червонцами, с мехами,
Эдем ночных садов, разубранных звездами,
Красавиц молодых с зарей на лицах рой,
Оркестры, звучною зовущие игрой,
Их медь, звенящая и славой и победой, —
Все это впредь твое, за мною лишь последуй».
Я отвечал ему: «Твой конь смердит невмочь».
Мне Смерть сказала так: «Зовусь я Долг; сквозь ночь,
Тоску и ужасы я путь держу к могиле».
«Есть место за тобой?» – мои слова к ней были.
С тех пор, свернув во мрак, где явлен бог живых,
Мы едем с ней вдвоем в глуши лесов ночных.
ПИСАНО В ИЗГНАНИИ
Не тот, кто прав, счастлив; не тот, кто прав, и властен.
Герой всегда ль угрюм? Всегда ли раб несчастен?
Ужели у судьбы всего один закон —
Все то же колесо и тот же Иксион?
О! Кто б ты ни был, бог, взыскуемый от века,
Но если тщетна скорбь, но если человека
Вся жизнь – не более как в вихре бурь зерно, —
Твое величие отринуть нам дано!
Мы справедливости хотим душой нетленной,
Как равновесия ум ищет во вселенной.
Мне нужно твердо знать, что в бездне, где со тьмой
Слилось сияние, есть правда надо мной.
Хочу возмездия! Пусть упадает мщенье
Не на невинного – на клубы преступленья!
Нет! Торжествующий мне Каин нестерпим.
Когда царит порок и гнется все пред ним,
Хочу, чтоб с неба гром ударил, чтоб, синея,
Вонзилась молния в надменного Атрея!
УЗНИК
Бесславие – его тюрьмою стало вечной!
Его могли казнить, но были бессердечны —
И жить оставили.
И грозно с этих пор
Воздвиглись вкруг него невидимые стены,
Где сторожат без отдыха и смены
Неумирающий его позор!
Темница та, как гнет тяжелый сновиденья,
Неосязаема, но вместе так грозна,
Что может устрашить и смелого она,
Как робкие умы пугают привиденья!
В ней темен и глубок подземный каземат;
Нет доступа к стенам незримым и высоким;
Ни лестниц к ним нельзя подставить, ни канат
Для бегства прицепить. Томиться одиноким
В ней узник осужден до склона тяжких дней:
К дверям невидимым не подобрать ключей!
Кто узник? Скрыт его во мраке образ бледный;
Он в бездне самого себя погиб бесследно.
Все кончено – над ним покровом мертвецов
Навеки распростерт бесчестия покров.
Он вождь был некогда – и так погиб ужасно!
Нет солнца для него – и станет он напрасно
Повсюду, в ужасе, рассвета дня искать:
Минувшей Франции ему не увидать;
Предательства она явилася ареной,
И обесчещена она его изменой!
Нет сострадания к предателя судьбе;
Он ненавистен всем и самому себе.
Весь мир ему тюрьма; нет для нее границы;
Позор разносится быстрей полета птицы,
И на поверхности живой земли лица
Пределов нет ему – и нет ему конца!
Закон неумолим!.. Когда он к каре вечной
Захочет привести и к муке бесконечной,
Не нужны ни гранит, ни медь тогда ему,
Чтоб осужденному соорудить тюрьму.
Он грязь одну берет – и грязь из ямы сточной
Становится тюрьмой устойчивой и прочной
Для тех, в ком чести нет, как ночью солнца, в ком
Жизнь тянется еще каким-то темным сном,
Кто палача избег карающих объятий
Для пресмыкательства во тьме, среди проклятий.
Отверженец – один!.. Наедине с собою
От жгучего стыда он никнет головою.
Стыд – ноша тяжкая. Отцеубийце нет
Спасенья; в нем самом его злодейства след.
Им совершенное – с чудовищною силой
Ошейником его железным задавило;
И в вечном ужасе, средь непроглядной мглы,
Свои тяжелые влачит он кандалы…
Он мог спасителем быть Франции, героем,
К победам путь открыть ей смелым, честным боем —
И добровольно он измену предпочел,
Повергнув родину бесстыдно в бездну зол!
Сознание, его терзая неотступно,
Твердит ему: «Злодей! Ты поступил преступно.
Ты стал Иудою, как стал им Ганелон,
Так будь же проклят ты, как всеми проклят он!
Знай лишь отчаянье одно да казнь томленья!
Засни – и я спугну отраду сновиденья!»
Вот мысль, всегда его терзающая слух,
Сжигающая мозг, спирающая дух,
Сомкнуть усталые мешающая вежды,
На гибель самую лишив его надежды.
Он должен, осужден, обязан жизнь влачить,
Чтоб вечно вспоминать и вечно не забыть,
Что в плен он Франции повергнул легионы,
Что поругал ее святыню он, знамена,
Чтоб даже, сном на миг забывшись, не кончать
От них пощечины незримо получать!
Смерть – отдых, и его презренный недостоин.
Но он и мертвецом не мог бы быть спокоен:
И тени славные отцов в покоя сень
Не приняли б его поруганную тень,
И осужден бы был он снова пресмыкаться
И в грозной бездне бездн без отдыха скитаться,
Усталый, презренный, поруганный от всех
За то, что он свершил неизмеримый грех
И Франции врагам дал роковое право
Все прошлое ее – незыблемую славу —
Надменно оплевать; что яркие слова:
Ваграм, Аустерлиц и Лоди – он едва
Навек не вытравил из памяти народной,
С войсками поступив как с шайкою негодной,
И выдал головой он их пруссакам в плен.
О, беспримерная измена из измен!
Пруссаки, как скотов, скорбящих пленных гнали
И спины саблями войскам полосовали…
Невыразимо горько!
С этих пор
Все человечество в недоуменье взор
Свой укоризненный на нем остановило;
Его презрение отвсюду окружило,
И, поразивши мир предательством своим,
Навеки, заживо он замурован им.
Как служит храбрости Сид ярким выраженьем,
Он сразу сделался измены воплощеньем,
И у тюрьмы его бессменно на часах
И низость робкая и боязливый страх —
Две жалкие его злодейства сообщницы.
Отверженный, он стал рабом своей темницы;
Из ней нет выходов возможных никуда
От отвращения, презрения, стыда.
Как на крылах могучих урагана
Волнам нет выхода из лона океана.
Стыд самый от него отрекся б, если б мог.
Нет во вселенной всей для изверга дорог.
Путь в небо – дланью перед ним закрыт господней,
И омерзенье ждет у входа преисподней.
Он вечный каторжник: позорное клеймо
На сердце носит он, оно – его ярмо,
И может снять с него проклятье отверженья
Одно небытие, одно уничтоженье.
Нет в мире сил других, чтобы его спасли;
За все сокровища несметные земли
Тюремщик не продаст ему освобожденья.
Тюремщик этот – тень его же преступленья.
Навеки заперт он на грозных два замка,
И их не отопрет ему ничья рука:
Мец, Страсбург – страшные его замков названья.
Там родину свою он предал поруганью.
К увядшему цветку пчела не подлетит,
И честь утративший ее не возвратит.
Кто глубины такой достигнул при паденье,
Тот умер – нет ему возможного спасенья!
Пусть Шпильберг мрачен, пусть Бастилия была
Страшна, как для пловца подводная скала,
Пускай грозна тюрьма святого Михаила,
И замок Ангела – для узника могила, —
Что крепостей гранит в сравненье со стыдом?
Тот, кто навек в тюрьме бесславья заключен,
Несет тягчайшие мучения без счета!
Сам бог над ним стоит и требует отчета:
Как с войском, вверенным ему, он поступил?
Как в стадо обратил он сразу столько сил?
Как добрый дух сгубить сумел он легиона?
Где долг? Где честь? Где стыд? Где пушки? Где знамена?
За что обманута несчастная страна?
За сколько Франция была им продана?
Вот как он заточен! Каким всеместным мраком
Тот узник окружен, что честь свою собакам
Бесстыдно выбросил! Вот где томиться он
Навеки, без конца и меры, осужден,
Хотя бы потерял и для страданий силы!
Ужасен лабиринт его живой могилы,
Откуда никуда на свете нет дорог.
Кто ж это выдумал, что убежать он мог?
ЛЮДИ МИРА – ЛЮДЯМ ВОЙНЫ
«К вам, кто порабощал несметные народы,
К вам, Александры, к вам, охотники Нимроды,
К вам, Цезарь, Тамерлан, Чингис, Аларих, Кир,
Кто с колыбели нес войну и гибель в мир,
К вам, кто к триумфам шел победными шагами
И, как апрель луга душистыми цветами,
Усеял трупами песок дорог земных,
Кто восхищал людей, уничтожая их, —
Мы, кто вокруг могил стоит зловещей ратью,
Мы, ваши черные, уродливые братья,
Монахи, клирики, жрецы, взываем к вам.
Послушайте.
Увы, и наш заветный храм
И ваш дворец равно рассудком с бою взяты.
Мы были, как и вы, всесильными когда-то,
И мы, подобно вам, с угрозой на челе,
Как ловчий по лесу, блуждая по земле,
Во имя господа ослушников карали.
Мы, папы, даже вас, царей, подчас смиряли.
Аттила, Борджа – вы могуществом равны.
Вам – скипетры, а нам панагии даны.
За нами – идолы, за вами – легионы.
Пускай блистательней горят на вас короны,
Но мы опасней вас в смирении своем:
Рычите громче вы, а мы быстрей ползем.
Смертельней наш укус, чем ваш удар тяжелый.
Мы – злоба Боссюэ и фанатизм Лойолы.
Наш узкий лоб одет тиарой золотой.
Сикст Пятый, Александр Второй, Урбан Восьмой,
Дикат, еретиков пытавший без пощады,
Сильвестр Второй, Анит, Кайафа, Торквемада,
Чья мрачная душа гордыней налита,
Иуда, выпивший кровавый пот Христа,
Аутодафе и страх, застенок и темница —
Все это мы. На нас пылает багряница,
Пурпуровым огнем сжигая жизнь вокруг.
Богами, как и вы, казались мы. Но вдруг
Нам пасть несытую сдавил намордник узкий:
Рукой за глотку нас поймал народ французский,
И революции неуязвимый дух,
Насмешлив, дерзостен, к укусам нашим глух,
Вверг нас, священников, и вас, царей, в оковы,
Бесстрашно развенчав и разгромив сурово
Вертеп религии и цитадель меча.
В тюрьму загнали нас ударами бича,
Как укротители, Дантоны и Вольтеры.
На нас, кто мир держал в узде войны и веры,
Отныне Франция узду надела.
Но
Через решетчатое узкое окно
Мы, братья, вам кричим, что мы полны надежды,
Что солнце черное должно взойти, как прежде,
Вселенную лучом свирепым осветя;
Что прошлое – веков зловещее дитя, —
Как воскрешенный труп, из колыбели встанет
И с хрипом мстительным опять на землю прянет.
Гроб – колыбель его, и ночь – его заря.
Уже в зияющих воротах алтаря,
Как сумрачный цветок, кадило засверкало.
Уже взывает Рим, подняв свое забрало:
«Умолкни, человек! Все лжет в юдоли сей!»
И переходит в рык поток его речей.
Грядет желанный день, когда, расправив крылья,
Личину права вновь с себя сорвет насилье,
Нерон и Петр людей двойным ярмом согнут,
Базар и храм на «ты» друг друга звать начнут.
Ваш трон упрочится, и, как в былые годы,
На волю выйдем мы, закрепостив народы.
Мы на крестах распнем свободные умы.
Все станет догмою, и будем править мы.
Войною станет все, – вы будете вождями.
Тираны-короли с попами-палачами
Железною пятой придавят мир опять.
И вновь увидит он, как будут оживать
В кошмарах нового жестокости былого
И вновь построим мы из сумрака ночного
Тот храм, где Ложь собрать вокруг себя могла б
Ошую – цезарей и одесную – пап.
Мы постепенно тьму сгущаем над землею,
Чтоб, властвуя уже над детскою душою,
Когтями цепкими грядущее схватить.
Благословляем мы, когда хотим убить.
Стекает не елей – густая кровь с кропила.
Сутана ваш доспех, воители, затмила.
Все сокрушает наш безмерный гром, и с ним
Орудий ваших вой, конечно, несравним.
Опять забил набат святой и грозной ночи
Варфоломеевской. Все ближе он грохочет,
И зов его звучит страшней и тяжелей,
Чем трубы на войну идущих королей.
Вам нас не превзойти ни в ужасах, ни в злобе:
Ведь вы – всего лишь меч, а мы – покров на гробе.
За вами лишь тела раздавленных лежат,
А мы и для живых устраиваем ад.
И все ж нерасторжим союз жреца с солдатом;
Мы всё себе вернем, сражаясь с вами рядом.
Уже засов тюрьмы, где мы заключены,
Неслышно приоткрыт рукою Сатаны.
На мириады душ мы скоро прыгнем жадно.
Мы отвоюем мир».
Так, ночью непроглядной,
Пока, забыв о всем, мы предаемся снам,
Из клетки тигров зов несется в клетку к львам.
БЕДНЫЕ ЛЮДИ
1
Ночь. Хижина бедна, но заперта надежно.
В жилище полумрак, и разглядеть возможно
В мерцании лучей, разлитых в глубине,
Что сеть рыбацкая чернеет на стене;
В углу, над сундуком, на полках деревянных
Поблескивает ряд тарелок оловянных;
А там, где с пологом старинная кровать,
На лавках сдвинутых, чтоб можно было спать,
Подушки сложены, и как в гнезде широком
Пять маленьких детей лежат во сне глубоком.
Очаг бросает свет на темный потолок,
И женщина, грустя, сидит у детских ног.
Их мать. Она одна. А за стеной суровый,
Могучий океан всю ночь во мгле свинцовой
Рыдает и грозит ветрам и тучам вслед.
2
Но где же их отец? Рыбак от юных лет,
С волнами он привык бороться на просторе.
В любую бурю он свой челн выводит в море:
Ведь корма ждут птенцы. И в поздний час, когда
Подходит к пристани высокая вода,
Он смело паруса на мачте поднимает.
А дома ждет жена. Искусно заплетает
Разорванную сеть, иль паруса чинит,
Похлебку рыбную на очаге варит
И, уложив детей, шлет небесам моленья
За мужа своего, наперекор стремленью
Бушующих валов спешащего во мрак,
Где ни один в ночи не светится маяк.
Он должен отыскать в безумии прибоя
Местечко, годное для лова, небольшое,
Что день – то новое, в безмерной шири вод,
Куда косяк сельдей серебряных придет.
Но как его найти? Ведь это только точка
Средь разъяренных вод. Декабрьской бурной ночкой,
Когда кругом туман, – чтобы ее найти,
Расчислить надобно и ветер и пути,
Рулем и парусом уверенно владея.
А волны льнут к бортам, зеленые как змеи;
Пучина к небу шлет холмов ужасных ряд,
И снасти крепкие в отчаянье скрипят.
Но Жанна рядом с ним и в леденящей стуже.
А Жанна слезы льет и думает о муже, —
Так мысли их летят друг к другу, трепеща.
3
И Жанна молится. Насмешливо крича,
Ей чайки хриплыми рвут сердце голосами.
Ужасный океан перед ее глазами.
На гребнях яростных бушующих валов
Ей тени видятся погибших моряков.
Чу! Старые часы бьют полночь. Из футляра
По капле падают и падают удары,
И время движется; мгновенья, сутки, год;
Весна приходит вновь, и осень настает.
И души – ястребы и горлинки – слетают
В наш мир, где каждое мгновенье открывает
Пред ними, приподняв грядущего покров,
Здесь – колыбелей строй, а там – ряды гробов.
И Жанна видит сон: дурные дни настали,
Детишки – босиком, и платья обветшали,
И пища скудная, и хлеб из ячменя…
О небо! Ураган вздул черный столб огня,
И берег загремел подобно наковальне.
Да, полночь в городах – танцор, что в зале бальной
Под полумаскою резвится и шалит;
Но полночь на море – безжалостный бандит:
Закутанный в туман, он прячется за шквалы,
Хватает моряка и бьет его о скалы,
О риф неведомый, что на пути возник.
И вал нахлынувший задушит в горле крик,
И чувствует гребец, что палуба уходит
Внезапно из-под ног… И память вдруг приводит
Причал на пристани июльским жарким днем.
И Жанна вся дрожит, испуганная сном.
4
Подруги рыбаков! И сына, и супруга,
Всех, сердцу дорогих, и жениха, и друга —
Вы морю отдали. Как страшно думать вам,
Что служат все они игралищем волнам,
От юнги-мальчика до штурмана седого;
Что ветер, дуя в рог, летит над ними снова
И вздыбил океан; что, может быть, сейчас
Потерпит бедствие ничтожный их баркас;
Что путь неведом их; что над морскою бездной,
В водовороте волн, средь этой тьмы беззвездной
Их держит над водой лишь утлая доска
Да прикрепленный к ней обрывок паруска.
Что делать женщине? Бродить теперь, рыдая,
У берега, моля: «Верни их, глубь морская!»?
Но – горе! – ведь сердцам, утратившим покой,
Его не возвратит бушующий прибой!
А Жанна все грустней. Ведь муж один на море.
А ночь прожорлива, а мрак, что саван, черен!
И Жанна думает: «Один в такую ночь!
С ним рядом никого, чтобы ему помочь.
Ведь сыновья еще не подросли, так малы!»
Но сыновья растут, и, как всегда бывало,
Уйдут на промысел они с отцом семьи.
И ты вздохнешь, о мать: «Ах, будь они детьми!»
5
Она берет с крючка фонарь и пелерину.
Теперь пора взглянуть, не стихла ли пучина,
Не виден ли баркас и как горит сигнал.
Вперед! И вот она выходит. Не дышал
Еще рассвет. Еще нигде не видно было
Той белой черточки, что тьму и свет делила.
Шел мелкий дождь во мгле. Мрачней погоды нет.
Так день колеблется: прийти ль ему на свет?
Так плачет человек в день своего рожденья.
И Жанна медленно идет через селенье.
Лачуга бедная взор привлекла ее,
Людское жалкое, угрюмое жилье.
Строенье ветхое стояло без защиты.
Ни огонька в окне, и дверь полуоткрыта.
На стенах треснувших едва держался кров,
И ветер теребил его со всех концов,
Вздымая темную, прогнившую солому.
И Жанна вспомнила: «Да, ведь хозяйка дома —
Несчастная вдова. И, кажется, больна.
Зайти бы надо к ней, проведать, как она?»
И Жанна в дверь стучит. Никто не отворяет.
И Жанна, вся дрожа от ветра, размышляет:
«Больна? А дети как? Голодный вид у них.
Да, двое маленьких, а мужа нет в живых».
И Жанна вновь стучит: «Соседка, отоприте!»
Но в доме тишина. «Вы слишком крепко спите.
Не достучусь никак. Что нового у вас?»
Но ветер вдруг подул – и дверь на этот раз
Заколебалась вся на петлях, содрогнулась
И прямо в глубину жилища распахнулась.
6
И Жанна входит в дом, лучами фонаря
Жилье безмолвное внезапно озаря.
Сквозь дыры в потолке вода на пол стекала.
Картина страшная глазам ее предстала:
В соломе, голову откинувши назад,
Лежала женщина; был мутен мертвый взгляд;
Раскрытый рот застыл. Исполненная силы
Мать, ставшая теперь видением могилы, —
Вот участь нищего, когда в борьбе с судьбой
Последний он навек проигрывает бой.
Рука бескровная в соломе коченела,
И ужас исходил от брошенного тела,
От рта открытого, где каменный язык,
Казалось, вечности бросал предсмертный крик.
А рядом с матерью, вблизи ее постели,
Два малых существа в открытой колыбели
С улыбкою, уснув, лежали, – сын и дочь.
И мать несчастная, пред тем как изнемочь,
Им собственным тряпьем укрыла грудь и ноги,
Набросив на детей еще свой плащ убогий,
Чтоб их в последний раз немного обогреть,
Отдать им все тепло и молча холодеть.
7
И дети мирно спят в своей постели шаткой.
Ничто дремоты их не потревожит сладкой.
Дыханье ровное у маленьких сирот,
Хоть ветер бешеный солому с крыши рвет,
Дождь льется в комнату и буйствует свободно,
И капли, падая порой на лоб холодный,
Слезами по лицу покойницы скользят,
И грохот волн зовет на помощь, как набат.
Труп слушает его, бездумный, бездыханный,
И кажется порой, что происходит странный
У мертвых уст и глаз беззвучный разговор:
«О, где твой дух живой?» – «А где твой светлый взор?»
Любите, радуйтесь, срывайте цвет весенний,
Звените кубками, ищите наслаждений!
Как в океан впадать положено ручьям,
Так рок определил и зыбкам, и пирам,
И материнскому безоблачному счастью,
И упоению, рождаемому страстью,
И песням, и любви, и блеску юных лиц
Единственную цель – холодный сон гробниц.
8
Что Жанна делает в той комнате пустынной?
Что спрятала она под пелериной длинной?
Что Жанна унесла, поспешно уходя?
Зачем она ушла так быстро, не глядя
На мертвую? Зачем бежит вдоль переулка,
Невольно чувствуя, как сердце бьется гулко?
Что ценного взяла и принесла домой,
В кровати спрятала дрожащею рукой?
9
Когда она пришла домой, уже светлела
Прибрежных скал гряда. И Жанна молча села
На стул, бледна как смерть. Казалось, что она
Поступком собственным в душе огорчена.
И, наконец, слова, исполненные горя,
Бессвязно потекли под шум и грохот моря:
«Что скажет муж, увы! У бедного и так
Достаточно хлопот! Какой безумный шаг!
Ведь пятеро детей на шее! А забота
О всей семье на нем! Прибавится работа,
Обуза лишняя! Он, кажется, идет…
Нет, мне послышалось! Пусть он меня побьет —
И я ему скажу: «Ударь, так мне и надо!»
Дверь скрипнула… Не он!» Так, значит, Жанна рада,
Что муж нейдет домой? Вот до чего дошло!
Она задумалась, вздыхая тяжело.
Забота тайная ее в тисках держала
С такою силою, что Жанна не слыхала
Бакланов карканье, гортанный их призыв,
Который возвещал начавшийся отлив,
Не видела, как дверь внезапно отворилась,
И комната лучом горячим осветилась,
И муж ее вошел, загородивши вход
Намокшим неводом, и крикнул; «Вот и флот!»
10
«Ты!» – Жанна вскрикнула и радостно припала
К могучему плечу и жадно целовала
Одежду мокрую, – любовь встречает так.
«Я, женушка моя!» – ответил ей рыбак.
Он чувствовал тепло от очага родного,
И радовался он, что видит Жанну снова,
И все его лицо лучилось добротой.
Он молвил: «На море попасть – как в лес густой». —
«Ну, что погода?» – «Зла». – «А как улов?» —
«Негодный.
Но ты опять со мной, и я дышу свободно.
Сегодня на море чертовский ветер был:
Вернулся я ни с чем и невод повредил.
Внезапно началась такая суматоха!
Мой парус лег плашмя, и я подумал: «Плохо!»
И якорная цепь порвалась. Ну, а ты?
Что ты здесь делала одна?» Ее черты
Румянцем вспыхнули, и Жанна отвечала:
«Я? То же, что всегда, – я шила, поджидала.
И страшно было мне». – «Что делать, друг? Зима!»
Скрывая дрожь, она вдруг начала сама:
«Да, знаешь ли, у нас тут по соседству горе:
Вдова ведь умерла – вчера, должно быть вскоре
За тем, как вы ушли. Гильома и Мадлен
Она оставила, двух крошек. До колен
Мне будет девочка. Она немного бродит.
А мальчик – тот еще на четвереньках ходит.
Соседка бедная жила в нужде, увы!»
Рыбак нахмурился. Он сбросил с головы
Потертый капюшон, еще от бури влажный.
«Ах, дьявол!» – он сказал, потом прибавил важно:
«Я пятерых растил, теперь их станет семь.
О чем же говорить? Понятно это всем.
Что? Трудно? Не беда! Ведь мы не виноваты.
Пусть разберутся те, кто знанием богаты.
И богу одному за это отвечать,
Зачем у малышей он отнимает мать!
На них не закричишь: «Вам следует трудиться!»
Такая мелюзга! Быть может, им не спится
Там, в темноте, одним. Ты слышишь? У дверей
Стоит покойница и просит за детей.
Ну, женушка моя, ступай теперь за ними!
Мы станем поднимать их вместе со своими,
Ни в чем различия не делая меж них:
Пусть будет семеро у нас детей родных!
А чтоб их прокормить, затянем пояс туже.
Бог постарается и даст улов не хуже!
Да я и сам нажму! Не буду пить вина.
Неси же их сюда! Ступай скорей, жена!
Зачем ты на меня теперь глядишь упорно?
Обычно, мой дружок, ты более проворна!»
Но Жанна в тот же миг к постели подошла:
«Смотри-ка, вот они. Я их уже взяла».