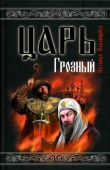Том 13. Стихотворения

Текст книги "Том 13. Стихотворения"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
II. КАРИАТИДЫ
О мощный каменщик, Жермен Пилон великий!
К тебе дошли из бездн немолчной скорби крики:
Ты понял, что резец оружьем может быть;
Ты не героев стал, не королей лепить,
Но, Сен-Жермен презрев, Шамбор, подобный сказке, —
Ты Новый Мост облек в трагические маски,
Ты мглу окаменил, резца являя власть.
Ты знал, что, скорбную распахивая пасть,
У ног полубогов стенают полузвери,
Знал все презрение, что скрыто в их пещере,
Рубцы всех адских мук, всех каторжных гримас,
Какими клеймлено лицо народных масс.
Гигант! В то время как ваятели другие,
В черты предвечного влюбляясь сверхземные,
Рельефы резали у входа в божий храм;
Когда на цоколе, где реял фимиам,
Они в лазурь небес, в прозрачные просторы,
Где трубы ангелов и ветровые хоры,
Как небожителя, чтоб грезил в вышине,
Взносили цезаря фантомом на коне;
Когда Тиберий ждал от них, лишенных чести,
Искусства, полного презренно-пышной лести;
Когда их бронзовых плавилен языки
Неронам и Луи лизали каблуки;
Когда они резец державный оскверняли
И двух – из мрамора и бронзы – слуг ваяли;
Когда, чтобы земле, влачащей груз цепей,
Любой Элагабал сверкнул иль Салмоней, —
Они, с мечом, с жезлом, являли ей тирана
Как недоступного для смертных великана,
Что в эмпирей взнесен, где зыблется заря,
В такую высь, где он казался бы, паря,
Сливающим свою надменную корону
С венцом, который тьма дарует небосклону,
Чтобы в священной мгле, скрывающей зенит,
Был лавроносный лоб сияньем звезд повит;
Меж тем как ставили они на постаментах
Громадных королей в их мантиях и лентах,
Князей, презренных всем, на медь сменивших грязь,
Рядили деспотов в архангелов, гордясь,
Старались, чтоб явил величие хозяин,
Монарх иль бог, – тобой, тобой – народ изваян,
Великий крепостной, чей дышит лавой рот,
Великий каторжник, великий раб, – народ!
Спустившись в бездну бед, и ужаса, и порчи,
Колодника судьбы ты смог подметить корчи.
Под Карлами, что кровь смывают с хищных рук.
Под злобными Луи средь Лесдигьеров-слуг,
Под чванным Франсуа, под куколкой Дианой —
Ты Энкелада гнев почувствовал вулканный,
Ты саван снял с живых, простертых в глубине
Могильной, крикнув им: «Ваятель я! Ко мне!
Все те, кто мучится, все те, кто плачет в страхе,
Все прокаженные, все, чающие плахи, —
Ко мне! Под цоколем, где торжествует медь,
Вдоль моста в камне вас я призову кишеть.
Нужда, болезни, скорбь, лохмотья, злая старость,
Оскалы голода, лачуг зловонных ярость, —
Ко мне! И этому – над вами – королю
Все ваши язвы я открытыми явлю;
Дам жизнь и плоть я вам, на камне иссеченным,
И вашим жалобам река ответит стоном;
Зимою, в темноте, под скорбный ветра вой,
К вам голоса дойдут всей бездны мировой —
Сюда, под ветхий мост, весь в пене, вихре, мраке!»
И древний Ужас тут явился из клоаки.
Во все чистилища твой острый взор проник;
Все чудища тебе явили черный лик,
И ты у них в глазах раздул огонь и вызов.
Рой лиц таинственных, вдоль каменных карнизов,
Спустился навсегда на мертвый камень плит,
Как стая мерзких мух, что из ночи летит.
О, мастерским резцом намеченные рожи!
Гиганты скорбные, творенья снов и дрожи,
Подвластные всему, что липко и черно,
И потому – в грязи и в брызгах заодно!
Их головы, где сплошь – помет и гнезда птичьи,
С форштевней каменных торчат в немом величье,
Нависнув над водой, как корабельный нос;
Тела их – в мостовой, под грохотом колес,
Под стукотней подков, под тихими шагами;
Упряжки тяжкие, взбодренные бичами,
Летят по ним, везя канаты, цепи, гроб, —
Летят; и в некий миг безжалостный галоп
Из плоти каменной (что может быть безмолвней?)
Копытом кованым вдруг выбьет связку молний!
***
О! Кто бы ни был ты, кто мыслит, кто не слеп,
К дням человечества, к путям его судеб, —
Приблизься, погляди и, трепеща, подумай!
Вот все они – толпой стесненной и угрюмой;
Вот те, что мучатся, что вызывают вздох;
Вот те, что под столом упавших ищут крох;
Вот те, что презрены, назначены для свалки;
Тут Санчо, там Скапен, здесь Дав, служака жалкий;
Химера из мечты в реальный рвется мир;
Лакей разинул рот, поняв, что он – сатир;
А вот носильщики всех человечьих тягот…
Глядят они, как всё, меняясь с году на год,
Родится, сходит в гроб, спешит невесть куда
И, поджидая тьмы, струится как вода.
На праздный этот бег взирает суд их строгий.
Река же, следуя рывкам своей дороги,
Бежит к неведомой свободе наугад, —
И пленники ей вслед, как Танталы, глядят.
И отблески волны, под каменным карнизом,
Порою пламенем бегут по лицам сизым;
Их мышь летучая касается крылом.
И что там – плач иль смех – разносится кругом?
О, пасти! Там мудрец, кого страшит пучина,
Пантагрюэля ждет, а встретит Уголино!
Там Дант является под маскою Рабле!
Тоска и ужас там иссечены в скале:
Лбы, где пыланье бездн, холодных как гробница!
Черты незримого! Теней бесплотных лица!
Сквозь дыры савана представший маскарад!
Какими чарами ваятель вызвал ад,
Чтоб Микеланджело и Мильтон посрамились?
На страшный карнавал все призраки явились
Из преисподней той, где тяжкий дых стихий!
С процессией своей чудовищный Куртий
Окаменел в стене из бреда и тумана!
Ужели никогда налетом урагана
Тех изваяний рой не будет разметен?
Так что же сделали, о боже, храм и трон
С народом, для кого мертвы и свет, и разум,
И все надежды, – с ним, чей плач и хохот разом
Гремят, когда из бездн его приметит взор
Лувр – с этой стороны, с той стороны – Собор?
***
О! Это творчество, и эти порожденья,
И трепеты души, встречающей виденья, —
Терзают гения и гнут его в дугу,
Чтоб в тайны он глядел на черном берегу.
Лишь этот низкий мир предстал тебе, столь странный,
Хрипящий в ярости и в страсти неустанной,
Безумья скорбного катя немолчный крик, —
Да, скульптор! – мысль твоя в высокий этот миг
Сроднилась навсегда с пучинами и тьмами.
Да, избранный из тех, в ком творческое пламя,
Да, мэтр, ты здесь обрел и мощь и славу с ней!
Семье могуществом гордящихся князей,
Правительствам, свой долг забывшим и законы,
Дворцам, чьи звездные взлетают ввысь фронтоны,
Колоссам царственным, взносящим в синеву
Хмельную от мечты и гордости главу,
Престолам сумрачным под небом-балдахином,
Монархам, – ты придал фундаментом глубинным
Народ! Под деспотом – толпу ты разместил.
Владыкам, блещущим в сознанье прав и сил,
В доверье ко всему – к портам, к ветрам, к прибоям, —
Ты, презирающий и мрачный, дал устоем
Тупым злодействам их и радостям пиров
Вот эту гидру тьмы с мильонами голов!
Под пышностью имен и славой древней крови,
Звучащих в громе труб и в орудийном реве,
Под ореолами их титулов пустых,
Условных доблестей и чванных прозвищ их,
Под всеми, кто кричит: «Я – высший! Алтари мне!
Я светоч, пурпур, меч! Сливайтесь в общем гимне!»,
Во мглу, прильнувшую к позорному столпу,
Ты безыменного гиганта ввел – толпу!
Под смехом, играми, любовью в парке сонном,
Под Валуа, Конде, Немуром и Бурбоном,
Под нежною Шеврез, кудрявою д'Юмьер,
Под всякой красотой, под роскошью сверх мер,
Под олимпийцами, средь их великолепий, —
Ты пытку изваял толпы, влачащей цепи:
Тоску безмерных масс, Голгофу мужичья
Опасного – в гранит врубила длань твоя.
Блистали господа, свершая святотатство —
Бессовестный дележ народного богатства,
Всё жрали, алчностью извечною горя,
Себе все радости, себе всю жизнь беря.
Венера Марсу взор дарила самый сладкий;
Надменно зыбились знамен победных складки;
У женщин – нагота, у королей – мечи;
Среди густых аллей охота шла в ночи;
Все было лишь дворцом, и пиром, и парадом.
А ты – ты породил вот с этим Лувром рядом
При блеске факелов, сверкающих из тьмы,
Решетку Нищеты – безвыходной тюрьмы, —
И лица бледные за той решеткой ржавой!
Вот обвинение ужасное! С их славой
Победоносцы битв, земные божества,
Чьи монументами освящены права,
Герои в золотых с алмазами кирасах,
Чтоб ослеплять глаза и путать мысли в массах,
Рубаки, щеголи с их лозунгом: «Монжой!»
Внушали радости над горестью чужой,
Лазурь бездонную и ласку солнца пили.
А ты, сновидец, ты, под их пятой, в могиле,
Обрел изломанный и корчащийся мир
И дал ему сойтись на свой, на черный пир!
На лбах отверженцев тупя резец упрямый,
Ты к чудищам высот прибавил чудищ ямы —
Народ, что день за днем свой проясняет лик
И, мощным будучи, становится велик.
О да, Иксионы наземного Аверна;
Поэмы яростной проклятья, боль и скверна;
Воров, цыган, бродяг и жуликов толпа,
Животных челюсти и парий черепа,
Что сплюснуты рукой невежества нещадной;
Калеки с их нытьем, с их жалобою жадной,
Крестьяне с лешими средь зарослей плюща;
Рот, изрыгающий ругательства, рыча;
Щека, измятая на мостовой, на ложе
Булыжном, худоба, продрогшая в рогоже;
Иссохший труженик, встающий до зари,
Кому велит Христос: «Люби!», а Мальтус: «Мри!»;
Бедняк, что весь дрожит, в себе сознав бандита,
Зараза тайная, что в смрадных норах скрыта,
Жильцов берущая в неизлечимый плен,
На тело нищего сползая с нищих стен;
Бездомных дурачков кривлянье и круженье;
Всех человеческих ночных мокриц кишенье;
Невинность под кнутом, младенчество в цепях;
Агоний вековых предсмертный бред и страх;
Отвратный Пелион под Оссою державной, —
Вот что нагромоздить сумел резец твой славный!
Пока художник там – для королей – ваял
Из бронзы дифирамб, из мрамора хорал,
Ты здесь, поэт, созвал застыть в гримасе вечной —
Под белизной богинь в лучах зари беспечной,
Под медью всадников, блистающих с высот, —
Зловещих масок ряд – скульптуры чернь и сброд!
И, чтоб творение забавней стало, в груду
Бед и отчаяний, скорбей и мук – повсюду —
Издевку ты вместил, и грозную к тому ж:
Брюске и Тюрлюпен, Горжю и Скарамуш
Возникли – призраки, чей смех был страшен, грянув
Средь уличных и средь дворцовых балаганов.
Ты воскресил их! Но, того не зная, ты,
Носитель пламенный пророческой мечты,
Шутник безудержный, – ты будущего мира
Почуял терпкий пот и влил во взор сатира
Гнев революции, где молния бежит!
Ты смех Пасквино слил и скрежет эвменид!
Угрозой королям, у основанья тронов,
Ты изваял шутов их злобных и буффонов,
И в камне роковом, что сумрачен и сер,
Сквозь арлекинов лик проглянул Робеспьер!
***
Пилон, пророк беды, вдохнувший ад бескрайный, —
Своею собственной он овладел ли тайной?
Широкая душа, кидаясь наобум,
Могла ль постичь всю глубь своих суровых дум?
Мечтатель, – знал ли он, какой им символ вскинут
Над вечным стоном вод, где мрачно арки стынут,
Над этою рекой, крутящейся ужом?
Все ль распознать он мог в творении своем?
Загадка!.. Изваять на том карнизе длинном
Обиду, ужас, боль; трагическим личинам
Дать зеркалом волну – подобье толп людских;
Над зыбью, в жалобных стенаньях ветровых,
Над всеми складками, что морщат саван водный,
Над всей тревогою и над тоской бесплодной,
Что проливаются мятущейся рекой,
В одно соединить рубцы тоски людской
И ледяных ночей нахмуренные брови;
В грядущем, спрятанном у бога наготове,
Явить монархам бунт как бурю берегам;
Намордник сняв с горгон, дать волю их мечтам;
На срезе каменном, сорвав с искусства узы,
Раскрыв ему глаза, размножить лик Медузы;
Детей воззвать из тьмы, и старцев, и старух;
Гранит повергнуть в дрожь, и в камень вдунуть дух,
И обучить его рыдать и ненавидеть;
Раскрыть глубины бездн – и этих бездн не видеть!
Быть, без сомнения, предтечей страшных лет,
Титаном, – и не знать! Возможно ль так иль нет?
Господь, помощник наш, то сумрачный, то ясный,
Поведай: вправду ли владеет гений властный,
Над кем созвездия смыкают блеск венца,
Самопознанием до сердца, до конца?
О, духа нашего великие светила,
Эсхил, Исайя, Дант, – им ведома ль их сила?
Сервантес и Рабле – свой осознали ль мир?
Шекспировскую глубь измерил ли Шекспир?
И ослепительно ль Мольер Мольеру светит?
Кто нам ответит «нет»? И кто нам «да» ответит?
Оставим!.. Эту скорбь и стоны изваяв,
Вернулся мастер в ночь, в сиянье звездных слав,
Спокоен и угрюм, века смутив картиной:
Народ истерзанный над пленною пучиной!
И ныне, путники, вникайте в образ тот!
Гомер – он мог ли знать, что Александр грядет?
Сократ – он мог ли знать, что в нем зерно Христово?
О, глуби наших душ, запретные для слова!
Пилон язвительный, во мглу швырнувший нас,
Ты, в лабиринте снов бродя в полночный час,
В какие двери тьмы и ужаса ломился?
Кто может утверждать, что ты не очутился
В твоем творении – вне мира, вне людей,
Среди неназванных, неведомых зыбей,
Среди разверстых бездн и за пределом гроба?
Что не влились в твой дух Природы скорбь и злоба
Предвечные? Что ты, художник роковой,
Не ощутил в себе тот ветер ледяной,
Тот вопль, что холодом пронзает человека, —
Отчаяние Зла, клейменного от века, —
Когда, клонясь к реке, ты слушал, мрака полн,
С немолчным скрежетом немолчный ропот волн?
***
Так зеркала реки свой длили бег упорный.
Завидя королей на набережной черной,
Вдруг смехом загремел ужасных масок рой.
Тот хохот мукою наполнен был такой,
Что до сих пор, когда так много волн забвенья
Омыло этот мост, узнавший одряхленье
С безумной ночи той, о коей говорим, —
У множества личин под выступом седым
Остался гневный блеск в пустых зрачках, и губы,
Еще сведенные, хранят тот хохот грубый.
И маска, громче всех вздымавшая свой рев,
Струившая огонь и серу меж зубов,
Загадочная тень цинического вида,
В которой ярая раскрылась Немезида,
Вдруг испустила крик:
«Эй, стадо, сволочь, рвань!
Эй, мужичье, проснись! Эй, голодранцы, глянь!
Эй, разлепи глаза, утопленные в гное
От вечных слез! Гляди: вон короли; их трое;
На лбах сгустилась тьма – то диадемы след;
У зимней полночи такого мрака нет;
У этих всех богов, видать, судьба такая:
За гробом почернеть, здесь, на земле, сверкая.
Спешат!.. Куда они? А, все равно! – Вперед!
Вам, короли, нигде не медлить у ворот:
Дорога мощена, и дали вкруг пустые.
Один из мрамора, из меди два другие:
Сердца их пращуров на матерьял пошли…
Эй, вы! вставайте все из нор, из-под земли,
Рабы, согбенные тысячелетьем гнета!
На призрачных владык вам поглядеть охота?
От них рыдали вы. Пусть ваш им грянет смех!
А кто они? Сейчас я расскажу о всех.
***
Тот, первый, – весельчак. Всю жизнь он просмеялся:
Смеясь, молился он и, хохоча, сражался;
Дед, – лишь родился он для славы и венца, —
Запеть заставил мать, а внуку дал винца,
И до могилы тот был рад любым потехам;
Из бога табурет он сделал с милым смехом:
Он прыгнул на алтарь, чтобы скакнуть на трон;
Из рук убийц родни брал подаянье он;
Такой он смех развел, что должен был в изгнанье
Отправить д'Обинье: не в тон негодованье!
Средь собутыльников и челяди своей
Расцвел он как знаток и боевых полей
И девушек, – плодя веселые затеи.
О, эти все д'Эстре, д'Антраг, де Бёйль! О, феи!
О, в парках ночи те!.. Фонтаны там журчат,
Там песни с плясками под зеленью аркад,
Там фавны-короли и нимфы-герцогини!
Ловкач Анри! За ним красавицы, богини,
Как суки, бегали: так он умел манить,
Так опьянял он их безумной жаждой жить!
Он флорентийские им расточал браслеты,
Давал концерты им, спектакли и банкеты,
Где небо вдруг лилось в разверстый потолок;
Он в Лувре им открыть альков парчовый мог,
Мог замок подарить и дивные наряды,
Где пурпур в яхонтах жжет, как жаровня, взгляды
Или волна шелков мерцает в жемчугах!
Ах, время!..
А вокруг дворца, рождая страх,
Суды, чтобы служить столь радостному трону,
Толпу ограбленных кидали в пасть закону.
Там вешали плутов, что не хотят никак
Вносить налог, оброк и пошлины; бродяг,
Презревших подати. Платить ведь должен кто-то?
Король тут не при чем; то мужичья забота.
И вечером, когда лепечет водомет
И женский смех звенит и нежность придает
Далекой музыке – гобоям и кларнетам;
Когда в густых садах, на лес похожих летом,
Кружат любовники, и там, где потемней,
Пылающие рты пьют белизну грудей;
Когда Амур парит средь лилий, и Даная
Сдается, королю тайком свой ключ вручая,
Король же, восхищен, восторжен, хохоча, —
Зевс обезумевший, – пьянея сгоряча,
Бросает Гебу с тем, чтобы настигнуть Леду,
Срывает поцелуй и празднует победу
Над некой Габриэль, над некою Шарлотт, —
То с высоты холма вечерний бриз несет,
Вливаясь в поцелуй, зловещий запах трупа.
Да! Возле этих игр и смехов бьются тупо
О бревна виселиц гирлянды мертвецов;
Их треплет ветер, их тревожат крылья сов, —
И шум доносится до луврского балкона
Скелетов ссохшихся со склонов Монфокона!
И все же наш Анри, «блудливый старичок»,
Умевший пить, любить и обнажать клинок,
Прослыл добрее всех, на ком блестят короны.
***
Второй, что едет вслед, был поскучней… Законы
При нем сосали кровь. Он сам секирой был;
Доныне от его престола – смрад могил,
И коршуны о нем еще мечтают сонно.
Свиреп и слаб, он взял «рукой» Лобардемона;
Был «мозгом» Лафемас, а Ла-Рейни «душой».
Палач при нем торчал, как призрак, за спиной;
Кто дружбу с ним сводил, тот близился к кончине:
На плаху шел д'Эффиа, на свалку шел Кончини;
Пустоголовому казалось королю,
Что ветка всякая кричит ему: «Молю,
Повесь кого-нибудь!» И не было отказу:
Он строем виселиц деревья делал сразу,
Своим профосам он гулять не позволял;
Вампиру алчному, костру, он поставлял
Обильные пайки, чтоб нищим тот не шлялся:
Грандье с Галигаи спалить он постарался;
Анри – тот битв искал, а он – костям был рад,
И сладко обонял паленой плоти чад,
И с жадностью внимал в застенках воплям пыток;
Как виноградарь, он считал плодов избыток
В корзинах палача – по головам бедняг;
В щипцах каленых он ломал упрямство шпаг;
В руках духовника он пешкой был покорной, —
Лакеем преданным сутаны этой черной;
Он залит кровью был от шляпы и до шпор;
Он над дуэлями свой заносил топор;
Безлюдя города, кидая сёла в узы,
На шпилях Ла-Рошель, и Нанта, и Тулузы
Он траурную ткань как знамя водружал;
При всех повешеньях он лестницу держал,
Чья дрожь его руке передалась навеки.
То время страшное струило крови реки,
И казни сделались забавой площадной.
При этом короле народ над головой
Не звезды, не лазурь видал, не свод небесный,
А нечто низкое, свирепое, – и в тесной
Той храмине звучал лишь смерти мерный шаг;
Трон эшафотом был, точащим кровь. Итак —
Стал «Справедливым» слыть король сей.
***
Дальше, третий
«Великим» прозван. Он, герой, кумир столетий,
Великолепен был, прекрасен, несравним.
Сверкал он над толпой, кишащею под ним,
Над скорбью, нищетой, чумой, неурожаем,
Над горько плачущим и разоренным краем;
Как маг, на пустыре, где царствует печаль,
Цветок он вырастил блистательный – Версаль;
Он был сверхкоролем, – второго нет примера;
Он приобрел Конде, Кольбера и Мольера;
Лишь Бел так ослеплять мог блеском Вавилон;
Над всеми тронами его вознесся трон;
Другие короли пред ним, как тень, тускнели;
Мир развлекал его, иной не видя цели;
И всемогущество, и торжество, и власть,
И гордость, и любовь в ночи сумели спрясть
Над головой его сиянье бездны звездной.
Хвала ему! Когда он шел, властитель грозный,
Бог, облеченный в блеск, бог-солнце, и кругом
Сверкали гении, излучены челом, —
Когда, весь в золоте, весь торжество и благо,
Не светозарного не делал он ни шага
И в пурпур одевал Олимп надменный свой, —
Народ задавленный питался лишь травой,
Вопила нищета, в тоске ломая пальцы,
Хрипели из канав голодные страдальцы,
Рабыня-Франция брела тропой бродяг,
Одетая в тряпье. Зимой бывало так,
Что, всю траву подъев, оголодав, не зная,
Где отыскать хотя б чертополох, шальная
Врывалась беднота туда, где прах и тлен;
Ночами, прыгая через преграды стен,
Толклись на кладбищах, волков сгоняя, люди,
Расковыряв гроба, копались в жалкой груде,
Ногтями шарили в останках, лоб склоня.
Рыдали женщины, беременность кляня,
И дети малые порою кость глодали,
И матери всё вновь могилы разрывали,
С неистовством ища – там не найдется ль снедь?
Так что покойники вставали поглядеть:
Какая там возня, какая там осада,
И у живых спросить: «Чего вам, люди, надо?»
Но что ж! Он был велик! Он сделал мир костром,
Чтобы везде звучал его триумфов гром.
Знамена по ветру, рев пушек, барабаны,
Боев разнузданных смерчи и ураганы,
Вкруг мертвых городов просторы пустырей,
Пылающая сеть воинственных затей,
Ряд маршалов: Тюренн с Бриссаком, с Люксамбуром,
Разграбленный Куртре с раскромсанным Намюром,
Брюссель пылающий и разоренный Фюрн,
Кровь, обагрившая хрусталь озерных урн,
Гент, Мастрихт, Гейдельберг, и Монмеди, и Брюгге,
Резня на севере и бойни хряск на юге,
Хрипящая в петле Европа под пятой —
Вот что ему трофей вручило боевой,
Лувр пеплом ублажив, обломками, гробами.
Вздор – эти города, повергнутые в пламя,
Земле напуганной кидающие свет;
Вздор – слава громкая и ореол побед,
Кровавым облаком приосенивший пашни;
Вздор – схватки лютые и взорванные башни!
Война, безумный конь, летевший за кордон
Дробить копытами любой враждебный трон, —
Вздор, чепуха; и вздор – кровавая отплата
Народу Фландрии, сынам Палатината!
В пороховом дыму топить просторы нив,
Полками мертвецов их борозды покрыв,
Грудь с грудью на скаку сшибая эскадроны, —
Все это мелочь; вздор – рожков сигнальных стоны,
Над площадями бомб и ядер ураган,
И превзойденные Тимур и Чингисхан!..
Он сделал более: стал палачом у бога.
Железом и огнем, благочестиво, строго,
Народ свой возвратил католицизму он;
И Рим апостольский доселе восхищен,
Как убелил монарх, их разлучив со скверной,
И души и сердца – для церкви правоверной,
И также – черепа на скорбных площадях.
Царит евангелье, не библия, в умах!
Как он хорош – король в союзе с богом гневным!
Как дивен горний меч в пылании вседневном!
Чего не сделает христианин-король,
Когда за бога мстит, карая эту голь,
Что нагло вздумала по-своему молиться!
Какое зрелище! Изгнание, темница;
Пасторы, докторы – внушительный пример! —
В цепях, под палками, за веслами галер;
Мильон изгнанников, и тысяч сто убитых,
И десять – заживо сожженных иль зарытых;
У гордых базилик – стада еретиков
В сорочках-саванах; повсюду строй костров
На рынках городских – и хрип в дыму зловонном;
Захваты, западни, кинжалы в сердце – сонным;
Свирепая гроза судилищ роковых;
Грудь женщины в клещах; у стариков седых
Ломают голени железною дубиной;
Убийство мечется, сопя ноздрею псиной;
На отмели несет утопленных река;
Сметает конница лачугу мужика;
Пожар, грабеж, резня, насилье – без просвета;
И пастырь Боссюэ благословляет это!
О, благостный король, религии оплот,
Как зверя дикого травивший свой народ!
Да, коршуньём неслись, прислуживая трону,
Ламуаньон к Вивье и Монревель к Турнону;
Все было ужасом и бредом наяву:
Душили в комнатах и резали в хлеву;
Детей и матерей, что ко Христу взывали,
В колодцы брошенных, камнями добивали;
Дробили черепа священникам седым;
Приканчивали вмиг прикладом удалым
За прялкой бабушку и мать у колыбели.
Невероятный век! Драгуны не робели
Бичами женщин гнать, их догола раздев;
Разврат изобретал, чем свой насытить гнев;
Мечтала оргия о новых пытках; ромом
Сам Саваоф пьянел, ревя небесным громом;
Скакали чудища повсюду и кругом,
Вскрыв девушке живот, патроны рвали в нем;
Да, католичество веселым было тигром;
Тартюф, клянясь Христом, манил де Сада к играм!
Мерзейший фанатизм, безжалостность доктрин
Покрыли Францию громадами руин.
С распятьем в кулаке, с ножом в зубах, – не верил
Ты в бога, Лувуа; и клык на бога щерил
Ты, Летелье! Губить детей и стариков?
Лишь недруг божий так злодействовать готов.
И господу служить с кровавыми руками —
Не значит ли его душить в сердцах, как в яме?
Святоши эти все – не комья ль грязи той,
Что в бога брошены с лопаты Сатаной?
Вот чем блистал король! И кажется ли дивом,
Что он «Великим» стал, придя за «Справедливым»?
О, слава, что венцом отрубленных голов
Как бы созвездием сверкнула для веков!
Лев, кошку выбравший соратником деяний!
Воитель, казнями себе натерший длани,
В тень мерзкую вдовы Скарроновой уйдя,
В Бавиле властного поводыря найдя.
Надменный меч – в ножнах, облизанных хорьками!
Лавр, весь испятнанный кровавыми руками!
Король – решеточник и свалочник! Венец,
К чьим лилиям прильнул в ночной тиши чепец
Ханжи-монахини; в котором скрыл от взгляда
Скуфью железную тот старец – Торквемада!
О, королем своим затоптанный народ!
О, мир, что под звездой упавшею гниет!
Закат эпохи той в удел достался совам,
Что выползли из дупл, ночным внимая зовам.
Маячил в темноте строй виселиц и плах,
И смутно высились внушающие страх —
Одно на западе, другое на востоке —
Два колеса. И с них кидали взор безокий
Два трупа – тех, кому молился род людской.
Был первый Совестью, и Родиной – второй.
О царственный Луи! Блистательный властитель,
Герой! Но в будущем, где истины обитель,
Где разных Бурдалу смолкают голоса,
Триумф твой повезут – два этих колеса».
Настала тишина, на миг умолкло слово;
Но маска грянула свирепым смехом снова:
«Вперед! Река рычит, и ветра вой не стих.
Вперед же, короли! Куда? Что гонит их,
Когда земного им, умершим, нету дела?
Что за тревога их погнать во тьму сумела?
Вперед, вперед! Куда ты их уводишь, ночь?
Найти Четвертого ты хочешь им помочь?
***
Что рассказать о нем, об этом – о четвертом?
Он срам и грязь вознес над миром распростертым.
Не кровью он, как те, был залит, а слюной.
Коль прадед солнцем был, он стал безглазой мглой;
Он смрад распространил; он вызвал затуханье
Последнего луча, последнего дыханья;
В сердца измученных туман вливал он тот,
Что гнилью стелется вдоль топей и болот.
Он бит под Росбахом, он голод ввел с Террейем.
Прощай, все светлое, все то, чем сердце греем!
Бесстыдство, произвол, стяжательство, позор;
Привычка мерзкая – идти наперекор
Всему, что честь велит. Сатир настороженный,
Он был ничтожеством и мразью был зловонной!
Близ прочих королей порой кружил орлан;
Они – источник слез, несчастий, казней, ран,
Бичей и ужасов. Он – только поруганье!
И Франции чело, куда сам бог сиянье
Свое струил, – при нем, при этом короле,
Обучено клонить свой мутный стыд к земле.
О горе! Паника подругой флагу стала;
Постыдное «Бежим!» два раза прозвучало:
Тут завопил разгром, банкротство взвыло там.
Старинным доблестям пришел на смену срам.
Честь умерла. Одно Фонтенуа блеснуло
При царствованье том подвальном; все уснуло
При трусе-короле: что подвиги ему?
И, паутиною перевивая тьму,
Хватая на лету в их устремленье к небу
Красу и молодость – распутству на потребу,
Гнездом паучьим он свою кровать вознес.
Но все ж заря дарит земле мерцанье рос;
День занимается, и бодрый веет холод;
И Франция уже – та кузница, где молот
Прогресса прогремел и новый мир кует.
Все идеала ждут, король же – нечистот;
Дня жаждет Франция, а он во мраке бродит
И, утром устрашен, с ним рядом ночь возводит:
К Парижу льнет второй, им созданный, Содом.
Какое ж прозвище такому подберем?
Глядите: подлые инстинкты, яд разврата,
Все виды низостей, какими честь распята,
Неведенье добра и зла, исканье тех,
Кто всех гнусней, разгул, неблагодарность, грех,
Вздох облегчения, что сына смерть умчала,
Служенье голоду, чтоб денег прибывало,
Народу – нищета, и под людей подкоп,
Чтоб их нуждой жиреть, их разгрызая гроб!
Король-вампир был слеп к слезам, смеялся ранам;
Трусливый, дал царить в Париже англичанам;
Калас – на колесе, и на костре – Лабарр;
Жесток по дряблости, он наносил удар,
Чтоб избежать труда быть добрым в царстве стонов;
Навоз он в лилиях, Вителлий из Бурбонов!
Но, к радостям своим прибавив ряд темниц,
Бастильских башен мрак и хрип лежащих ниц
В железных клетках – там, на Сен-Мишеле старом,
Внук сотни королей, он был не самым ярым,
Не больше всех народ и родину давил;
Не самый бешеный, – он самым худшим был
И самым низким. Всех он гнал, дерзнувших мыслить;
Глупец, подпорку он пытался вдруг расчислить
Для трона ветхого: в Оленьем парке он
Об инквизиции лелеял сладкий сон.
Имея целью зло и в топь уйдя по плечи,
Он, слышно, ванны брал из крови человечьей.
Он право попирал и девичьи цветы;
Распутник, матерей он вызывал бунты.
Весь грязь, он гордым был, холодным, нетерпимым…
Ну как же не прозвать подобного – «Любимым»?
Да, этот негодяй презренен был – до слез!
Зверь! Некий маниак ему укол нанес
Булавкой; вмиг предстал из Прузия Бузирис, —
И вопли Францию заполонили, ширясь
Огонь, соски в клещах, расплавленный свинец,
Кипящая смола, страдальческий венец
Даря виновному, – все лавой мук излилось
Из той царапины, что в кратер превратилась.
И Данту не являл подобных пыток ад…
Отверженец! Земле он мерзок, точно гад;
Хохочет нагло в нем всех венценосцев свора;
«Пей!» – подает ему историк чан позора.
О, боже правый! Ночь! Небес нетленных щит!
Ужель таков закон, что ужас – грязь родит,
Что прячутся от льва в канаву у заборов
И что наследует лесному вепрю боров?
Но вот над подлецом взмахнула смерть косой;
Он отдал мраку то, что мнил своей душой.
Когда его везли под перезвон унылый
В аббатство Сен-Дени, где королей могилы,
Где рядом трус, храбрец, злодей и хам легли, —
Когда священники обильно ладан жгли,
Чтоб колесницу скрыть завесой дыма жалкой,
Все видели кругом, как лил из катафалка
Никем не жданный дождь, сквозь плотный дуб сочась,
В колеса брызгая и оскверняя грязь:
То был король, монарх, священная особа,
Что падал каплями сквозь оболочку гроба.
Живете, деспоты, весь мир вбирая в пасть!
Есть Помпадур у вас, и Дюбарри, и власть;
Смеетесь, правите; пред вами все – дугою,
Но дрожь стыда у всех за вашею спиною.
Истории не счесть творимых вами зол.
Вы умираете, – немедля ореол!
И речь надгробная, подруга лести хитрой,
Приходит во дворец, в слезах, блистая митрой,
Вручить вас господу во вздохах панихид.
От ваших подвигов епископ не бежит,
Бальзамировщики ж бегут от ваших трупов!»
***
И маски ропот свой струили в ночь с уступов.
Казалось, где-то там с бездонной глубиной
Зловеще шепчется полночных волн прибой.
Одна из масок, в ночь вперясь горящим оком,
Вскричала:
«Север, юг и вы, закат с востоком,
Где солнце день за днем свой совершает путь, —
Глядите: короли везде! Когда ж рвануть
Великая гроза свои посмеет цепи,
Гроза скорбей и мук, томящаяся в склепе, —
Чтоб в вихре бешеном короны завертеть,
Чтобы заставить львов от ужаса реветь,
Чтоб ветром сотрясти любой дворец проклятый
И перенять себе галоп у конных статуй?
О вы, из мрамора и бронзы короли,
Пятой мертвящие все уголки земли,
Проклятье вам! Когда б, небесной бурей прянув,
Ночь разметала вас, безжалостных тиранов,
И молнийным бичом хлестала вас и жгла,
И в страхе грызли бы и рвали удила
Все кони медные, все мраморные кони,
И всех вас, деспоты, в безудержной погоне
Низвергла в бездну ту, где вечный стон звучал,
Чтоб вас навеки скрыл небесный туч обвал!»
И маска плакала, меча проклятья в дали,
Где трое всадников по-прежнему скакали;
Казалась совестью карающей она.
«Терпенье!» – прозвучал ей крик хохотуна.
И трое королей вдоль набережной темной,
Не слыша воплей тех, неслись во мрак огромный.