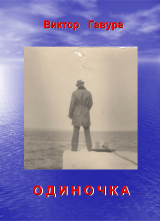
Текст книги "Одиночка"
Автор книги: Виктор Гавура
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Антонина Евгеньевна Обертас «широко известная в узких кругах», как Тоня Атас, была миниатюрной брюнеткой с коротко стриженными жесткими кудрявыми волосами и тонкой фигуркой. Гибкая и подвижная, как ртуть, ей необыкновенно шло ее черное платье мини, соблазнительно облегающее ее идеально круглый задик, и в тон ему, изящные бальные туфельки из черной змеиной кожи с ярко-красными атласными бантиками.
У Тони было хорошенькое личико с выступающими скулами, острый подбородок, широкий в основании курносый нос и крупный чувственный рот. Типичная minois chiffonne[17]17
Пикантная мордочка (фр.).
[Закрыть]. В маленьких, прижатых ушах сверкали бриллиантовые серьги «заклепки». Павел не мог отвести глаз от глубокой ложбинки между ее грудей, весьма открытых в глубоком декольте. Хотелось сказать отдельное спасибо, искусно вшитому бюстгальтеру, благодаря которому, ее груди выдавались вперед и были выставлены напоказ, как на подносе.
Что-то неприятное и в то же время, притягательное поблескивало в ее влажных черных глазах. Их выражение постоянно менялось: от детски наивного, до премудро искушенного, от безумно горячечного до подавляющего. Тоня обладала феноменальным экстрасенсорным потенциалом. Порой она творила подлинные чудеса, исцеляя безнадежных больных. Вместе с тем, она была весьма эксцентрична. Шутки ради ей ничего не стоило взорвать у какого-нибудь бандита в кармане патрон, а то и всю обойму. Искренняя восторженность сочеталась в ней с бесстыжим цинизмом и чрезмерным либидо. На вечеринках она пила и ела с аппетитом портового грузчика, танцевала до упаду, и реготала громче всех. Словом, расслаблялась. Точнее, отрывалась в отпад, будто в ожидании скорого конца света.
– Рад тебя видеть! – больше, чем следовало, обрадовался знакомому лицу Павел. – Как поживаешь? ‒ спросил он, стараясь не смотреть на ее голые груди, чувствуя, что в какую бы сторону ни посмотрел, он их видит.
– Лучше всех! – играя глазами, жеманно ответила Тоня. Лицо ее выражало неистовое блаженство.
Прижавшись к Павлу низом живота и облапив его двумя руками за ягодицы, она выставила перед ним волнующе колышущиеся груди. «Игривые сиськи», ‒ незаметно вздохнув, отметил про себя Павел. Ее бюст не соответствовал маленькому телу, как и выпуклый лоб, чересчур острому подбородку. Этот диссонанс непроизвольно притягивал к ней любопытные взгляды, вызывая нездоровый интерес. При этом она постоянно отводила назад тонкие плечи, привлекая внимание к своим грудям. Ее тело просто источало ненасытную похоть. Без сомнения, у Тони было самое провокационное тело, которое Павел когда-либо видел.
– Так болит башкенция, ни колеса, ни трава не помогают, – громким шепотом сообщила Тоня Павлу на ухо. На щеках у нее виднелись синеватые следы от юношеских угрей.
‒ Поганевич всем объявил, что ты приказал нам долго жить! ‒ отстранившись от Павла, драматически воскликнула Тоня. Ее подвижное лицо моментально отражало малейший оттенок каждого слова или мысли, возникавшие в ее маленькой голове.
‒ Я сразу поняла, что врет, когда Танька стала деньги тебе на похороны собирать. Нашел, кого дурить, мудила! Вечно выдает желаемое за действительное! ‒ и Тоня стала неистово хохотать над своей шуткой, едва не задохнувшись.
Хвастаясь, она поднесла к глазам Павла руку, на которой яркими бликами сверкал великолепный браслет белого золота, украшенный крупными изумрудами в обрамлении бриллиантов. Круговыми движениями кисти она принялась игриво вертеть браслетом перед Павлом.
‒ Очень даже ничего, ‒ похвалили браслет Павел.
‒ Да уж… ‒ удовлетворенно согласилась Тоня.
Состроив Павлу глазки, она тут же потеряла к нему интерес, вернувшись к крашеному блондину с густо покрытой лаком громоздкой прической, с которым до этого оживленно флиртовала. Блондин, как зачарованный, не сводил глаз с ее полуобнаженной груди, рвавшейся на волю из лифа платья.
Тоня всегда вела себя, как проститутка, хотя была обычной нимфоманкой и за свои горизонтальные услуги денег не брала. Впрочем, учитывая ее разнузданную похоть, и торопливость, с которой она это делала, чаще они были вертикальными. Тоня постоянно находилась в плену у своего неистового темперамента, и своих пристрастий не скрывала, называя себя королевой отсосов. Ей нужны были мужчины, как другим необходима пища, чтобы жить. Отдавшись кому-то на ходу (в кабине автомобиля, а то и на улице у мусорных баков), уже через минуту она не замечала того, с кем так страстно лобызалась. Она просто не могла жить по-другому, только живя подобным образом, она жила.
Чтобы чем-то себя занять, Павел взял с подноса подошедшего официанта бокал шампанского и остановился у стены. Он стоял, размышляя над вечной дилеммой: «Пить или не пить? Вот в чем вопрос…» Приняв алкоголь, Павел переставал контролировать свой аппетит, и случалось, объедался до рвоты. «Чрезмерный аппетит – верный признак неудовлетворенности жизнью, ‒ рассеяно рассуждал он. ‒ А алкоголь, универсальное средство от неудовлетворенности».
После выпивки, а в последнее время она почти всегда была чрезмерной, ему все чаще случалось терять память. После очередной пьянки он тяжело приходил в себя, вспоминая, что было вчера. Но слишком немногое удавалось вспомнить, да и те обрывки, что вспоминались, были сумбурными. Павел не раз уже задумывался над тем, что пьяный, он мог бы совершить преступление, о котором потом бы не вспомнил. Зачем же он пил? Алкоголь не только позволяет забыться, но и дает возможность терять ощущение времени. Сегодня в этом не было необходимости, и он принял «судьбоносное» решение ‒ не пить.
Рядом с ним громко разговаривали несколько девушек лет двадцати-пяти ‒ тридцати.
– Я у нее была перед их свадьбой. Они снимали себе однокомнатную квартиру на первом этаже за 200 долларов в месяц. Дом их стоял прямо возле дороги. Там был такой шум с улицы, что мы друг друга не слышали. И мебель у них была какая-то потасканная, пятидесятых годов. Воды не было, ни горячей, ни холодной. Я к ним один раз зашла в гости и заночевала, утром хотела умыться, а из крана как побежит какая-то ржавчина… – тараторила девица с накаченными коллагеном губами. Непостижимо было, как ей удается так тарахтеть, не делая пауз даже на то, чтобы вдохнуть воздух.
– У нее большая свадьба была? – воспользовавшись мгновением, когда та прихлебнула из бокала, удалось вставить вопрос ее подруге. Это было не проще, чем протиснуть лезвие ножа в невообразимо узкую щель.
У подруги были такие же, как у рыбы из мультфильма, надутые коллагеном губы. Они обе были в бесформенных свитерах кричащих расцветок, в модных джинсах «варенках» и в сапогах. Должно быть, холодная погода не располагала к вечерним туалетам, открывающим красивые женские тела. Каждая, в одной руке держала бокал с шампанским, а в другой, сигарету. С синхронностью автоматов, они поочередно прикладывались то к бокалу, то к сигарете. Наращенные ногти на их пальцах казались когтями хищных птиц.
– Нет, не большая, человек сто, не больше. Одно свадебное платье обошлось ей в 500 долларов. А хозяин магазина, где она работает, им на свадьбу подарил DVD-проигрыватель и путевку в Венгрию на двоих. Они теперь нашли другую квартиру ближе к центру за те же 200 долларов. Квартира – куколка, евроремонт, стены ровненькие из гипсокартона, стиральная машина и кабельное телевидение.
– А ты где квартиру снимаешь?
– На Оболони. Двухкомнатная, плачу 400 долларов в месяц. У меня и у моего Джамала, у каждого отдельная комната и отдельный телевизор. На кухне не кафель, а такая пластиковая плитка под кирпич, мне так нравится. А еще на кухне у нас есть третий телевизор. Такой маленький, общий…
– Домой, в наши Кучугуры, не тянет? Я раньше ни о чем не мечтала, только чтобы жить в Киеве. Согласна была на любую работу. А теперь, даже не знаю… ‒ в ее голосе послышалось что-то человеческое, хотя вряд ли этой особи было доступно понятие ностальгия.
– Тю на тебя! Тебя шо, тянет пожить в дыре?.. ‒ в этом вопросе на вопрос прозвучала гамма оттенков, и Павлу стало ясно, что подруги-землячки тайно не выносят друг друга.
В стоящей рядом компании не умолкая, стрекотало еще несколько девушек. Киевлянок сразу можно было отличить от хлынувших в столицу «понаехов».
– Этот Стасик такой заморыш, типичная никудышка!
Артистически подкатывая необычной формы овальные светло-коричневые глаза, говорила высокая статная девушка с длинными прямыми волосами. Подруги называли ее Джиписи и слушали ее, разинув рты. Заметно было, что Джиписи не только мастер едких характеристик, но и кладезь последних сплетен. На ней был великолепно сидящий комбинезон нежно-зеленого атласа, на фоне которого ее загорелая кожа казалась золотистой. Такой загар не получишь в солярии, так загореть среди зимы можно только на Красном море. Туфельки цвета слоновой кости на высоченных каблуках делали ее выше остальных.
Визави Джиписи улыбалась ей (но больше окружающим), неестественно белой фарфоровой улыбкой, будто с рекламы зубной пасты. У нее были белые волосы и короткая стрижка «пикси» с удлиненно косой челкой. На ней была черная шифоновая блузка с пышным воланом отбитым алыми кружевами и розовые брючки в тонкую черную полоску, обтягивающие стройные ноги в алых ботильонах. Она, как воздухом дышала, жадным вниманием к себе. Картинно опираясь, как на трость, на изогнутую ручку ярко-красного зонтика, она охотилась за обращенными на нее взглядами, рискуя вывихнуть себе шею.
– В десятом классе он влюбился в учительницу, – с вдохновением рассказывала Джиписи. – Она у нас на практике была после института. У них был такой роман, вся школа гудела. А потом она умерла от лейкоза, очень быстро. Все говорят, он ее и мертвую любит. Некрофил!.. – округлив глаза, поделилась страшной новостью Джиписи.
Павел удивился, как из продолговато миндалевидных, ее глаза сделались совершенно круглыми. Не перевелись еще такие артисты…
‒ Умопомрачительный тип! ‒ с восторгом присовокупила она. Заметив, что на нее смотрит Павел, Джиписи целомудренно загородилась ресницами, и тут же, с откровенным кокетством искоса посмотрела ему в глаза.
Со Стасиком ‒ Валентином Стасюлевичем, Павел был знаком. Слышал он и про учительницу, это была нашумевшая в свое время история, весь Виноградарь о ней говорил. Валентин был мальчишеского роста, тщедушный и невзрачный на вид, его ровесник, они были соседи по подъезду. Его большая кожаная куртка была вытерта до белизны, будто испачкана мукой и выглядела на нем, как пальто. Здороваясь с Павлом, он всегда смотрел на него с какой-то невысказанной надеждой, как будто ждал от него чего-то.
У Валентина были жесткие взъерошенные волосы и выразительные темно-вишневые глаза с открытым прямым взглядом. Он отличался трогательным смирением, был добрым, но уж очень простодушным, как говорится, человек без задних мыслей: что на уме, то и на языке. При этом он верил всему, что ему говорили. Более доверчивого человека Павел не встречал, безошибочно узнавая неприспособленных к жизни. Разумеется, Валентин не относился к тем, кто, войдя в зрелый возраст, верит в Деда Мороза, но в его простодушии было что-то детское. В своей невинности он ожидал от других лишь проявлений великодушия и любви, в каждом встречном он видел нового друга, даже с кем встречался впервые.
Он был слишком искренен, слишком правдив, душевно распахнут, что вызывало у окружающих только недоверие, усиливая отчужденность. Почему таким, как он, одиночкам, так трудно живется среди людей? Потому, что они более человечнее. И Бог их любит больше других. За что? За то, что они обречены на страдания, за то, что именно их, как и его когда-то, приносят в жертву.
Валентин занимался художественной фотографией и считал, что в нем живет непризнанный гений, и в один прекрасный день он создаст шедевр. Никто, кроме его самого, в это не верил, за исключением, той самой учительницы. Потеряв любимую, он не бросил фотографировать и продолжал ее любить, сомневаться, отчаиваться и опять, и снова на что-то надеяться. Живя в нищете, он не принимал выгодных предложений делать фотографии для рекламы, оставаясь самим собой, ‒ художником среди дельцов. Павел видел его фотографии, в них жила солнечная музыка. Может, они и не тянули на большее, чем потуги непрофессионала, но халтурой они не были. Они и не могли быть плохими, потому что тот, кто их сделал, глядел на мир изумленными глазами ребенка.
Кто-то невидимый добавил громкости на акустической системе и агрессивный черный рэп с рваными негритянскими скороговорками сменился белым: Потап и Настя Каменски принялись наперебой выкрикивать свои примитивные рифмы. Басы беспощадно били по ушам, как оплеухи.
Среди стоящих Павел безошибочно выделил двух лесбиянок. С ориентацией у Павла было все в порядке, но он остро ощущал тот сексуальный вызов, который бросают мужчинам красивые лесбиянки. Интересно, почему?.. Вероятно, потому, что никому из них, никогда не завоевать их любви. Одна, была в настолько короткой гофрированной юбочке, что из-под нее виднелись белые кружева трусов. Невольно притягивали взгляд ее серьги необычайно яркой бирюзы, чудно гармонирующие с ее фиалковыми глазами. «Бирюза – зловещий камень, ‒ с неожиданно нахлынувшей грустью подумал Павел. ‒ Столетиями бирюза растет на костях людей, умерших от безнадежной любви».
На другой приверженце однополой любви, по какой-то причине была мужская шляпа, черный кожаный жилет, багряный батник и черные брюки клеш с красными лампасами. Они стояли друг против друга на расстоянии вытянутой руки, не замечая друг друга. Стоило одной из них случайно встретиться глазами с другой, как взгляд ее становился невидящим, будто она смотрит в пустоту. Вторая, отвечала ей таким же, незрячим взглядом. Смотрела в упор, как будто стоящей напротив ее, не существует в природе.
Так смотрят, вернее, не смотрят друг на друга девушки, у которых есть общее прошлое, такое прошлое, про которое не хочется вспоминать. Такое прошлое до чрезвычайности интригует некоторых мужчин. Как правило, тех, кто никогда не дрался, которых и мужчинами-то трудно назвать.
Обладательница шляпы и генеральских лампас с увлечением живописала стоящим вокруг о своих злоключениях:
‒ Я в начале сезона в бутике на Крещатике купила себе дубленку. Захожу на днях в «Городок» на Петровке, а там такая же, но в два раза дешевле. Я облезла! А сегодня моя Мышка перчатки в кафе забыла, мы зашли в «Квадрат» на Лукьяновке, купить ей новые. Смотрю, висит точно такая дубленка, как у меня, а цена!.. Я чуть не повесилась!
‒ Давно пора! ‒ бросила в сторону другая и, вильнув гофрированной юбкой, демонстративно ушла.
У стола с холодными закусками хозяйничала знакомая Павлу подруга Зябкиной по фамилии Калюжная, телесно обильная, задастая, неукротимо общительная девица лет за тридцать. Калюжная часто являлась на работу к Зябкиной, там она их и познакомила. Как ее зовут, Павел не помнил, потому что имена и отчества плохо запоминал. Зябкина же, обращалась к ней исключительно по фамилии. Калюжная была взбалмошна и криклива, и вела себя, то подражая манерам высокомерной начальницы, то впадая в развязное веселье. Встречаясь с Павлом, она до отвращения пошло с ним заигрывала, ее домогательства вызывали у него едва ли не позывы на рвоту.
Своими необъятными бедрами (у Калюжной было рейтузное ожирение), она напоминала Павлу обводы портового буксира, который он видел когда-то в Одесском порту. Этот «труженик моря», пыхтя трубой, своим тупым носом пытался развернуть белый океанский лайнер. Как он ни тужился, у него ничего не получалось. Затем подошел еще один, такой же толкач, и они его развернули.
Лайнер, уменьшаясь на глазах, пошел в открытое море. Его прощальный гудок долетел с далекого рейда, он звал Павла за собой. Не дождался и, ушел на закат, без него. Корабли, легкие и стремительные, самое благородное из того, что создают человеческие руки. А морская вода по составу похожа на кровь. Все мы вышли из моря, каждый из нас носит его в своих жилах, как символ свободы.
Павел любил море. С первой их встречи в пионерском концлагере в Одессе, море пленило его своею равной небу безграничностью. Увидев однажды, он навсегда заболел Синей далью. Прощаясь с морем, он каждый раз чувствовал себя моряком, сходящим на берег, отправляющимся во враждебный мир людей. Только моряк способен понять, как не хватает моря на берегу. Можно стать капитаном своей судьбы, но не хозяином. Настоящие моряки об этом знают, чаще других, на берегу, они попадают в беду.
Сотрясая толстыми щеками, Калюжная потчевала гостей, громко выкрикивая:
– Так, дамы и господа! Милости просим к столу! Покорнейше прошу угощаться! Ешьте, раз наварено, не собакам же выкидать… ‒ ее арбузоподобные груди колыхались, как пара ведер, налитых водой. Вдобавок она отпустила себе еще и усы.
«Жаба в христианской религии символ похоти», ‒ отчего-то вспомнилось Павлу. Чтобы не встречаться с Калюжной, он свернул в полукруглую арку и вошел в примыкающую к столовой буфетную, обставленную мягкой мебелью, обтянутую черной кожей и огромным баром во всю стену. За стойкой из хромированного металла скучал бармен в розовато-лиловом смокинге. На диване сидело несколько женщин, его бывших коллег из ассоциации, специализирующихся на всяких мелочах: гадании на рунах, кармической чистке, снятии порчи, невезения и привлечении денег.
Одна из них, по фамилии Верещака, с красной шерстяной ниткой от сглаза на запястье, входила в десятку известных киевских предсказательниц будущего. С ее кукольно красивого лица не сходила улыбка, а взгляд малоподвижных голубых глаз удивлял пустотой. Она никогда не пыталась демонстрировать умственную деятельность, а впечатляла какой-то неживой, механической бездумностью, совершенно лишенной обаяния жизни. Верещака была специалистом предсказывать погоду «на вчера», хорошо видела «сегодняшнее», то, что уже произошло, и всем было известно, но иногда угадывала и «предстоящее». Наподобие того, что после пятницы, непременно, со стопроцентной гарантией, наступит суббота и возможно будет дождь, но, может так статься, что его и не будет.
В десятку «лучших предсказательниц будущего» она попала благодаря местному криминальному авторитету, который использовал ее, как рабыню. Все об этом знали и принимали, как норму. Наглый бритоголовый уголовник держал ее, чуть ли ни взаперти, как ей удалось сегодня сюда прийти, оставалось загадкой. Рядом с ней сидела ясновидящая Тамара Кошлатая, занимавшаяся снятием порчи и очищением кармы. Она почти всегда была немного не здесь, вся в себе, какая-то разморенная, и оживлялась только при виде денег. Двух других, Парасюк и Шелепуху, Павел знал меньше остальных.
Перемыв кости всем своим знакомым, его сослуживицы явно скучали. Увидев Павла, они оживленно приветствовали его, наперебой уверяя, что рады видеть его не безвременно почившим покойником, а живым и здоровым. Безотчетно ими овладело, не до конца осознанное ими самими, желание его пленить. Каждая из них старалась обратить на себя его внимание. Что послужило стимулом для их кокетства? Возможно, это был факт его чудесного воскресения, эффектный костюм либо редкостный муар галстука. Павел обладал безупречным вкусом и собственным стилем, в основе которого были элегантность и простота. Вкус и стиль значили для него больше, чем для других. Для него они были той невидимой броней, доспехами, в которых он противостоял коварно изменчивому миру.
Но, скорее всего, все было гораздо проще, в обществе нескольких женщин появился мужчина, единственный в их окружении. И среди них тут же началось тайное состязание, сначала едва заметное, а в последующем, все более явное и изощренное. Вначале затаенное, незаметное на первый взгляд соперничество, стало все отчетливее проявляться в их мимике, жестах, словах, даже у разморенных, и с кукольной пустотой в голове. Они были примерно одного возраста и одинаково миловидны, от этого их противоборство становилось все ожесточеннее. Каждая из них прилагала все усилия, стараясь превзойти других в искусстве флирта, рисуясь и выставляя напоказ свои прелести.
Не испытывая ничего, кроме скуки, Павел с учтивой улыбкой односложно отвечал на их любезности. Он остро ощущал, насколько он им противоположен, что замешан он совсем на иных дрожжах и совершенно с ними несовместим. Он изо всех сил придумывал, под каким бы предлогом от них избавиться. Неожиданно ему на выручку пришла Калюжная, которая принялась громко сзывать всех в столовую, где ей вздумалось устроить конкурс караоке. Понукая и подталкивая гостей в спину, она согнала их в столовую.
Здесь, перед висящей на стене плазменной панелью, уже выступала одна гостья в черном платье с огромным воротником из серой парчи. Она постоянно вертела головой, пытаясь высвободить короткую шею из высокого и тесного воротника, который закрывал ее уши. Этот несносный воротник основательно ей докучал, наверно из-за него она, что было сил завывала слова из романса «Пара гнедых». При этом была совершенно лишена музыкального слуха. Но это ее не останавливало, и она пронзительно вопила свое, заглушая льющуюся из динамиков музыку. Из романса «про гнедых» она знала один куплет, прокричав его, она принялась пронзительно пищать, как это делает популярный шансонье Витас. Гости начали кричать, затыкая пальцами уши, а несколько из них, убежали и спрятались на кухне. Создавалось впечатление, что не все по достоинству оценивают ее вокальные способности.
Павел боролся с желанием подпеть ей, пронзительно запищав в ответ, но так и не решился. Он стоял сбоку и с какой стороны на нее не смотрел, вид был одинаковый, как у горшка без фикуса. Из высокого, чуть ли ни до бровей воротника, виднелся только ее нос. Казалось, это нос пищит сам по себе. На возмущенные крики и писк прибежала Зябкина. После непродолжительной борьбы, она отобрала у вокалистки микрофон, больно ущипнула Калюжную, предложила гостям танцевать и перовой пустилась в пляс. Зябкина кокетничала со всеми без исключения и виляла в танце оголенными ягодицами так соблазнительно, что взгляды всех мужчин невольно, как всевластным магнитом притягивались к ее круглой попке. Что тут скажешь, шуба есть ‒ трусов не надо.
Чувство изящного влекло Павла к музыке, той, где поет душа под аккомпанемент животрепещущего слова. Он полагал, что музыка, есть некое таинство, изобретенное людьми, чтобы приподымать человека над повседневностью. Ведь она непременная спутница радости. Почему музыка так трогает сердца людей? Павел не раз задавался этим вопросом, пока не сформулировал для себя приемлемый ответ. Музыка способна вызывать ассоциации жизненных конфликтов и создает впечатление их преодоления.
Но эта техно-музыка напоминала ему шум пилорамы, стены содрогалось от монотонно гремящего ритма ударника. Павел стоял в гуще гостей, делая вид, что танцует, хотя его телодвижения больше походили на дергающуюся на нитках марионетку. Выламываясь всеми суставами, он со скукой поглядывал по сторонам, и ему казалось, что он выше всех остальных и танцующие прыгают, вертятся и скачут у него под ногами, как дрессированные собачки.
Один из гостей не танцевал, не заинтересовал его и голый зад Зябкиной. Это был тучный мужчина с густыми черными волосами, зачесанными назад. У него было расширяющееся книзу грушевидное лицо, а голова, лишенная шеи, казалась, плавно переходила в плечи. Из брюк его дорогого костюма неприлично вывалился живот большого любителя поесть. И весь он был какой-то налитой, как «труп утопленника». Он сидел в гордом одиночестве на единственном стуле, придвинутом к фуршетному столу, и сосредоточенно грыз копченый свиной бок, удерживая его перед собой двумя руками.
Обглоданные ребра напоминали соединенные вместе свирели в лапах фавна, да и сам он, если бы ни костюм, больше походил на обросшего волосами снежного человека, чем на добропорядочного гостя Зябкиной. Всецело поглощенный процессом истребления свинячьего бока, он сосредоточено отдирал зубами мясо от ребер, свирепо вращая глазами. «Ему бы по канату бегать при такой комплекции», ‒ подумал Павел, скептически относившийся к людям, тем более, к «снежным человекам».
Выбравшись из толпы танцующих, Павел вернулся в буфетную. Здесь он чувствовал себя более спокойно. Он подошел к стойке бара и взял у бармена стакан апельсинового сока. Диван был занят, на нем сидели друзья Зябкиной. Павел встречал их здесь раньше на подобных вечеринках, но коротко знаком с ними не был. Отдав общий поклон, он направился к оставшемуся незанятым бесформенному кожаному креслу, похожему на кучу черной грязи. Он с опаской присел на него, не очень-то доверяя его прочности. Как оказалось, не напрасно.
Едва его филейная часть опустилась на сомнительное кресло, как предательская конструкция стала под ним расползаться. Павел попытался вскочить, чуть не вылив сок себе между ног. Представив результат того, что могло случиться, он заставил себя улыбнуться. Убедившись в относительной устойчивости этого ненадежного сооружения, он позволил себе с облегчением вздохнуть, попутно, в соответствующих словах отдав должное современной мебели. Сидеть в стильном кресле было так же удобно, как на надутом шаре, мечтой которого было из-под тебя выскользнуть. Не рискуя расслабиться, Павел балансировал в полуприседе на полусогнутых ногах. Сидел он очень прямо, будто аршин проглотил, а стакан держал от себя подальше на вытянутой руке, в ожидании очередных происков кресла.
– Люди не могут жить без некой внутренней договоренности, ее называют моралью. Сейчас мораль потеряна, а с нею и все, что делало людей людьми, – с желчью в голосе говорил Чекалдыкин.
«Когда люди теряют мораль, в их отношениях начинает доминировать зло», ‒ подумал Павел. Чекалдыкин отличался нетерпимостью и был чрезмерно вспыльчив. Но Павел знал, что запальчиво вступая в спор по любому поводу, Чекалдыкин внутренне оставался глыбой холодного льда. Он был выше среднего роста, сухощав до худобы, и от этого казался немощным. Его изможденное лицо говорило о множестве пережитых разочарований, оно было обтянуто истонченной кожей, под которой проступали очертания черепа. Уголки его губ были постоянно приподняты в иронической улыбке, а сквозь седые волосы на голове просвечивала нездорово желтая кожа.
Одет Чекалдыкин был в костюм от Сен-Лорана цвета соль с перцем, соответствующий ему темно-оливковый галстук с ослабленным узлом и кремовую сорочку. Дополняли гардероб очень дорогие двуцветные: белые с коричневым туфли крокодиловой кожи, надетые на босу ногу. Когда тебя возит в лимузине личный шофер, можно и среди зимы разгуливать в туфлях без носков. Подумал Павел, мимоходом отметив, что у Чекалдыкина необычно тонкие, будто иссохшие пальцы, хрупкие кости рук и острые плечи, и вообще он выглядит холенным, фасонистым и наманикюренным, и в то же время, смертельно больным.
– Мораль-моралью, а мне нравятся женщины с фигурою Венеры! Там, если пощупаешь, то знаешь, маеш вещь! – выпалил Шпортько, молодцеватый мужчина, лет тридцати с запущенной небритостью, которая делала его похожим на каторжанина.
Наступила напряженная тишина. Похоже, Шпортько (черт знает, как его зовут), поддавшись словесному ухарству, ляпнул первое, что пришло на ум, не успев подумать, как это часто случается с заправскими краснобаями. Свою растительность на лице Шпортько тщательно подстригал, стараясь, чтобы она не отрастала в настоящую бороду. Над его выступающими надбровными дугами топорщились войлочные брови. На нем была усыпанная перхотью черная кожаная куртка поверх политкорректной оранжевой рубахи, ну и, конечно же, джинсы «варенки».
Шпортько недавно перебрался в Киев из Жмеринки, где работал рэкетиром. В Киеве он быстро обзавелся широким кругом знакомств и сейчас состоял в администрации президента советником по культуре. Шпортько был большой шутник и много смеялся широким, тонкогубым ртом. Его бегающие глаза дружелюбно улыбались каждому, кто с ним общался, взгляд его тут же враждебно втыкался в спину, стоило только отвернуться. Он, как бы невзначай, вскользь поглядывал на Павла, чтобы тому не показалось, что он его разглядывает, но все-таки разглядывал, остроглазо и настороженно.
– Слышали новость? Наш президент уволил «голову» своей администрации Багогу, – внимательно посмотрев на Шпортько, продолжил Чекалдыкин и запнулся на полуслове.
Подвижные губы Чекалдыкина вымученно искривились, их округленно опущенные края превратили его лицо в маску печали. Пересиливая пароксизм боли, он порывисто схватил за руку проходящего мимо официанта. Тот резко остановился, едва не обрушив поднос с напитками на головы сидящих на диване. Чекалдыкин поспешно схватил с подноса стакан виски и залпом осушил его раньше, чем официант успел выпрямиться, хотя не было похоже, что у него болит спина. Придержав официанта, Чекалдыкин взял второй стакан, только после этого его отпустив.
– Что же они не поделили в этот раз? – после продолжительной паузы, рассеяно спросил Ляпоненко, лишь бы поддержать разговор.
В задумчивости Ляпоненко провел пальцем по подбородку, будто размышлял, не отрастить ли и себе бороду? Павел тоже подумал о бороде, у него возникла неприятная ассоциация, будто его душа поросла щетиной. Ляпоненко был старше остальных, ему было лет тридцать пять, плюс-минус год-другой. У него были тонкие черты лица и зачесанные назад прямые черные волосы. Спокойному взгляду его глубоко посаженных глаз не соответствовал подвижный, нервный рот. Он выглядел разочарованным в жизни, но не был лишен чувства юмора, его печальное лицо всегда было готово озариться улыбкой, он мог и от души рассмеяться, услышав остроумную шутку.
От остальных, Ляпоненко отличался светлой аурой и чистотой мыслей. На нем был жемчужно-серого цвета костюм-тройка из альпаки от Армани, сорочка белого батиста и галстук в синюю и красную полоску. Запонки с сапфирами от Тиффани, были в тон его темно-синим глазам. Одежда от известных кутюрье ‒ символ достатка и пропуск в круг избранных. Среди собравшейся здесь разношерстной публики, она казалась Павлу совершенно неуместной. При этом он забывал, что сам одет с не менее дорого стоящей элегантностью.
Ляпоненко редко принимал участие в разговорах, больше молчал и слушал, изредка бросая приглядывающийся взгляд. Павел не понимал, что Ляпоненко делает в этой компании и вообще, почему он приходит в дом к Зябкиной? Хотя тот же вопрос, он мог бы задать и себе. Вначале Павлу казалось, что здесь собирается интеллектуальная и художественная элита столицы. Но вскоре он разобрался, что это просто кучка скучающих бездельников, бойко рассуждающих о политике, искусстве и обо всем, что ни взбредет в их досужные головы.








