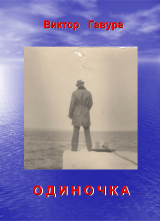
Текст книги "Одиночка"
Автор книги: Виктор Гавура
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Преступление всегда имеет продолжение. В тот последний день она была как-то необыкновенно светла. А может, это показалось? Нет, не показалось. В тот день она неожиданно попросила у Павлика прощения за то, что она с ним сделала. Она сказала это с глубоким значением, но как-то очень сухо, напугав его своей отчужденностью. И, глаза ее были сухи. «Я виновата в непоправимом проступке, ‒ я родила тебя на горе и беду. Нет мне прощения». Это последнее воспоминание о матери отложилось в памяти в виде запомнившейся, но пока не пережитой тоски, которую ему суждено было нести по жизни, той безутешной тоски, которую ребенок не мог даже себе вообразить. Похоже, в их семье стало привычкой уходить в мир иной, не попрощавшись.
Каждый беззащитен пред воспоминаниями. Воспоминания ‒ это сны наяву, в них живы те, кто ушел навсегда. Павел редко оглядывался назад, черепки разбитой жизни не склеить. Прошлое изменить невозможно, оно такое, каким есть, успокаивал себя он. Но заблуждается тот, кто думает, что прошлое не властно над будущим. Знай, ‒ прошлое безжалостно щерит клыки настоящему и предопределяет будущее.
Воспоминания о страшном, непоправимом преступлении, о своей жестокости, унижавшей его, были возмездием за содеянное. Нравственный закон запечатлен в сердце каждого из нас, и он его нарушил. Повзрослев, Павел понял, что есть поступки, которые делать нельзя. Не просто нельзя, а никак нельзя. А мог ли он поступить иначе и, остался бы он после этого, собой? Нет. Наверное, нет…
Глава 5
Так проходила жизнь.
Один день был похожим на другой, а время меж тем не стояло на месте, время шло, время уходило, хотя ничего нового, вроде бы не случалось. Но так только казалось. За два десятка лет, что прошли со дня объявления самостийности, у населения, проживавшего на территории Украины, изменились главные человеческие ценности. Если раньше ценилась порядочность, честь и достоинство, то теперь в цене были только зеленые деньги ‒ доллары. Доброта и прямодушие исчезли, как и последние скверы Киева. Но это так… ‒ из сферы духовного, а значит, невидимого, то есть нематериального, чего возможно и нет на свете.
А в остальном, все было, как и прежде. Правда, изменилась мода на силуэт женских платьев, в моду вошли вечерние туалеты с высокой талией и укороченные юбки-брюки. Ах, да! Едва не была упущена весьма важная деталь, ‒ еще поменялась форма носков мужских туфлей, но не столь существенно, как это случалось раньше. Впрочем, неизвестно, была ли между всеми этими событиями или хотя бы некоторыми из них какая-то связь.
Павла все это не коснулось, у него все было в порядке, с незыблемыми жизненными ценностями и с безупречным вкусом. Он никогда слепо не следовал скоротечным веяниям моды. В то же время, Павел был убежден, что есть люди вроде него, которых нельзя купить. Без них жизнь вообще бы была невозможной. Их абсолютная непродажность ‒ закон их бытия, а не вопрос воспитания или образования. На этих, столбовых людях, стояла и стоит земля. А вот, будет ли стоять дальше, ‒ неизвестно. Поскольку ряды их поредели, а пополнять их Павел не собирался. Он стоял над всем этим и его это не касалось. До поры, до времени… Живя среди людей, никто не может считать себя независимыми от окружающих. Все мы оказываем друг на друга влияние, каким бы мимолетным не было наше общение.
А у Павла все было в порядке, все, как надо и, как нельзя. А ведь порядок не заменит счастья, тогда как беспорядок может открыть путь к нему. Глубокая внутренняя неудовлетворенность все чаще охватывала его. Его не покидало ощущение, как будто жизнь убегает от него, водою сквозь пальцы. Он чувствовал, что каждый день теряет силы, от него уходит молодость, да и сама жизнь. Он брел привычной колеей в пустоте будней с пустотою в душе, и вокруг была все та же пустота. У него были его книги, он черпал из них неизбывные знания, забывая, что в знаньях жизни нет. А не уподобился ли он не погребенному мертвецу, читающему в фамильном склепе при утлом свете гнилушки свои заумные фолианты? Не отдавая себе в том отчета, он подсознательно искал живой связи с жизнью. Искал и не находил.
* * *
Переживания дня отгоняют сон ночью.
Все попытки уснуть этой ночью оказались тщетными. Череда видений и образов мелькала перед глазами, словно в голове взбесился слайдоскоп. Отчего-то вспомнились давнишние обиды, ошибки и неудачи, о которых помнишь, сколько живешь. Тягостное ощущение тоски завладело им. Чувство морального падения томило, как язва постыдной болезни. Он повел вокруг себя взглядом. Его окружал какой-то неестественно пресный покой. Чистота и лабораторная стерильность, от которой дохнут, ни то что мухи, а даже микробы. Павел сел за стол, включил, а затем выключил настольную лампу и решил подумать, как жить дальше? Думать лучше ночью в темноте, когда безмолвствуют люди и не отвлекают вещи.
Раньше он не задумывался над своей жизнью. В этом не было необходимости. Он верил в себя и в свое предназначение, имел четкие представления о своих способностях и знал им цену. Но оказалось, он ошибался, все это никому не нужно и не имеет цены. Он отгонял от себя эту мысль, она была разрушительна в своей сути. Но она не уходила, стояла рядом с ним «воплощенною укоризной» с кайлом на плече. Вскоре и другие мысли обступили его со всех сторон. В нем всколыхнулась волна воспоминаний, и он увидел своих пациентов, тех, кому не смог помочь, их близких и не только их, а всех, кто был к тому причастен.
Оглянувшись на прошлое с высоты прожитых лет, Павел видел лишь серые будни в траурной рамке повседневности и себя, потерявшегося во времени, тащившего волоком свою жизнь. Он не ощущал радости бытия, серость была вокруг, она поселилась и в нем самом. В детстве никто не помог ему выйти на дорогу жизни, и жизнь безжалостно смяла его.
Вот он, трехлетний, всеми брошенный, который уж час стоит в углу, наказанный в ненавистном детском саду. Таким он запомнил себя в детстве и хотя в последующем, вняв его мольбам, мать перестала отводить его в детский сад и стала брать с собой на работу, он видел себя в том же углу, наказанным по жизни. Безусловно, это пример негативного мышления, ведущего в никуда. Уныние хуже горя, в унынии усыхает душа, а без души человек ‒ ничто. Он это знал, но ничего поделать не мог, он уже давно не был самим собой, еще с детства, с того дня, когда они с матерью удушили отца. Детство ‒ детство, что о нем вспоминать, оно безвозвратно кануло в Лету.
Павел сидел и думал, или думал, что думает. Вряд ли можно утверждать, что думаешь, когда думаешь сразу о многом, а в голове беспрестанно звучит один и тот же вопрос, на который не знаешь ответ. Он всю жизнь боролся за право быть собой, но окружающие его люди сделали его таким, каким он стал. Всегда один, затерянный в беспредельном пространстве житейского моря, бессильный перед этим беспощадным миром. Он жил среди людей, где борьба и насилие смысл их бытия, стараясь ничем не выделяться, быть как все, считаясь не с велениями сердца, а с желаниями других. Он успокаивал себя тем, что все так живут. А как еще жить среди людей? Ведь никто не любит дышать, а попробуй, не подыши…
В этой никчемной суете, которую именуют жизнью, каждый волен распоряжаться собой лишь до определенных пределов, четко очерченных границами среды обитания, где все зажато в тисках условностей, писанных и неписаных законов. И вторых, несоизмеримо больше, чем первых. Но, почему, каждый должен вести себя так, как окружающие его люди? Мало того, жить по правилам их жизни, в основе которых лежит измена и обман?
Всю жизнь Павел прожил тихо, не попадал в сложные переплеты, а если что и случалось, то легко вписывался в крутые повороты судьбы. Он жил, будто в двух измерениях: для других, всех, кто его окружал, и для себя, оставаясь собой. Но теперь ему стало ясно, что он не тот, кем хотел быть. И он с горечью признался себе, что никогда в жизни не принадлежал себе самому, да попросту не был собой.
Неужели потом, оглянувшись на прожитые годы, окажется, что это и было жизнью? Кому нужна такая выхолощенная жизнь! Ему надоело выдавать себя за кого-то другого, он понял, что пришла пора выпасть из рамок условностей и стать свободным в своих желаниях и поступках. Слишком очевидно пред ним открылась удручающая перспектива, что когда придет время умереть, может выясниться, что он не жил. Куда же ушла моя жизнь?
Заглянув в себя в затишье ночи, он понял, что исчезло что-то важное, погасла искра, которая его согревала в его одиночестве. Ведь беззаветное служение людям ‒ единственное, что может избавить от ненависти к себе. Но, насколько же ему осточертел его, ставший ненавистным труд. В голове у него, то подспудно, то осознанно прокручивалась одна и та же мысль: главное дело его жизни, заполонив его, стало для него постылым. Если он и ценил в жизни что-то, так это свою работу, но в последнее время она обрыдла ему до чертиков.
И не ему одному, он однажды мимоходом посочувствовал Цихоцкому, когда тот не выдержав, в сердцах сказал Римме Марковне: «В этом подвале, с этими убогими я съедаю свою печень, укорачиваю себе жизнь!» Маска бессовестного лихоимца сползла с его лица, обнажив выражение растерянности и глубокой усталости. В потугах Цихоцкого замаскировать свою плешь остатками волос, Павел усматривал скрытый протест против подкрадывающейся смерти. Но, обобщая таким образом, можно договориться до того, что жизнь, это вялотекущая болезнь со смертельным исходом, передающаяся половым путем.
Хватит перескакивать с темы на тему! Одернул себя Павел, тут же подумав совсем уж об отвлеченном… Ему не раз казалось, что он видит человека насквозь, и видел он в нем преимущественно плохое. При этом Павел не учитывал, что ментальный взгляд, подобен взгляду глазом, который видит все, кроме самого себя. Кармические должники, как в зеркале, видят в людях свои негативные черты. Поневоле приходил на ум постулат, ‒ как ты видишь мир, так и он видит тебя. Ему действительно удавалось сканировать мысли. Но он не принимал во внимание то, что каждому человеку в голову могут прийти всякие мысли, однако реализовать он может далеко не все, а лишь те, которые соответствуют его характеру.
Для объективной оценки человека необходимо делать поправку, на что он способен, как поправку на ветер, при выстреле на дальнюю дистанцию. Но его это больше не интересовало. Он все уже в жизни видел и все знал, ему уже нечего было для себя открывать. Его перестала интересовать вопросительность мира, он и сам себе стал не интересен. У него исчезла потребность видеть людей, ему все трудней было бороться с антипатией, которую он к ним испытывал. Он под завязку нахлебался грязной жижи человеческих отношений. Хорошо зная людей, у него были основания презирать бо́льшую часть человечества. Он устал, устал от ежедневной мелочной лжи, от холуйства и подлости людей. Раздражение от окружающих становилось невыносимым, и ощущение умиротворения он испытывал лишь в одиночестве.
Любое притеснение для Павла всегда было невыносимо, он не мог терпеть контроля над своей личностью. Хоть его вроде никто не ущемлял, но он смертельно устал, не телом, а духом, устал ежедневно ходить одной и той же дорогой на работу, быть любезным с людьми, на которых не хочется смотреть. Его начала тяготить, на первый взгляд незаметная, как паутина, связь отношений, опутывающая людей. Он чувствовал, что ему нужен, ‒ нет, просто жизненно необходим отдых, свобода от притворства.
Невидимая сеть человеческих взаимоотношений держит крепче стального капкана. Из-за незримых этих оков, ни те, кто подчиняются, ни те, кто ими командуют, несвободны и находятся во взаимной кабале. Одни, ходят на работу ради жалкой зарплаты, угодливо внимают придирки самодуров начальников, превращающих их жизнь в ничто. Другие, доходят до болезни в переживаниях за свой зад, пригревшийся в начальственном кресле. И, кто из них находится в бо́льшем рабстве, – неизвестно. Ведь плен внутреннего рабства, тягостнее внешней несвободы.
Истины ради, надо отметить, что все это были праздные рассуждения, не ведущие ни к чему. Так бы Павел и жил, не случись непредвиденной случайности. Наша жизнь полна случайных встреч. Большинство из них не оставляют никакого следа, но некоторые, коренным образом влияют на ход событий в жизни человека и на его решения. Так повлияло на Павла «увольнение» Мурчика. Он повстречал его сегодня у дверей, уходя с работы. Продрогшего под дождем кота наотрез отказывался впускать вооруженный пистолетом охранник. Тут будто отомкнулся внутренний замок и освободился давно созревший замысел.
Отчего мне так скучно? Задавал себе Павел один и тот же, наболевший вопрос. Больше всего на свете он боялся скуки. В эмоциональном аспекте скуку относят к одному из вариантов отвращения. Тогда как лень, рассматривают, как некий психологический паралич, призванный обезопасить человека от разрушительного действия определенных видов труда. Но, самое главное, люди, которые скучают, сами безнадежно скучны.
Когда Павел начинал скучать, ему во всех подробностях открывалась бессмысленность жизни, и он не хотел жить. Он спорил с собой, доказывая, что скучно бывает только пустым, как бубен особям, тем, кому делать нечего. И тут же сам себе возражал, что еще скучнее тому, кто занимается делом, которое ему не нравится. Но тут ничего не поделаешь, никому не удается делать только то, что нравится. А как хочется, чтобы жизнь стала интереснее! Быть может, ему просто надоел обычный образ жизни, устоявшийся порядок вещей?
Большинство людей живет скучной, размеренной на однообразные отрезки времени жизнью. Но, что мне до них? Пусть себе живут, пока не перестанут… Ведь известно, что жизнь, это ненадолго. Да, но откуда это смятение, и тоска, которая охватывает меня по утрам? Как быть с ней? Никто не вправе считать себя хозяином своей жизни, если не может позволить себе утром поваляться в постели.
Его жизнь в последнее время стала до предела однообразной, точнее: однообразной в своем разнообразии. Монотонное чередование одного и того же иссушает душу. Зачем так жить? Так тягостно, тесно! И сколько можно страдать чужими страданиями? Как надоел этот конвейер по быстрой починке людей. Душу быстро починить нельзя, разве что, отдав часть своей. Тут никакое сердце не выдержит. Он с ужасом подумал о неотвратимо приближающемся завтрашнем дне и зарифмовал, связанные с этим ассоциации:
Каждое утро я еду туда,
Где ждет меня гнусная рожа труда.
А может, у меня эргофобия?[8]8
Эргофобия (от греч. ergon ‒ работа и phobos ‒ страх), отвращение к труду, состояние сильной неприязни к любой работе.
[Закрыть] В том подвале ее легко можно подцепить. Многие люди называют эргофобию, просто ленью, но это далеко не так. Это иррациональная хроническая боязнь работы. Эргофобы ощущают тревожность в отношении работы и всего того, что с ней каким-то образом связано. Это фобия, терроризирует, как минимум треть славян, можно сказать, что это наша национальная особенность. Нет, вряд ли, скорее всего, причина ни в этом. Человек вообще не создан для работы, вот тому доказательство: он от нее устает…
Безразличие и усталость, все что у меня осталось. Нет никакой радости от жизни, и жизнь проходит в каком-то безысходном рабстве у работы под начальством некого подобия человека, которого не уважаешь. Павел давно уже мечтал, чтобы его уволили. Почему же сам не ушел? Значит, не хватило пороха. Не каждый обладает решимостью обрубить сук, на котором сидит, каким бы постылым тот сук не был. Павел уже знал, хотя и избегал оформить для себя эту мысль словами, что работать больше не будет.
Таким образом, пора сформулировать главный вопрос моей «головоломки». Как жить дальше, не делая того, что обычно делал? Для этого надо уточнить, изменилась ли в чем-нибудь моя жизнь за последний год, месяц или неделю? Нет. Следовательно, и надеяться нечего, что все само собой переменится к лучшему. И, что из этого «следовательно» следует? Все просто, ‒ сел не в тот поезд? Соскочи!
Довольно, прочь трусливые сомнения! Решено: дальше так продолжаться не будет. Все узлы затянуты мертвыми петлями, развязать их невозможно. Разрубить? Пожалуй. С какой стороны ни посмотри, все какое-то не такое, каким могло бы, да и должно, быть. Значит, все, что ни будет, будет лучше того, что есть. Зачем работать, если можно не работать? Пора бежать с этой галеры. Надоела эта нескончаемо мятущаяся суета. Как хочется жить спокойно, как озеро или безмятежная степь. Делать то, что нравится делать, что дает отдых душе.
Поздняя ночь незаметно превратилась в раннее утро. Под утро пришло решение. Итак, подведем итог: «Сегодня я уволюсь с работы». Павел не знал, правильно ли это, одно он знал твердо, работать он больше не будет. Пропади пропадом эта работа!
Глава 6
Всему свой час и свое время.
Утром Павел, как обычно, пришел на работу. Не выспавшийся и разбитый, он сидел в своем кабинете, раздумывая о том, что решить что-то сделать и сделать, не одно и то же. Не зная, с чего начать, он сидел и томился. Посетителей не было, и каждая минута тянулась мучительно медленно. Чтобы чем-то себя занять, он стал доставать все из ящиков стола. Он выложил на столешницу несколько исписанных блокнотов, древний недочитанный манускрипт в кожаном переплете с бронзовыми застежками, рекламный проспект новых гомеопатических средств, бирюзовые четки, телефонный справочник, резную черепашку из нефрита (будто упрек в нерешительности), старые календарики за прошедшие годы. Эти календарики, спрашивается, зачем он их хранил? Наверное, ждал, когда придет пора их выбросить.
Дверь широко распахнулась и в кабинет вошла секретарь Поганевича Таня Кац. Презрительно скривившись в ответ на «доброе утро», она процедила сквозь зубы:
‒ Валерий Владимирович приказал вам сейчас же явиться к нему. Немедленно!
Могла бы по телефону позвать, подумал Павел. Нет, ей захотелось с утра сделать себе приятное. Не зря Зябкина считает ее первой в списке самых мерзких людей на планете. У него самого часто возникало желание огреть Таню Кац чем-то тяжелым, но его фантазиям не суждено было материализоваться. Классический пример пассивной жизненной позиции помноженной на ту же (небезызвестную) нерешительность.
Последней затеей Поганевича было опубликовать свои ценные мысли о нетрадиционной медицине в виде научного труда. Осуществить свой «проект века» он поручил Павлу. Павел уже несколько раз деликатно отказывался. Но Поганевич и слушать об этом не хотел, найдя, наконец, чем его допечь. Вначале эта возня вокруг его интеллектуального порабощения, Павла слегка забавляла. Если ты материально не зависишь от начальника, не стараешься сделать карьеру и не боишься мелких унижений, начальник над тобой не властен. Но Поганевич не то, что бы потерял, а лишен был чувства меры, и начал на него нагло наезжать. Павел не выносил, когда им командуют и защиту своего достоинства считал делом чести.
Почему он не уступил, философски подчинившись обстоятельствам? Ведь Павлу не составляло труда изложить на бумаге свое видение актуальности, цели и задач нетрадиционной медицины. Предварительно раскритиковав все, что бы Павел ни написал, Поганевич с радостью подписался бы под этим. Но Павел был убежден и на том стоял, что нельзя позволять, кому бы то ни было, навязывать тебе свою волю. Иначе жизнь вообще теряет свой смысл. Нет ничего дороже свободы, свободы выбора, свободы самому принимать решения.
Откуда в нем было это? С детства, когда в тиши одиночества он пришел к выводу, что каждый, даже последний из нищих, владеет величайшим сокровищем на свете ‒ свободой, и никто не вправе на нее посягать. Никто в мире не заставил бы его сделать то, чего он не желал. Должно быть, у него было патологическое неприятие любой власти над собой.
Павел сидел, и не мог заставить себя подняться, чтобы идти на ковер к начальнику. Он бы многое отдал, чтобы избежать неприятного разговора. Отдал бы, да кому отдашь?.. Павел оглядел свой убогий закут, чулан два на три метра, четыре стены с дверью без окна. Что-то ему подсказывало, что этот «кабинет» в его жизни будет последним и скоро он выйдет отсюда навсегда. От этих невеселых мыслей его отвлек зазвонивший телефон.
– Вас поставили в известность, что я вас вызываю?! – раздался в трубке раздраженный голос Поганевича.
– Да, – односложно ответил Павел. Как же ему не хотелось не то, что видеть, а даже слышать своего начальника.
– Так почему я должен вас ждать?! ‒ казалось бы, простой вопрос, но одним словом, на него не ответишь.
– Я не могу сейчас прийти. Закончит работать комиссия, и я сразу же приду, – извинительным тоном объяснил Павел.
– Какая еще к черту, комиссия?! – ни на шутку взбеленился Поганевич, от его вопля Павел даже трубку от уха отодвинул.
Похоже, Поганевичу сегодня не терпелось расставить все точки над «і». Он и не догадывался, что точка над «і», может обернуться палочкой над «т» в виде увесистого пенделя по дыне.
– Разве Кац вам не доложила? – удивился Павел. – Я принимаю участие в комиссии по списанию ненужных вещей из своего стола. Как только закончу, сразу приду, – сказал Павел и положил трубку.
Любая власть над ним, над его индивидуальностью была смехотворно нелепа. Но параллельно с этим, Павел понял, что допустил ошибку, позволив этому ничтожеству занять слишком много места в своих мыслях.
Надувшись, как мышь на крупу, Поганевич сидел за огромным письменным столом, заваленным разорванными бумажками, изуродованными детскими игрушками и множеством поломанных карандашей. «Фантомас разбушевался…» – отметил Павел. Несмотря на раннее утро, Поганевич был пьян. «Сушняк с утра подкинул», – поставил трамвайный диагноз Павел.
– Так! Говорыть мэни, що у вас зроблэно? – не здороваясь и не предлагая Павлу сесть, грозно потребовал Поганевич.
Его отечное с перепоя лицо, белело гротескной маской эпохальной значительности. Напускная важность есть уловка тела, дабы скрыть недостаток ума. Красные глаза слезились, нижняя губа брезгливо отвисла. Глядя мимо Павла, Поганевич делал вид, будто телефонного разговора в помине не было. В его повадках было откладывать месть до подходящего момента, чтобы больше навредить.
При последних их встречах Поганевич начал чваниться перед Павлом своим знанием державної мови[9]9
Государственного языка (укр.).
[Закрыть], всерьез упрекая Павла в том, что тот отказывается ее изучать путем написания диктантов, которые «совершенно бесплатно» транслируют по радио. «Сейчас все мысли надо излагать на мове и думать надо по-украински, а не просто так, как-нибудь…» ‒ научал его Поганевич. Павлу хотелось ему сказать: «Хватит, вас больше не надо!» Ему до смерти надоело делать вид перед этой «кажимостью», что происходящее имеет какой-то смысл. Но он все не говорил, молчал. Трусил, что ли? Вряд ли, пачкаться не хотелось.
– Зроблэно?.. – растеряно переспросил Павел, мимо воли перейдя на дэржавну мову.
– Так-такы, зроблэно! – сурово повторил Поганевич. Больше всего ему хотелось сейчас отправить Павла куда-нибудь подальше, куда-то в командировку по Африке, поближе к тиграм, пираньям и малярийным комарам.
– У нас покы що ничо́го нэ зроблэно, – окончательно проснувшись, ответил Павел.
– Мэни на цэ трычы дывно! – завопил Поганевич, стукнув пухленьким женским кулаком по столу.
Однако, этого ему показалось мало, и он одним махом смел на пол весь хлам, что лежал на столе. Начав быстро толстеть, Поганевич все чаще стал впадать в припадки необузданной гневливости, а все от «застоя желчи в печенке из-за застрявших там камней», ‒ так объяснил ему причину его раздражительности Цихоцкий.
– Алэ в нас щось такэ вжэ поробля́еться, тоб-то пороблю́еться, – охваченный тихо закипающим возмущением, ответил Павел, пылкий в гневе, и в доброте.
– Ото ж... – ядовито буркнул Поганевич, потирая ушибленный кулак. – Идить, та робить вжэ хоч що-нэбудь! – выкрикнул он тоном, каким посылают на три буквы и сдулся, будто из него выпустили воздух.
Вместо того чтобы уйти, Павел взял стул и основательно уселся за стол против Поганевича. Все это он проделал неторопливо, и тишина за столом становилась все более гнетущей. Павел пытался поймать ускользающие глаза Поганевича, но у него не получалось, и он гонялся за ними, как кот за двумя убегающими мышами.
– Если я узнаю или мне станет известно, что вы опять ничего не написали… ‒ с апломбом, заговорил Поганевич нормальным языком и осекся, испугавшись неизвестно чего.
Все, о чем он думал, можно было прочесть на его лице. Он испытывал к Павлу какую-то застойно неиссякаемую ненависть, а теперь, к ней прибавился страх. От этого его ненависть не убавилась, а трансформировалась в лютое озлобление. Наконец, Павел поймал бегающие глаза Поганевича, и пригвоздил их своим тяжелым взглядом.
– Вы невежда, – с отвердевшим недобрым лицом сказал Павел.
Видно Поганевичу и раньше об этом говорили, потому что он тут же надулся опять.
– Ваши мысли записать нельзя, поскольку это не мысли, а галиматья, ‒ медленно произнес Павел, будто взвешивал на весах каждое слово.
Долгим-предолгим взглядом Павел посмотрел на Поганевича и того охватила непереносимая жуть. Да не жуть и не ужас, а настоящая паника! Содрогаясь крупной дрожью, обливаясь холодным потом, Поганевич забился в самый дальний угол своего кресла. Ему непроизвольно захотелось куда-то спрятаться, прикрыть голову руками или хотя бы закрыть глаза. Но он не мог даже пошевелиться, сидел и дрожал, парализованный чужой сокрушительной волей. В знак протеста он обильно упустил мочу. Обжигая ногу, горячая жидкость полилась на пол. В тишине слышно было журчание текущей мочи. Поганевич бы все на свете отдал за то, чтобы этот страшный, наводящий неизъяснимый ужас человек, поскорей ушел. Павел знал, как напустить страху.
«Пора сделать то, что нельзя будет исправить», ‒ подумал Павел. На полу желто-зеленым тускло поблескивал, сброшенный со стола самородок. Павел поднял его и подбросил на ладони. «А груша-то созрела», ‒ с удовлетворением отметил он.
‒ Я увольняюсь. А это мое заявление об уходе! ‒ сказал Павел и со всего плеча швырнул самородок в окно. Как из пушки выпалил! Вслед за самородком на улицу вылетел весь стеклопакет.
‒ Возражения есть? Или мне необходимо отработать положенные две недели? ‒ вежливо осведомился Павел. Ему показалось, что он слышит, как в голове у Поганевича с адской скоростью вертятся шестеренки мыслей, в поисках выхода из этой невыносимой ситуации.
‒ Нет-нет, не надо! Мы договорились… Комплементарно! Огромное вам спасибо! За сотрудничество… – с лакейской предупредительностью закивал головой Поганевич. Как все невежественные наглецы, он быстро переходил от высокомерия к низкой подобострастности.
Поганевич как-то снизу, исподтишка взглянул на Павла ненавидящими глазами и быстро отвел их в сторону. С безошибочным инстинктом деспота, который сам всю жизнь тиранил других, он понял, что Павел ему не по зубам. Губы его шевелились, беззвучно произнося нечто совершенно нелицеприятное, но вслух он не сказал ничего. Выражение его лица вошло в сокровищницу дорогих Павлу воспоминаний.
‒ Шайзе![10]10
Дерьмо (нем.).
[Закрыть] ‒ сказал Павел, вместо «до свидания» и вышел.
То было единственное ругательство, которое позволял себе его дед, да и то, когда жизнь заедала или болела культя. Кашлянув несколько раз, Поганевич прошептал ему вслед задушенным голосом:
– Это вам так не пройдет… ‒ он был патологически злопамятный и жестоко мстил за малейшую обиду.
В приемной Павла подстерегала Таня Кац. Она поспешно сняла с физиономии злорадное выражение, изобразив сочувствующую гримасу. Павел прошел мимо, не обратив на нее внимания.
– Вот и все, я уволился, – устало сказал Павел, зайдя в кабинет к Зябкиной проститься. ‒ Тебе подарок, не забывай об Алых парусах… ‒ с глупой, и до боли грустной улыбкой, протянул ей картину из своего кабинета.
‒ Поставь там… За шифоньер, ‒ мельком взглянув на нее, определила ей место Зябкина, помахав рукой, как будто сушила лак на ногтях.
– Что ты теперь будешь делать? – безразлично спросила она, нанося тушь на ресницы перед раскрытой пудреницей.
– В свободное от безделья время буду отдыхать, – улыбнулся Павел. – Днем буду любоваться облаками, а ночью, звездами.
«Так хочется открыть душу! Хотя бы небу…» ‒ подумалось ему.
– А если серьезно? – спросила Зябкина, сосредоточенно рассматривая в зеркальце прыщ на носу. Сейчас для нее не было занятия важнее.
– Если серьезно, то буду размышлять над проблемами усовершенствования мира. Работа не пыльная и хорошо мне знакомая, – серьезно ответил Павел, внутренне, улыбаясь.
А жизнь не такая уж плохая штука, если ты способен на смелые поступки.
Глава 7
И потекли дни без спешки и суеты.
Павел давно хотел пожить в собственной квартире праздным гостем. Теперь он имел в своем распоряжении сколько угодно времени, и весь мир в придачу, и мог распоряжаться и тем, и другим, как ему заблагорассудится. Он впервые в жизни чувствовал себя совершенно свободным. Забывая, что свобода, опасна в своей безграничности. Все о нем забыли, никто в нем больше не нуждался и он этим ничуть не тяготился. Он не знал, что всем больным, кто его разыскивал, Поганевич приказал говорить, что Павел умер: трагически погиб, случайно угодив под асфальтовый каток, «так что и хоронить от него было нечего…»
Главным занятием Павла теперь стало ничегонеделание. Каждое утро он просыпался в пятом часу утра, когда в квартире за стеной начинала лаять чья-то собака. Она, то лаяла, то выла, как волк, и не понять было, это собака или волк? А под окнами отключали сигнализации, заводили и разогревали моторы своих автомобилей его соседи. Он набирался терпения и ждал, когда они вдоволь наоравшись между собой и со своими домочадцами с балконов разных этажей, и отстучав положенное металлом дверей, сигналя и перекликаясь дурными голосами, разъезжались по своим делам.
После этого нашествия монголо-татар (так он их называл, без малейших происков расовой дискриминации, хотя относился к ним именно, как к татарам, вперемешку с монголами), он долго нежился в постели в затишье дома. Даже собака за стеной (которая, возможно была волком), отгавкав свое, ненадолго умолкала. Для Павла же начинался пир комфорта и тишины. Он наслаждался ощущением спокойствия и тепла, и грезами между полусном и пробуждением.
Иногда он ел, но при этом не чувствовал вкуса, как человек, что подбрасывает дрова в костер, просто чтобы поддержать горение, иначе огонь потухнет и не станет его самого. Чем-то перекусив и посетив туалет (бывало, и наоборот), он снова ложился в постель. Из-за одолевшей его лени, заставить себя пойти в туалет порой бывало чрезвычайно трудно, и он с удовольствием отправил бы туда вместо себя кого-нибудь другого. «Цыган нанять, что ли?..» ‒ задумывался он над этой, не перестающей беспокоить его проблемой. Но эти, время от времени возникающие жизненные трудности, меркли перед тихой радостью, что он наконец-то нашел занятие, которое ему по душе, и называлось это упоительное занятие поэтически: «ничегонеделание».








