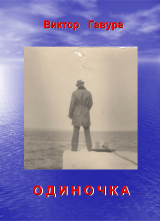
Текст книги "Одиночка"
Автор книги: Виктор Гавура
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
У него отсутствовал аппетит, однако временами в желудке образовывалась сосущая пустота. Ее предстояло чем-то заполнить, ибо она, напоминая о себе, не давала покоя. И хочешь, не хочешь, но надо было идти в гастроном. Сама процедура одевания, а потом раздевания, казалась ему непреодолимой. А люди, которых можно встретить по пути! Больше всего ему не хотелось выходить на улицу днем и встречаться с людьми. Его раздражали вылупленные глаза бездумно глазеющих на него прохожих, он тяготился назойливостью человеческого общества.
Преодолевая ужас похода за продуктами, поздней ночью, когда наступал отлив встречных лиц, он приходил в расположенный неподалеку супермаркет «Сільпо» и закупал съестных припасов на неделю. Но и эти ночные вылазки все труднее давались ему. Случалось, он ошибался в своих расчетах, и к досаде, натыкался на случайных встречных. В последний раз, купив несколько вместительных пластиковых мешков, он приобрел продуктов, которых ему должно было хватить на месяц. Теперь его ничего не связывало с внешним миром. И ему не надо было ничего, кроме самобытия.
Он ничего не читал, и у него обострилось чувствительность зрения, даже тусклый свет резал глаза. Поэтому и днем и ночью в спальне у него были плотно занавешены тяжелые, непроницаемые для света портьеры, для надежности, сколотые посредине английской булавкой. Укутавшись в тишину, он лежал в темноте без мыслей и желаний, наслаждаясь безграничной личной свободой.
Блаженный покой переполнял его, он упивался тишиной, вкушая до бесконечности непередаваемые ощущения освобождения от подчинения времени. У него не было календаря, а электронные часы он выключил, избавив себя от этих орудий пыток современного человека, раздирающих жизнь на дни и минуты. И не было у него больше ни унылого утра понедельника, ни тянущихся до бесконечности воскресных дней, с неотвратимой угрозой приближающегося понедельника. Теперь он по собственному усмотрению распоряжался собой и стал величать себя Властелином времени.
С какой отрадой он думал о том, что теперь у него нет необходимости находиться в окружении людей, не надо ни с кем общаться, постоянно следить за собой, держать лицо, изображать чувства, демонстрируя сожаление или участие, подбирать слова и думать об одном, поскорей бы остаться наедине с собой, ‒ чтобы быть собой. Больше всего он хотел забыть обо всем на свете, и быть самим собой, и это ему удалось.
Его мечта о неограниченной свободе сбылась. Кажется, он никогда не знал, что такое настоящая свобода, каково это чувствовать себя самым свободным на свете. Жить в своем собственном мире, делать то, что хочешь, быть хозяином своей жизни. Ну, что, что́ может быть прекрасней? Но, порой ему казалось, что он заблуждается. Нельзя жить в мире людей и быть свободным от них. Какая чепуха! Чего только в голову не прейдет от безделья.
Он разгуливал голый, как правда, по комнатам, считая обнаженное состояние единственно подходящим для домашней обстановки и находил удовлетворение в своем собственном, ограниченном стенами квартиры, мире простых вещей. Окружающие его неодушевленные предметы стали понемногу примирять его с действительностью, и он начал отыскивать в них ненавязчивое очарование мелочей, а затем и более глубокую суть, чем видится на первый взгляд. Вещи, как и люди, имеют свою судьбу и свое предназначение. Ему стало казаться, что вещи умеют слушать и будто живые, безропотно тихо страдают, когда он оставляет их не на своих местах.
Спустя некоторое время он перестал слоняться по квартире. Не испытывая голода, он почти ничего не ел и пребывал в каком-то странном состоянии, будто вне тела, ощущая себя человеком, поднявшимся на высший уровень человеческого самосознания, раннее ему недоступный. Как сторонний наблюдатель, он отметил несвойственную ему леность своих мыслей, каждая из которых теперь существовала как бы сама по себе. Незаметно появляясь, они так же незаметно исчезали, будто тонули в омуте его сознания, и ему не хотелось сосредотачиваться на них.
Сутками напролет он валялся в постели, лежал, моргая глазами, и несмотря на это, чувствовал себя утомленным. Он утратил желание что-либо хотеть, и вскоре у него в голове образовалась блаженная пустота, родственная безумию, и он стал подолгу просиживать у окна. Он впервые открыл для себя, насколько прекрасен полет снежинок, парящих за стеклом, словно в невесомости. Прошло немного времени, и они ему надоели.
Дни шли за днями и казалось, происходит бесконечное повторение одного и того же дня. В белом багете окна застыл зимний пейзаж: ломанная линия городского силуэта на фоне серого неба, голые деревья, слякоть и грязь вокруг. Белый снег на лету таял и дальше падал дождем. Озеро за окном застыло в своем совершенстве, оно лежало пред ним, как на ладони, будто его собственность. Летом, по утрам, когда синева еще не успевает наполнить небеса, зеркало озера играет перламутровыми оттенками жемчуга. Увидев однажды это чудо, кто-то, с поэтическим складом души, назвал его жемчужиной Виноградаря.
В пыльных, прошнурованных книгах городских реестров, это озеро значится, как «Голубое». Какая пошлость, перламутр сравнивать с синькой, оно Жемчужное! Размышляя об этом, чрезвычайно важном для него аспекте, Павел между прочим подумал, что ему не с кем даже обменяться мыслями. Впрочем, у него не было в этом нужды. Природа за окном вскоре стала нагонять тоску. Дожился, живу в мире, ограниченном шириной окна. До чего примитивен мой эскапизм![11]11
Эскапизм (от англ. escape ‒ убежать, спастись), индивидуалистическо-примиренческое стремление личности в ситуации кризиса уйти от реальности в мир иллюзий и фантазии.
[Закрыть]
В ясные дни он глядел на небо. Всматриваясь в блеклую лазурь зимнего неба, ему казалось, что он смотрит в бесконечность. Он глядел в пустоту небес без мыслей и чувств, растворяясь в бездушной их пустоте. Вскоре и это ему надоело. Да он и сам себе уже надоел. Он никогда не тяготился своим обществом, а теперь не знал, к чему бы себя применить. Может, поехать куда-нибудь? Да, но повсюду опять придется встречаться с людьми. Смена географии, новые места, это все те же люди, без них природа лишена характера. Вокруг люди, да люди, одни только люди, хоть бы черти встречались!..
Зеркало озера оспиной рябью морщилось на ветру. Капли дождя, как молчаливые слезы, стекали по окну. Не было сил на них смотреть. И Павел перестал смотреть в окно. Зачем куда-то ехать, если можно путешествовать по всему миру, не выходя из своей квартиры. И он часами в задумчивости глядел перед собой, лежа с открытыми глазами на диване. Его взгляд устремлялся в пространство, разглядывая невесть что, удаленное на сотни световых лет и ему начинало казаться, будто он бредет бесконечной дорогой, уходящей все дальше вдаль беспредельных пустот.
«Почему мои мысли столь убоги?» ‒ как-то отстраненно, между прочим, думалось ему. Ограниченность собственного воображения и желаний томили, как клетка томит вольную птицу, убивая ее, в конце концов. Да, он переступил чрез устоявшиеся стереотипы и победил, но эта победа не принесла ему удовлетворения. Нет хуже чувства, чем быть недовольным собой.
Почему человек столь противоречив? В чем причина, этого постоянного раздора с самим собой? Ученые придумали целую теорию, объясняющую это явление. Дескать, человек в процессе эволюции прошел многие этапы развития, поднимаясь от примитивных видов, к высшим, ‒ начиная от низких червей и кончая ушлыми обезьянами. При этом, на более старые структуры мозга со своими животными инстинктами, наслаивались молодые, с человеческими моральными ценностями.
Так продолжалось до тех пор, пока не произошел новый вид ‒ Homo sapiens[12]12
Человек как разумное существо (лат.).
[Закрыть]. А теперь, эти чуждые человеку структуры мозга в постоянном конфликте друг с другом, не дают человеку быть в ладу с собой. Порой одна из них, ‒ первобытная, та, что из дикой природы, берет верх, и человек совершает дичайшие поступки, за которые потом горько раскаивается, страдая своей новой, человеческой частью мозга. Чепуха, конечно. Но, что-то в этом есть.
Вскоре Павел исцелился от «недовольства собой» и стал ко всему равнодушным. Теперь у него не осталось ничего, кроме одиночества. А может, это не так уж и плохо? Думал он. Я один, но я не одинок. Все относительно. Даже огромный кит, кажется крошечным, когда пересекает просторы океана. Но, разве кит может быть одиноким? Он такой большой. Грустно, конечно, что ему некому сказать, что заплыл он слишком далеко и может утонуть… Думая так, Павел все явственнее видел перед собой улыбающееся лицо безумия.
Но, что есть безумие? Задавался он и этим непростым вопросом. Не более, чем пространное обобщение. Как отличить нормального человека, от ненормального? Психика нормального человека просто приспосабливается к среде обитания, ловко маскируя свои вывихи. А если это не получается, тебя запишут в ненормальные и ты окажешься перед альтернативой. Либо, поселиться в сумасшедшем доме, либо прятаться от реального мира, выдавая свою инакость за эксцентричность.
Время все так же текло незаметно, и Павел перестал его замечать. Время не столь ценно, как о нем думают те, кому постоянно его не хватает. Ближе всего к пониманию этого подошли на Востоке, азиаты относятся ко времени так, будто его у них прорва. И Павел начал относиться ко времени так, будто его вовсе не существует, постепенно теряя всякую связь с реальностью. Он перестал ощущать запахи, но и это его не обеспокоило. Вокруг него ничего не происходило и ему казалось, что ничего не происходит во всем мире. Разорвав все связи с внешним миром, Павел постепенно утратил осознание своей собственной личности.
Приближаясь к зениту своей самости, он окунулся в некое подобие сна без сновидений. Его собственное «я» стало для него совершенно эфемерным, сознание расширилось, и стены реальности рухнули. Он представлял себя полем, тихим и скорбным, поросшим степными травами. Ему слышалось, как над ним веет ветер, тихо шелестя иссохшими стеблями лебеды. Ему казалось, что кусты перекати-поля, растущие на нем, отрывает от корня суховей и гонит их серые колючие шары по черной выжженной земле. Глядя, как они, удаляясь, пропадают вдали, он ощущал себя женщиной-матерью, навсегда разлучавшейся со своими детьми, уходящими в неведомые дали. Матери всегда тяжело видеть, как уходят ее дети.
Мысли-мысли, летучих дум небрежные созданья…
* * *
Звезды, волшебство ночи, а ночь – повелительница снов.
Одной из бесконечно долгих ночей Павел пришел к выводу, что главным сокровищем ночи являются звезды. По ночам, либо среди дня, его унесло в чудесные края Сна. Его сновидения, расцвеченные всеми красками реального мира, с осязательностью действительно происходящего, не отличались от реальности. Они были лишены не поддающегося логике сюрреализма, полонившего сознание большинства спящих, и изобиловали интересными встречами и разговорами с неизвестными людьми, общение с которыми оставляло ощущение их, не вызывающей сомнений, материальности. Во сне он перемещался в пространстве и времени, и жил в другие времена. Но краток сон в мире грез, проснувшись, он все забывал, неимоверно уставший от жизни во сне.
Из всех своих снов он помнил один, да и то урывками. Однажды подростком жарким летним днем он поднялся на Лысую гору и заснул там на ее вершине, среди высоких трав. Ему приснилось, будто он на шабаше ведьм на горе Килиманджаро. Колдуны, волшебники, маги и чародеи слетевшись сюда со всей Африки, присвоили ему имя Тунгата, что в переводе с языка зулу означает: Борец, а на языке исиндебеле, ‒ Тот, кто ищет. Там, в белых снегах Килиманджаро на высоком ложе эбенового дерева, покрытом леопардовыми шкурами, он понял, что его призвание делать добро, а Родина ‒ весь мир, потому как Африка сердце нашего мира, издавна и по праву она считается колыбелью человечества.
Сон ‒ вояж в подсознание. Подсознательное играет в жизни гораздо бо́льшую роль, чем принято думать. И когда по ночам Павел слышал бой барабанов, ему казалось, что он снова в Африке и тамтамы из далеких джунглей зовут его на помощь. Но жизнь прозаичнее сна, то средь ночи в колодце двора выбивали половики его чистоплотные неандертальцы-соседи.
* * *
В этот раз ему снилось, будто он нескончаемо долго ехал куда-то в карете о шести рысаков. Уныло скрипели рессоры, и кони мерно печатали булыжник мостовой. Было холодно и мозгло до ломоты в костях, а снега-то этой зимой не было ни разу. В ногах на медной сковороде, укрепленной на закопченной треноге, пунцовыми отсветами рдели уголья, отбрасывая отсветы на бирюзовый атлас обивки. Он утопал в сафьяновых подушках лебяжьего пуха, даренных тетушкой Марфой, почти неразличимый. Партикулярное платье к тому располагало, все колера в тон. На нем был жемчужно-серый камзол, расшитый серебром и жабо из брюссельских кружев выдержанных в пастельных тонах. А крепкие икры плотно обтягивали белые чулки с ажурными стрелками.
«То, во что ты одет, означает, кем ты есть», ‒ оглядывая себя, подумалось ему. То, что он сливается с обивкой фаэтона, ему было все равно. Его ноги, обутые в башмаки с фигурными серебряными пряжками были невелики, верный признак породы. Краем сознания Павел отметил, что он невысок ростом, телосложения крепкого и соразмерного, движения его сдержаны и точны, а кружева жабо и манжет подобраны со вкусом и одежду свою он носит с той уверенностью и простотой, которые даются долгим опытом светского человека. Словом, истый комильфо, хотя в военном мундире он бы чувствовал себя намного уютнее.
У Павла вдруг возникло странное предчувствие, что в эту карету он сел молодым человеком, а выйдет из нее стариком. Отчего-то он был уверен в том, что предчувствие его не обмануло. Есть предчувствия, которые никогда не обманывают, и он это знал. От этой сторонней и, по сути, несуразной мысли, его проняло ознобом. Он укрыл ноги медвежьей полстью и в задумчивости достал осыпанную бриллиантами табакерку, но передумал и сунул ее обратно в карман.
Незаметно карета влилась в вереницу экипажей, едущих в одну сторону, и вскоре остановилась подле ярко освещенного дворца с литой чугунной оградой. Его богатый фронтон, украшенный лепными арабесками, опирался на десять высоких колонн полированного мрамора. Их бронзовые основания, начищенные до золотого блеска, сияли в призрачном сумраке белой ночи. Вокруг останавливались подъезжающие кареты, кричали кучера, поспешно соскакивали лакеи, откидывая подножки карет, с шумом растворялись и запирались каретные и дворцовые двери.
Под высокими навесами пылали зажженные костры, освещая красным пламенем величественное здание. Засмотревшись на причудливый орнамент фронтона, состоящий из геометрических фигур и мистических халдейских знаков, Павел пытался и не мог прочесть заключенную в нем надпись латиницей. Игра светотени костров и чадно горевших смоляных факелов, мешала ему.
К нему подошел и церемонно поклонился поясным поклоном исполинского роста и дикообразного вида дворецкий с пышными надушенными бакенбардами. На нем была зеленая ливрея с золотыми пуговицами и позументами по швам, и короткие панталоны до колен без чулок. Пропустив Павла в большой вестибюль, он повел его, переваливаясь, по парадной внутренней лестнице наверх.
Поглядывая на его обнаженные ниже колен волосатые ноги сатира, с выдающимися мускулистыми икрами, Павел заметил, что обут он в черные башмаки с круглыми, как лошадиное копыто носами. Как-то мимоходом Павлу подумалось, что видит он все это так отчетливо, только потому, что делает это в последний раз. Подумается же такое.
Внутри дворец сиял множеством свечей в золоченых жирандолях. Их свет приумножался, отражаясь в бесчисленных зеркалах и гранях подвесок хрустальных люстр. Столько блеска, но, ни грош теплоты. Аксессуары внутреннего убранства дворца зримо и назойливо напоминали о роскоши и каком-то невиданном доселе гротескном тяготении его хозяина к золоту, от золоченого итальянского фонтана подле лестницы, до золоченой лепнины потолков. Это изобилие позолоты повсюду, казалось сколь великолепным, столь и вульгарным. Одно ехало на другом, безвкусицей погоняя.
Выстроившиеся вдоль беломраморной лестницы лакеи в красных кафтанах и в напудренных париках, казались неживыми истуканами, не обращавшими внимания на царивший кругом бедлам. А вокруг творился какой-то Содом и Гоморра, воистину Вавилонское столпотворение. Отовсюду раздавался крик, визг, смех, шум и гам! Одни, бежали вверх по двум крылам лестницы; другие, сбегали вниз, стучали каблуки и черные тени метались и прыгали по стенам.
Расколовшись на промежуточной площадке лестницы надвое, людской поток образовывал пеструю круговерть шелка, золота и драгоценных камней, и еще невесть чего, сверкающе-мельтешащего, и устремлялся по двум боковым спускам вниз и вверх. Снегом осыпались конфетти, многоцветными радугами переливался серпантин. Вокруг буйствовала музыка, дворец содрогался от безумных плясок. Шла гульба, дым коромыслом и маскарад мчался в анемично-белой петербургской ночи бесшабашным вихрем.
Несмотря на то, что они поднимались по красному ковру лестницы все выше, казалось, что они спускаются в подземелье, так вокруг становилось холодно и сыро. Затем они шли долгой галереей, пол ее был вымощен квадратными плитами, черными и белыми, уложенными в шахматном порядке. Высокие готические своды нависали над головой и, будто довлели сверху. Галерея удалялась все далее, туда, где свод и пол соединялись и терялись в сумрачной утробе дворца.
Из расположенных по бокам покоев доносилась музыка клавесина и струнного оркестра, кто-то пел тенором по-итальянски. Слышался стук бильярдных шаров и возгласы играющих в карты. В одной из комнат шумно блудили, раздавался многоголосый мужской хохот и неистовый женский визг. Там явно предавались свальному греху: слышались возрастающие женские стоны, приближающиеся к кульминации. Каковы гости, таков и пир. Знать, не ошибся в нахождении адресата, попал туда, где порок пирует об руку с развратом.
‒ Черт бы вас всех задрал! ‒ в сердцах сказал Павел неподобным площадным наречьем. И спохватившись, что «черт» совершенно богомерзкое слово, истово осенил себя широким крестным знамением, что не осталось незамеченным от искоса брошенного взгляда шельмы дворецкого.
А ведь этот тлетворный дурман не есть излишеством предновогодней ночи. После восшествия на престол Петра ІІІ беспутный разврат в Петербурге стал веленьем моды, он ныне сделался делом обычным, почти вмененным в обязанность придворных. Так повелось от начала времен: Ad exemplum regis componitur orbis[13]13
Мир живет примером государя (лат.).
[Закрыть].
«Отчего соблазн получения легких денег так быстро овладевает людьми?» ‒ средь этого шалого бесчинства подумалось Павлу. Но он не успел ответить на этот, не слишком занимавший его вопрос, как послышалась сопранная ария, звучала соль-мажорная каватина, исполненная драматизма и печали, гимн одиночеству на пустынных просторах Отчизны. Павел замер, потрясенный силою и проникновенностью необычайно чистого женского голоса, столь пленительного и совершенно неуместного здесь.
Молил я подругу: «Сними эту маску,
Ужели во мне не узнала ты брата?
Ты так мне напомнила древнюю сказку,
Которую раз я услышал когда-то.
Для всех ты останешься вечно-чужою
И лишь для меня бесконечно-знакома,
И верь, от людей и от масок я скрою,
Что знаю тебя я, царица Содома».
Вспомнилось стихотворение, которое он не знал. Тем временем дворецкий торжественно распахнул перед ним створки двойной двери в величественную залу с высокими темными окнами. Сверху они были наполовину драпированы ламбрекенами из штофа темного бордо, спускавшегося по бокам причудливыми фестонами и пышными складками. Темные глянцевые панели полированного дуба усугубляли царящий здесь полумрак.
Стены украшали потемневшие от времени масляные полотна с портретами исторических персон прошлых веков в тяжелых золоченых рамах. Будто издалеча, с них взглядывали лики, долженствующие означать некую связь их с владельцем этих хором. Они глядели гордо, с весьма заметной надменностью, поскольку ни один из них не имел ни малейшего касательства к хозяину дворца. Пахло увядшими цветами, отдающими гнилью.
Облицованный белоснежным каррарским мрамором камин мерцал багровыми огнями. Каминная полка опиралась на плечи искусно вырезанных атлантов из того же мрамора. На ней стояли парные вазы рубинового стекла. Меж ними высились бронзовые часы со скульптурой поверженного рыцаря и нависшим над ним драконом с распростертыми перепончатыми, как у нетопыря крыльями. Стрелки приближаются к двенадцати, еще несколько минут и наступит Новый год.
По углам залы, в полумраке алели высокие, в рост человека, вазы из пунцового камня. В навощенном до зеркального блеска паркете отражался высокий потолок, обитый живописным полотном. На нем, с поразительной правдоподобностью было изображено волнующееся море, корабль с принявшими ветер парусами, накрененный в лихом галсе с Одиссеем у кормила, и витою надписью золотом: «Дорогу осилит идущий». Дороги, которыми мы блуждаем по жизни, редко ведут к дому, вспомянулась ему горемыка Пенелопа.
Зала освещалась высокими напольными канделябрами чеканного серебра с гнездами в виде орлиных лап с выпущенными когтями, в них с трепетом оплывали желтые свечи. В центре зала стоял большой стол на массивных витых ножках, покрытый белой скатертью, с вытканными по долу золотыми шестиконечными и красными пятиконечными звездами.
Посредине стола, будто прикраса, возвышалась деревянная бадья из толстых дубовых клепок с блестящей железной оковкой до краев наполненная водкой. Вокруг стола стояли кресла с высокими гнутыми спинками, обитые розовым французским бархатом, они пустовали. По роскоши обстановки было видно, что хозяин покоев отнюдь не стеснен в средствах. Бадья же с зельем, здесь играла роль эпатажного шута.
Во главе стола сидел Блудов, держа пред собой рюмку лафита в длинных смуглых пальцах, унизанных золотыми перстнями с самоцветными каменьями. Судя по небывалым размерам камней, то были скорее изделия стеклодувов, чем творенья природы. На нем был вишневого бархата камзол и до чрезмерности густо затканный золотом атласный жилет. Кружева его манжет были чересчур пышными, и вообще его наряд производил впечатление избыточности, говорившей, прежде чем разомкнутся уста, о дурном вкусе хозяина. Истинному аристократизму чужда барственная демонстративность, ‒ ему нет в ней нужды.
На широком бархатном поле груди Блудова сверкала бриллиантовая звезда. Недавно Петр ІІІ пожаловал ему княжеское достоинство с титулом Светлости, и он был назначен канцлером[14]14
Канцлер – чин первого класса соответствующий военному чину генерала-фельдмаршала четырнадцати классной «Табели о рангах», установленной Петром І в 1722 году.
[Закрыть], неизвестно за какие заслуги. Вот уж воистину, фортуна играет людьми, раскачивая их, как на качелях, в миг, меняя местами верх и низ: одни, взлетают случайно, другие, низвергаются нежданно.
С неразборчивостью, довольно странной при его гоноре, Блудов шел на все, лишь бы пролезть поближе к трону. Должно быть, честолюбие в нем одерживало верх над гордыней. Безрассудное мотовство и неуемная похоть часом толкали его на край нищеты, он, то разъезжал в раззолоченном кабриолете, жменями швыряя золотые налево и направо, то сидел, едва ли не в долговой яме. В его длинном лафитнике тонкого хрусталя, как живая кровь пенилось вино. Глядя на него, Павлу невольно подумалось, почему именно к таким, кастным негодяям, благоволит то непостижимое, что называется Случаем?
Блудов принадлежал к тем красавцам мужчинам, по которым женщины сходят с ума. Тогда как любой рассудительный человек, даже не будучи физиономистом, взглянув на такового, лишь недоуменно пожал бы плечами. Он был высок и хорошо сложен, и вполне наделен тем, что называют видной осанкой. У него был греческий нос с горбинкой, надменные темно-синие глаза с поволокой, прикрытые тяжелыми веками и вьющиеся крупными кольцами черные волосы. Изогнутые луком пухлые губы с резко выраженной чувственной ложбинкой на верхней губе и круглый, как у купидона капризный подбородок, придавали его лицу нечто женственное.
От этого, так заметного женоподобия, его красота казалась непристойно порочной. Нижняя часть его лица была заметно мелковата, несообразно малый подбородок утопал в двух студнем дрожащих складках, переходящих в шею. Он с успехом покорял женщин и относился к тем баловням судьбы, коим жизнь дается легко. Отсюда и проистекало его непомерное самомнение, и легкомысленное отношение ко всему на свете. Погрязнув в плотских удовольствиях, он тяготел к излишествам, всегда следуя одному закону – удовлетворению своих желаний. Вместе с тем, складом ума он был весьма изощрен и был гораздо умнее, чем мог показаться с первого взгляда. Не зря говорят, рысь снаружи пестра, а человек ‒ снутри.
От Блудова исходило неприятное ощущение гордой жестокости. Расчетливо бессердечный и ко всему неуязвимо безразличный, он со всеми портил отношения, что и не мудрено при неуемной желчности его характера. Однако ж, с некоторыми, совершенно нетерпимыми им, но нужными ему людьми, он умудрялся сохранять видимость приязненных отношений. Знать изрядно поднаторел в изворотах притворства. На его репутации лежало клеймо распутства, вероломства и человекоубийства. Для совести любого порядочного человека эти смертные грехи могли бы стать тяжким укором. Он же, не обращал на это ровно никакого внимания.
Блудов слыл человеком, которому опасно перечить. Не щадя времени и сил он распускал про себя слухи, будто он безжалостный бретер и весьма преуспел, убедив многих в том, что на двадцати шагах из пистолета попадает в туза. По Петербургу ходило немало пересудов о его пошлом вкусе и дичайших выходках. Многие говорили, что у Блудова нет души и всеми его помыслами и делами владеет лишь разнузданная похоть. Были и такие, которые находили, что Блудов ‒ сам Антихрист.
Павел поклонился почтительным, полным достоинства поклоном, в его манерах и осанке чувствовалось врожденное благородство. Блудов в ответ развинченно приветствовал его множеством кивков и полупоклонов. Он даже расшаркался низко вырезанными лакированными туфлями с золоченными пряжками (не вставая с кресла) и широким мановением указал Павлу на кресло супротив себя.
В этом жесте, как и во всей манере себя вести, преобладала вычурность паяца. Ни в кои времена: ни прежде, ни ныне, ни впредь, Павел не потерпел бы от Блудова эдакого амикошонства. Но нынче ему все сходило с рук, ибо на маскараде все равны, здесь любая дерзость обращена не к лицу, а к маске. Однако ж, и тот, кто эту дерзость себе позволил и тот, кто ее допустил, знали, что это не так. Эх, не дать бы до времени вспыхнуть ретивому!
Зорким оком Павел отметил лукавый блеск влажных глаз Блудова и глумливо скосоротившиеся уста растлителя. Его холеное лицо выражало бездумность игрока, для которого риск не более, чем лекарство от скуки. Они виделись сегодня на обеде у Румянцевых, там же Блудов и пригласил Павла к себе. Блудов собирался жениться на Марии Скарлатти, сироте, наследнице несметного состояния, нажитого ее отцом торговлей между Италией и Россией.
Ее отец, Луиджи Скарлатти, брат знаменитого Доменико Скарлатти, был вдов, и души не чаял в своей единственной дочери. Пораженный нервным ударом, он лежал без языка. Чуя приближение кончины, он на смертном одре, здесь на чужбине, путем переписки взял слово с графа Брюса позаботиться о Марии. После смерти Луиджи графа Брюса назначили ее опекуном, и хотя он был против брака Марии с Блудовым, вынужден был покориться воле царя. Не помогло и заступничество друзей ее покойного отца, князя Репнина и влиятельного графа Шувалова, недавно получившего из рук Петра ІІІ фельдмаршальский жезл. Закулисное перетягивание каната не увенчалось успехом, царское всевластие победило.
Блудов вознамерился этим браком поправить свои дела, заплатив долги, которые размером своим превосходили все предположения. Кроме того, брак с Марией Скарлатти прикрыл бы его прежние проступки, а может статься, и оградил бы от злоязычия будущие его похождения, от которых он не намеревался отказываться. Павел знал, что Блудов не то что не любит Марию, а совершенно к ней равнодушен. При всех ее достоинствах и совершенствах, она не произвела на него ровно никакого впечатления, он собирался жениться на ней, заведомо обрекая ее на жизнь в несчастном браке.
Блудов был записной содомит, его прельщали только мужчины, он жил с несколькими из них, коих менял по дням недели, поднимаясь от дворового мальчика и своего форейтора, до драгунского ротмистра и действительного статского советника. Оный, так их и называл: «моя неделька». И все это ему сходило с рук, принималось, как подлая обыкновенность, и все благодаря покровительству царя.
Павел давно и, к прискорбию своему, безответно любил Марию, о ней были его заветные мечты. Да, безответно! Что ж с того? Ведь, если нет любви ‒ нет и самого человека, хоть он об этом и сам не знает. Теперь же, она стала причиной его мук и терзаний. При последней их встрече Мария сразила его своею обреченной покорностью судьбе, ее нежно очерченный профиль лишал его сна белыми ночами.
Павел всегда относился к Блудову с нескрываемой гадливостью, не только потому, что сам принадлежал к старинной дворянской фамилии. Знатностью своего рода Павел не чванился, но свято оберегал фамильную честь, как незыблемую нравственную ценность. Он скорее бы жизнью и состоянием пожертвовал, нежели допустил, чтобы хоть малое пятно замарало его честь и доброе имя. О превосходстве в знатности речь не шла, Блудов был парвеню подлого происхождения, овельможенное зеро, зазнавшееся в своем ничтожестве.
Блудов был незаконнорожденный сын пронырливого сановника при дворе покойной императрицы Елизаветы, от которого он унаследовал скотскую похоть помноженную на алчность в совокупности с безудержным мотовством. В отрочестве он был усыновлен своим отцом, впоследствии, ни единожды пожалевшем об этом. До недавнего времени он вообще был не Блудов, а Бросов. Сам государь предложил ему изменить неблагозвучную фамилию и он, как бы в насмешку, взял себе другую, будто перчатки сменил. Однако ж причина была не в том, сиречь, не только в том. Павел на дух не выносил этого мужеложца из-за его содомских вожделений.
Прослышав о сватовстве Блудова, Павел поначалу в смятении растерялся, не зная, что предпринять, а затем возмутился, страшным в своей неотвратимости гневе сангвиника. Он сам набился на приглашение Блудова и это ему легко удалось. В силу своих корыстных ухищрений, Блудов из кожи вон лез, чтобы наладить с ним отношения, как с главным распорядителем военных поставок. Тщась казаться иным, нежели есть, он вынашивал злокозненные умыслы втянуть Павла в спекуляции гнилой мукой для армии. Павел же приехал дабы споспешествовать своему замыслу: вызвать Блудова на дуэль, а ежели этот скользкий педераст станет увиливать, – пристрелить его немедля, аки бешену собаку. И быть по сему!








