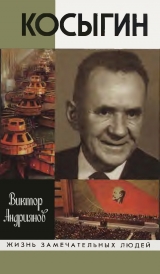
Текст книги "Косыгин"
Автор книги: Виктор Андриянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
По заданию ЦК он выезжает в Молдавию, в Узбекистан, выполняет поручения Сталина. Отчеты – конкретные и деловые. Никаких обращений типа уважаемый, многоуважаемый, дорогой. Просто: товарищу Сталину И. В. И дальше о том, что сделано. «По Вашему поручению, данному на крейсере «Молотов» 19 августа 1947 г. по оказанию помощи морякам Черноморского флота, проведены следующие меры…» Эта записка датирована 31 декабря 1947 года. В начале года он был в Молдавии, обещал помочь восстановить Кишинев. 30 апреля 1948 года председатель Кишиневского горисполкома Д. Смирнов прислал в секретариат Косыгина записку:
«Товарищ Горчаков!
Прошу передать Алексею Николаевичу снимок дома, построенного по улице Ленина в городе Кишиневе к 1-му мая, и снимок автобуса. Все это результат помощи Алексея Николаевича».
Двадцать лет спустя, в сентябре 1967-го, Косыгин вспомнил о своей послевоенной командировке, выступая на торжественном заседании в Кишиневе – он вручал республике орден Ленина:
«В начале 1947 года, вскоре после окончания Великой Отечественной войны, мне вновь по поручению Центрального Комитета и Совета Министров СССР пришлось быть в Кишиневе. Весь народ прилагал героические усилия к восстановлению хозяйства, чувствовалась полная уверенность в том, что все возникшие трудности будут преодолены. Центральный Комитет партии, Советское правительство, несмотря на ограниченные в ту пору ресурсы, оказали Молдавии большую помощь продовольствием, семенами, промышленными товарами, транспортом. Братская поддержка помогла Молдавии в короткий срок восстановить промышленность и сельское хозяйство, а затем оставить далеко позади довоенные рубежи».
«Помоги разыскать сынка»
В нескольких папках собраны письма, адресованные Косыгину. Кто-то жалуется на то, что урезали несправедливо приусадебный участок, кто-то просит помочь отменить несправедливый приговор, выбраться из подвала… Разумеется, сначала все эти письма разбирали в секретариате, готовили свои предложения – с ними поздно вечером Горчаков шел к Косыгину. Как правило, Алексей Николаевич поддерживал предложения помощников, которые старались помочь людям.
Двадцатого февраля 1949 года Горчаков, докладывая очередную почту, рассказал о письме из Ленинградской области. Иван Михайлович Беляев, инвалид труда первой группы – нет рук, потерял зрение – вторично просит оказать ему помощь в отпуске бесплатно 60 кубометров пиломатериалов для строительства дома.
«Леноблисполком рассматривал просьбу Беляева, – докладывал Горчаков. – Фондов на бесплатный отпуск леса нет. Предлагаю снять вопрос».
Косыгин пробежал письмо еще раз и перечеркнул заготовленную резолюцию. Написал новую:
«Леноблисполком.
Прошу еще раз рассмотреть, может быть, выдача леса могла бы быть произведена за счет кредита на индивидуальное жилищное строительство в соответ(ствии) с планом, утвержденным для Ленин(градской) области.
20 .II».
Расписался и передал Горчакову:
«А Ивану Михайловичу Беляеву напишите, чтоб пригласил Вас на новоселье».
В этих папках – сотни писем о повседневной послевоенной жизни страны. Жаль, что они заперты в архивах. Но еще одно из переписки 1949 года я приведу. Это живое эхо войны.
«Добрый день,
родное мое сердце, сынок желанный, я к тебе обращаюсь с большой просьбой. Родной мой, не дай погибнуть бедной, безродной старушке. У меня был сынок Мишенька, работал на станции Ленинград-Сортировочная машинистом и в 42-м году его отправили как надежного, проверенного человека, всегда был стахановцем, на Доске почета, повести эшелон с боеприпасами для фронта. И с тех пор я о нем ничего не знаю.
Сколько ни писала в Москву, даже тов. Сталину, никто мне, бедной старухе, не хочет ответить.
В 42-м году он вел состав мимо моего и его домишки, он мне помахал грязной рукою с паровоза, а я ему белым платочком. Он мне крикнул: «Скоро, мама, вернусь». Я ему улыбнулась и с тех пор я его не видела. Это я последнего сына потеряла. Самой мне уже 75 лет. Ноженьки мои мне отказали в ходьбе, даже в том, чтобы я смогла сходить попросить милостыню. Я ниоткуда не получаю нисколечки.
Вот, родной мой сынок, помоги мне, несчастной старухе, а то только меня обижают, даже сельский Совет наложил налоги… Помоги разыскать сынка. Где он погиб? Где он сложил свою головушку?
С приветом бабушка Паша Федотова.
Адрес мой:
ст. Ушаки Ленинградской области, ул. Полины Осипенко, д. № 8.
Федотовой Парасковье Прокофьевне».
«НЕ ВАМ СУДИТЬ О СТАЛИНЕ…»
Цветет в Тбилиси алыча
9 марта 1953 года на Красной площади в Москве хоронили Иосифа Виссарионовича Сталина. «Рулил» печальным собранием Никита Сергеевич Хрущев. Он предоставил слово Председателю Совета Министров Союза ССР и Секретарю (так и писалось – с большой буквы) ЦК КПСС Маленкову, а затем – первому заместителю Председателя Совета Министров Союза ССР Берия.
«Враги Советского государства рассчитывают, что понесенная нами тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах, – говорил Лаврентий Павлович. – Но напрасны их расчеты: их ждет жестокое разочарование».
Вспоминая события того, уже такого далекого марта, я нашел в своем архиве газету «Комсомолец Донбасса» с отчетом о похоронах Сталина. На потрепанных страницах сохранилась пометка почты: Доменная, 69 – наш донецкий адрес. С тех мартовских номеров начался мой домашний архив.
Вот во всю полосу: вожди у гроба Сталина. Вторым после Маленкова стоит человек без лица. Вместо портрета чернильное пятно. И по всему номеру старательно замазана его фамилия, перечеркнута речь. Надо заметить: это делалось не в марте, а в июле 1953 года, когда Лаврентий Берия превратился во врага и даже английского шпиона, хотя он, знавший все о наших атомной и водородной бомбах, никаким шпионом, конечно, не был.
Помнится знойный июльский день. Мы, второкурсники Сталинского горнообогатительного техникума, только что сдали последние экзамены и, получив стипендию за летние месяцы, высыпали на улицу Артема. Почти все в костюмах «с молоточками» – нашей горняцкой форме. Ее пошили бесплатно после первого курса, выдали красивые фуражки. Мы щеголяли в этой форме не потому, что очень хотели быть похожими друг на друга: у многих не было другой одежды. Ребята постарше, демобилизованные, донашивали гимнастерки, у остальных все было разномастное – от перелицованных кителей до дешевых вельветовых «бобочек», сшитых мамами. На баскетбольной площадке, отыграв свое, мы перекидывали босым приятелям кеды. Но нас, ребят с шахтерских окраин, все это мало волновало. Мы учились в горнообогатительном техникуме – многим городам в ту пору не снились такие институты: красивое здание, лаборатории с действующей техникой, спортивный и актовый залы. (Помню, поближе к сцене до самого нашего выпуска в 1955 году, а может и позже, до очередной антипартийной группы, висел транспарант с указанием Молотова о том, что все дороги ведут к коммунизму.) Об этом светлом будущем гремели марши из репродукторов:
Свет коммунизма виден с вышек донецких шахт.
В черных костюмах жарко, кто-то уже сгонял за семикопеечным фруктовым мороженым, соображаем, куда теперь податься – в скверик у кинотеатра «Комсомолец» или к лавчонкам за универмагом? В нашу бестолковую говорильню вдруг врываются тревожные позывные радио. Прислушались: враг народа, мусаватист, шпион… Вот тогда, придя домой, я и прошелся чертежным пером по страничкам «Комсомольца Донбасса».
Тем же летом к нам залетела частушка:
Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Анастас Иваныча.
Климент Ефремович Ворошилов был уже Председателем Президиума Верховного Совета СССР, Анастас Иванович Микоян тоже оставался во власти. В общем, народ уловил новую расстановку сил, а детали оставались под секретными грифами еще почти четыре десятка лет, до публикации стенограммы «бериевского» пленума.
Тот пленум ЦК КПСС проходил в Москве со второго по седьмое июля 1953 года.
Пять дней, правда, часть заседаний начиналась вечером, заняло обсуждение первого и главного вопроса повестки дня: «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия». Открыл пленум Никита Сергеевич Хрущев, в то время член Президиума, секретарь ЦК КПСС, с докладом выступил Георгий Максимилианович Маленков, член Президиума ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР. Среди тех, кто сидел в зале, был и Алексей Николаевич Косыгин, министр легкой и пищевой промышленности СССР, а до этого в течение 13 лет, с 1940-го по 1953-й – заместитель председателя Совнаркома (Совета Министров СССР), кандидат в члены Политбюро, член Политбюро и кандидат в члены Президиума ЦК – после XIX съезда.
Выдвиженцы
Четыре года разделяли наркомовский кабинет и каморку мастера текстильной фабрики в Ленинграде. Фантастическая для нынешних времен картина и вполне типичная для конца 30-х годов. На место директоров заводов, начальников главков, главных инженеров, наркомов, объявленных вредителями, врагами народа, арестованных, сосланных или расстрелянных, выдвигали совсем молодых людей. Выдвиженец – типичное выражение из словаря той эпохи. У Даля его нет. Есть выдвигать – выставлять вперед, выводить. Есть выдвигатель – кто выдвигает что-либо. Время добавило: выдвиженец.
Среди этой плеяды множество легендарных имен: Славский – Средмаш, атомные проекты, Ломако – цветная металлургия, Шахурин – авиапромышленность, Бещев – железные дороги… В начале 1939 года газеты опубликовали указ о награждении орденами Ленина «выдающихся организаторов социалистической промышленности в СССР»: Б. Ванникова, А. Ефремова, А. Косыгина, В. Малышева, М. Первухина, Д. Устинова. Самому старшему из них, Борису Львовичу Ванникову, было 42 года, Малышеву – 36, Первухину, Косыгину, Ефремову – 35, Устинову – 31, через два года, в 33 он станет наркомом вооружений.
Представляя коллективный портрет управленцев, призванных в конце 30-х, историк и социолог Вадим Роговин писал в книге «Партия расстрелянных»: «На смену нескольким поколениям большевиков, почти целиком уничтоженным в пожаре великой чистки, пришло поколение людей, только недавно перешагнувших порог своего тридцатилетия. От них Сталин мог ожидать безоговорочного конформизма и беспрекословного, бездумного послушания при любых поворотах своего политического курса». Наверное, эти слова верны для партийного аппарата, который колебался вместе с курсом, как шутили когда-то в узком кругу, отвечая на вопрос, были ли колебания в проведении генеральной линии партии. А хозяйственникам, командирам отраслей надо было заниматься делом. Создавать станки и самолеты, осваивать выпуск новых видов вооружения, одевать страну… Можно представить, как им приходилось работать. Какая ответственность падала на плечи вчерашних студентов, когда они принимали цехи, фабрики и заводы, где за год-два большая чистка сменяла по несколько групп руководителей.
Малышева сразу после института назначили главным инженером Коломенского машиностроительного завода, одного из крупнейших предприятий Союза – все другие инженеры были арестованы. Два года работы на заводе и в 1939-м, как и Косыгина, Сталин утверждает его наркомом – тяжелого машиностроения. Кстати, оба они на XVIII съезде ВКП(б) (март 1939 года) стали членами ЦК. Половина делегатов этого съезда была моложе 35 лет. Сталин мог гордиться: на руководящие партийные и государственные посты между XVII и XVIII съездами выдвинуто «более 500 тысяч молодых большевиков, партийных и примыкающих к партии». Добавлю: на места тех, кого увезли в Печорлаг, на Колыму или в Караганду, кого поставили к стенке… Рассказывают, когда арестовали Ежова, наркома внутренних дел, в его письменном столе нашли стреляные гильзы, завернутые в бумажки с надписями: «Зиновьев», «Каменев», «Смирнов»…
«1937 год отошел в историю, – писала первого января 38-го газета «Ленинградская правда». – С любовью и гордостью будет вспоминать о нем советский гражданин». Не знаю, случайная это оговорка с гражданином в единственном числе (оставалось добавить: Ежов) или в этой фразе намеренно не нашлось места для «граждан», которые оплакивали своих погибших. Будет ли другим 38-й?
19 января Верховный Совет СССР утвердил новое правительство. В списке, который газеты опубликовали на следующий день, 29 имен. Многие из них скоро окажутся в других, расстрельных списках: Чубарь, Косиор, Ежов, Каганович (не Лазарь, а его брат, Михаил Моисеевич, нарком оборонной промышленности), Эйхе…
Свои высшие курсы Косыгин, Устинов, Ломако, Ванников проходили в сталинском Совнаркоме, в сумасшедшей, до полного изнеможения работе, готовые к любому исходу. У кого-то хватило сил только пережить войну, как, например, у наркома угольной промышленности Вахрушева.
Николаю Константиновичу Байбакову врезался в память такой эпизод. Однажды – это было во время войны – два топливных наркома, он сам (нефть) и Вахрушев (уголь) докладывали председателю Госплана о проблемах отраслей. Слово за слово и, вспылив, Вахрушев и Вознесенский вдруг схватились за грудки. «Требуешь угля, а денег не даешь!» – кричал один. Нечто в таком же духе отвечал другой.
Вахрушев с его горячим сердцем прожил после войны только два года – умер в сорок пять. Пожалуй, первым из плеяды тех, кого называли «сталинскими наркомами», ушел из жизни он. Только на сорок семь лет хватило наркома тяжелого машиностроения СССР, министра станкостроения, зампреда Совета Министров СССР Александра Илларионовича Ефремова. Арест по навету едва не оборвал жизнь Бориса Львовича Ванникова, наркома вооружений, первого в стране трижды Героя Социалистического Труда. Он был одним «из лучших друзей Алексея Николаевича и всей нашей семьи», замечал Гвишиани.
История Ванникова в свое время была широко известна. Его, наркома вооружений, арестовали незадолго до войны. Когда грянула война, он отправил Сталину письмо, в котором высказал свои предложения о передислокации предприятий оборонной промышленности. Письмо дошло до адресата.
Как рассказывал сам Ванников, его неожиданно переодели, привели в более или менее приличный вид и вывезли из тюрьмы, ничего не объяснив. Он был готов ко всему – к новым допросам, даже к расстрелу, хотя никогда не признавал за собой никакой вины. Однако его доставили в Кремль, в приемную Сталина. Никто из больших начальников, дожидавшихся там приема, «не узнал» наркома и не поздоровался с ним. Сталин проговорил с ним около сорока минут с глазу на глаз, предложив считать все прошедшее «досадным недоразумением и немедленно приступить к работе».
Ванников вышел из кабинета Сталина наркомом, и тут-то его все узнали. Сам Борис Львович Ванников был убежден, что в его злоключениях виноват не Сталин, а его гнусное окружение. Вождь же, напротив, во всем разобрался и восстановил справедливость. Весьма типичная точка зрения.
О деловых качествах этих людей Косыгин мог судить и судил не с чужих слов, а по личным впечатлениям. Конечно же, он присматривался к ним, многому учился. Однажды он попросил Молотова «оказать содействие в переговорах с Наркоматом путей сообщения». По свидетельству Михаила Сергеевича Смиртюкова, Молотов, подойдя к Косыгину, спросил, кто он такой и какую должность занимает. «Косыгин ответил, как говорится, по всей форме. Тогда Вячеслав Михайлович сказал ему:
– Вы для того и нарком, чтобы самому выполнять свои обязанности. А я у вас толкачом не намерен быть.
После этого протянул Косыгину руку и попрощался с ним».
Как потом Косыгин рассказывал Смиртюкову, многолетнему управляющему делами Совмина СССР, он вышел от Молотова недовольным. Но скоро понял, что Молотов был прав.
Сколько воды утекло с тех пор! Сколько перемен обозначилось лишь за четыре месяца жизни без Сталина! Какие разломы последуют за ними? Попытаемся посмотреть на те события глазами Косыгина.
«Берия хотел похоронить имя товарища Сталина»
– Вы помните, товарищи, как наши враги во всем мире были окрылены смертью нашего великого вождя и учителя, – говорил Маленков. – Мы обязаны были сплотить свои ряды, действовать энергично и решительно, обеспечить единство и дружно вести страну вперед по пути, определенному гением человечества Лениным и его великим продолжателем Сталиным (Известия ЦК КПСС. 1991. № 1. С. 140–141).
Пленум был закрытый, на стенограмме пометка: «Снятие копий воспрещается», в зале не было ни фоторепортеров, ни кинооператоров, увидеть докладчика нельзя, но мне почему– то кажется, что он еще не снял «сталинку».
То и дело с трибуны звучали привычные формулы: наш ленинско-сталинский ЦК, «идеи наших великих вождей Ленина – Сталина господствуют на нашем пленуме». А вот товарищ Андреев Андрей Андреевич, член ЦК КПСС, член Верховного Совета СССР, разоблачил «необычный тип тех врагов, с которыми раньше боролась наша партия», и предложил: «…из этого мерзавца надо вытянуть все жилы, чтобы была ясная картина его отношений с заграницей, кому и как он служил, тогда нам откроется очень многое». А затем Андреев сказал, что Берия «начал дискредитировать имя товарища Сталина, наводить тень на величайшего человека после Ленина». Андреев не сомневался, что именно под его «давлением вскоре после смерти товарища Сталина вдруг исчезает в печати упоминание о товарище Сталине».
В стенограмме в этом месте пометка: «Голоса из зала. Правильно».
Андреев бросает камешек в прессу, но направлен он явно по другому адресу: «Это же позор для работников печати. Раньше чересчур усердствовали, и там, где нужно и не нужно, вставляли имя т. Сталина, а потом вдруг исчезло имя т. Сталина. Что это такое?
Появился откуда-то вопрос о культе личности. Почему встал этот вопрос? Ведь он решен давным-давно в марксистской литературе, он решен в жизни, миллионы людей знают, какое значение имеет гениальная личность, стоящая во главе движения, знают, какое значение имели и имеют Ленин и Сталин, а тут откуда-то появился вопрос о культе личности. Это проделки Берия».
Не выдержал Климент Ефремович Ворошилов, первый красный офицер, член Президиума ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, подал свой голос: правильно.
– Он хотел похоронить имя товарища Сталина и не только имя товарища Сталина, но это было направлено и против преемника товарища Сталина.
И снова зал отозвался: правильно.
«Маленков.Все мы преемники, одного преемника у товарища Сталина – нет.
Андреев.Вы являетесь Председателем Совета Министров, пост который занимал т. Сталин».
И опять отозвался зал: правильно. Да еще бурными аплодисментами разразился.
Ох, просчитался товарищ Андреев, ничего не понял в новом раскладе. Ну, ничего, Никита Сергеевич нашел возможность ему напомнить. И не только ему.
«Тевосян. Яхотел бы обратить внимание, о чем указывал и товарищ Андреев, что после смерти товарища Сталина стало постепенно исчезать имя товарища Сталина из печати. С болью в душе приходилось читать высказывания товарища Сталина без ссылки на автора.
Вчера (это было 4 июля. – В. А.)из выступления товарища Кагановича мы узнали, что этот мерзавец Берия возражал против того, чтобы, говоря об учении, которым руководствуется наша партия, наряду с именами Маркса, Энгельса, Ленина называть имя товарища Сталина. Вот до чего дошел этот мерзавец. Имя нашего учителя товарища Сталина навсегда останется в сердцах членов нашей партии и всего народа и никаким Берия не удастся вырвать его из нашего сердца».
И опять – аплодисменты, выкрики: правильно.
Вплетался ли в эти выкрики голос Алексея Николаевича Косыгина? Уверен: нет! И не только потому, что он осторожничал, выжидал. Он вообще не из породы крикунов. И о своем отношении к Сталину, который в шутку называл его «Косыга», говорил только с самыми близкими людьми. Официальные речи не в счет, там положены «бантики», там приняты правила, по которым надо играть. Но остались неофициальные свидетельства, записанные в разные годы.
«Иосиф Виссарионович приглашает Алексея Николаевича с семьей…»
…Август 1947 года. Впервые за последние семь лет у Косыгина отпуск. Он отдыхает с семьей на государственной даче в Мухалатке, неподалеку от Ялты.
«В это время в Крыму отдыхал И. В. Сталин, – рассказывает Л. А. Гвишиани-Косыгина. – В один из августовских дней к Алексею Николаевичу приехал небольшой полноватый человек в военной форме – генерал Власик, начальник личной охраны Сталина, и сказал, что Иосиф Виссарионович приглашает Алексея Николаевича с семьей к себе в Ливадийский дворец.
Папа, конечно, принял приглашение, и мы поехали все вместе – с нами были родственники, два мальчика лет по 10–11, а мне тогда было 18. В Ливадию приехали уже вечером, часов в 6–7. Нас поместили в две большие смежные комнаты, идеально убранные, но пустоватые, с кроватями, на которых были красивые, легкие покрывала.
Через некоторое время маму и папу пригласили поужинать к И. В. Сталину, а мы остались в комнате, из которой открывался прекрасный вид на море. Про нас, видимо, забыли, и мы втроем коротали несколько часов. Наступил вечер, а потом и ранний рассвет, я увидела на рейде, на фоне восходящего солнца, военную эскадру, к которой шел катер. Тут-то я поняла, что мы остались во дворце без родителей».
Людмилу и мальчиков вскоре отправили обратно в Муха– латку, а Косыгины действительно ушли с эскадрой и вернулись на дачу через день или два. У Клавдии Андреевны это была первая и, скорее всего, единственная встреча со Сталиным. Надо отдать ей должное: держалась она с большим достоинством и сумела заинтересовать Иосифа Виссарионовича. По горячим следам свидетельства отца и матери об этой встрече записала дочь, а позже – академик Ойзерман. Перечитывая их воспоминания, можно подробно реконструировать свидание в Ливадии.
У Сталина и его гостей было общее прошлое: Сибирь. Хозяин вспоминал о своем побеге из Туруханской ссылки, а Клавдия Андреевна и Алексей Николаевич – о своей жизни в Сибири, в Новосибирске и Киренске в 1924–1930 годах. Сталин тоже побывал в Сибири в самом конце двадцатых, с продразверсткой; вполне возможно, вспомнил Новосибирск, Омск, Барнаул…
Вообще, беседа легко переходила от одной темы к другой и Сталин спросил Клавдию Андреевну, как она представляет себе роль жены, ее место в семье, ее, так сказать, предназначение.
«Клавдия Андреевна ответила, что у нее, конечно, есть собственное представление на этот счет, но она была бы весьма признательна своему собеседнику, если бы он первым высказался по этому вопросу. Сталину, по-видимому, понравилось это замечание, и он сказал, что жена – это товарищ, подруга, любовница, хозяйка дома, воспитательница детей. На это Клавдия Андреевна заметила, что она, конечно, ни в какой мере не отрицает важности всех этих характеристик. И все же да будет позволено ей не согласиться с тем, чтополагать главным в характеристике жены. Ведь главное состоит в том, что жена – это судьба».
После этих слов Сталин поднял тост за женщину, которая определила судьбу Алексея Николаевича Косыгина. Потом разговор продолжался об их жизни в Ленинграде. Клавдия Андреевна рассказывала, как в начале 30-х годов, когда Алексей Николаевич учился в Текстильном институте, она работала в Кронштадте, в плавмастерских.
– Значит, вы, Клавдия Андреевна, морячка? – спросил Сталин. И когда адмирал Октябрьский, командующий Черноморским флотом, доложил, что крейсер «Молотов» к отплытию готов, снова обратился к ней:
– Ну, что, морячка, может быть, пойдете с нами в эскадре?
Клавдия Андреевна сдержанно возразила: моряки, мол, считают недопустимым присутствие женщины на военном корабле.
«Товарищ Октябрьский, – обратился к адмиралу Сталин, – может быть, команда сделает исключение, ведь Клавдия Андреевна – морячка!» Шутка была хорошо воспринята, и мама по трапу направилась на катер, а потом перешла на крейсер «Молотов» и всю дорогу провела в кают– компании.
Во время плавания Сталин и адмирал Октябрьский беседовали с командирами, командой крейсера. Папа рассказывал, что тогда ему было поручено улучшить экипировку моряков – форму, обувь, а также позаботиться о снабжении флота продовольствием.
Вскоре в газетах появились фотографии: Сталин, адмирал Октябрьский и Косыгин с моряками Военно-Морского флота. По этому поводу мама, натура очень эмоциональная и умевшая чувствовать обстановку, сказала при мне отцу: «Знаешь, Алеша, они тебе этого приближения не простят». И как в воду смотрела! В последующие годы Алексею Николаевичу Косыгину не раз приходилось встречаться с недоброжелательным отношением к себе некоторых членов Политбюро».
«…унекоторых руководителей партии и государства, – вспоминал Д. Гвишиани, – были причины для недовольства Косыгиным. Одних настораживало то, что его на какой– то короткий период приблизил к себе Сталин. Другим не нравились некоторые поручения, которые Косыгин получал лично от Сталина, например, такая неблагодарная миссия – разобраться с привилегиями членов Политбюро – не могла не вызвать их раздражения. Как рассказывал нам Алексей Николаевич, началось с того, что однажды на заседании Политбюро Сталин учинил разнос.
– Мне прислали списки с продуктовых баз, – говорил он, – в которых указано, сколько продуктов расходуется в семьях Молотова, Кагановича, Микояна и других. Это просто возмутительно – вместе с ними кормится и охрана, и вся обслуга. Причем все воруют и никто не считает. Поручим Косыгину разобраться с этим, пусть внесет предложения, чтобы ввести жесткий лимит.
В те времена члены Политбюро, имея сравнительно невысокую зарплату, получали практически бесплатно любое количество продуктов, но после вмешательства Сталина, поручившего Косыгину навести порядок, были установлены ограничения. Недовольство же влиятельных членов Политбюро пало на голову Алексея Николаевича».
Членов ПБ вождь приструнил сам. А как быть с остальной влиятельной публикой? Своею собственной рукой Сталин написал постановление «О суде чести при Совете Министров СССР и ЦК ВКП(б)» – принято 7 апреля 1948 г. (РГАНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 19. Л. 36–37).Создавался Суд чести «в интересах укрепления партийной и государственной дисциплины, борьбы с проявлениями разложения и антигосударственными поступками, роняющими честь и достоинство руководящих советских и партийных работников». Контингент Суда чести – министры союзных министерств и их заместители, председатели комитетов при Совете Министров СССР и их заместители, начальники главных управлений при Совете Министров СССР и их заместители, секретари ЦК компартий союзных республик, председатели Советов Министров союзных республик и министры союзных республик. Председателя и четырех членов Суда чести назначало Политбюро ЦК ВКП(б), оно направляло дело в этот суд.
В документе подробно описывается процедура рассмотрения дел и мера наказания: объявить общественное порицание обвиняемому; объявить общественный выговор; просить КПК об исключении из партии или переводе в кандидаты в члены ВКП(б); просить Совет Министров Союза ССР и ЦК ВКП (б) о снижении в должности или снятии с работы в связи с несоответствием занимаемой должности; передать дело следственным органам для направления в суд в уголовном порядке. На одном из заседаний Суда чести рассматривали дело министра пищевой промышленности Зотова и зам. министра Попова. По просьбе Косыгина там побывал Горчаков. В докладной записке он написал, что их допрашивали четыре с половиной часа, причем Зотов часто сбивался, отвечал невпопад, что вызывало смех в зале. А зал был переполнен. Как писал Горчаков, на суде присутствовали все министры и руководители центральных учреждений. «Кроме того, присутствовало 600 человек рабочих пищевой промышленности союзных республик и 200 человек рабочих пищевой промышленности г. Москвы». Зотову, рассудил Горчаков, после такого спектакля не сдобровать. И точно – в августе 1949 года его отправили в отставку. Вернулся он к своим министерским обязанностям лишь в правительстве Косыгина.
Суды чести еще продолжались, но вся эта затея уже казалась вождю ненужной. Стоит ли чикаться с порицаниями и выговорами, если сразу можно «в уголовном порядке»? Именно по такой схеме разворачивалось «ленинградское дело».
Ленинградское дело
Н. Вознесенского, первого зама Сталина в правительстве, председателя Госплана, члена Политбюро, А. Кузнецова, секретаря ЦК ВКП(б), М. Родионова, Председателя Совмина РСФСР и других (всего судили около 200 человек) обвинили в попытке антиправительственного заговора и измене Родине. Седьмого марта 1949 года ЦК ВКП(б) утвердил постановление Политбюро ЦК ВКП(б): «В связи с постановлением Совета Министров СССР от 5 марта с.г. о Госплане СССР – вывести т. Вознесенского Н. А. из состава Политбюро ЦК ВКП (б)». Следующий пункт в этом же протоколе «О т.т. Кузнецове А. А. и Родионове М. И.: «Освободить т.т. Кузнецова А. А и Родионова М. И. от обязанностей членов Оргбюро ЦК ВКП(б)».
Кто бы мог подумать о таком повороте судьбы! Всего два года назад ЦК принял предложение самого Сталина: «ввести в состав членов Политбюро ЦК ВКП(б) тов. Вознесенского Н. А.». Всего год назад Кузнецов докладывал пленуму о наркоме авиапромышленности Шахурине: «Также вносится предложение вывести из состава членов ЦК Шахурина. Он осужден, сидит в тюрьме». В протоколе пометка: «Голоса с мест. Правильно». Тогда же одним махом расправились с маршалом Жуковым. Докладывал Жданов: «Он, по моему мнению, рано попал в Центральный Комитет партии». Больше ничего по существу не сказал товарищ Жданов, но проголосовали за его предложение единогласно. Досталось Ивану Михайловичу Майскому, академику, известному дипломату, послу СССР в Великобритании в 1932–1943 годах, затем заместителю наркома иностранных дел, участнику Крымской и Берлинской международных конференций. «Малопартийный человек», – молвил о нем Жданов.
Постановление о Вознесенском, принятое опросом членов ЦК ВКП(б) от 7 марта 1949 года, первоначально должно было быть подписано Сталиным. Он перечеркнул слова «Секретарь ЦК» и написал: ЦК ВКП(б) (РГАНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 20. Л. 227).Документ разослали членам и кандидатам в члены Политбюро: т.т. Андрееву, Берия, Булганину, Ворошилову, Кагановичу, Косыгину, Маленкову, Микояну, Молотову, Сталину, Хрущеву, Швернику. Отдельной строкой – тов. Вознесенскому.
За месяц с небольшим до этого Маленков и Берия предлагали Сталину создать Дальневосточное и Среднеазиатское Бюро ЦК ВКП(б) и направить туда соответственно Кузнецова и Вознесенского. 28 января 1949 года Политбюро приняло решение: «В связи с утверждением тов. Кузнецова А. А. секретарем Дальневосточного Бюро ЦК ВКП(б) освободить его от обязанностей секретаря ЦК ВКП(б)». На этом затея с бюро и завершилась. Стражи законности из Комиссии партийного контроля доложили, что «в Госплане СССР на протяжении ряда лет в период работы Вознесенского Н. А. председателем Госплана пропало большое количество секретных документов, составляющих по своему содержанию государственную тайну». Далее в записке говорилось о кадрах:








