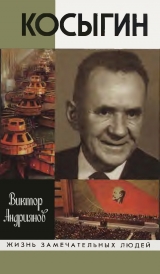
Текст книги "Косыгин"
Автор книги: Виктор Андриянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Словом, он всегда был прекрасно подготовлен к заседанию правительства. Министры знали это и боялись его вопросов, не смели врать, потому что он, основательно вникнув в дело, мог быстро вывести их на чистую воду. Обсуждение на правительстве было предметным и сущностным. Причем это не значило, что он приходил на обсуждение вопроса с загодя принятым решением. Иной раз получалось так, что на правительстве принимались другие решения, а не те, что были подготовлены. Или председатель правительства откладывал рассмотрение вопроса. «Давайте еще дополнительно послушаем», – обычно говорил Косыгин.
Встречи с Алексеем Николаевичем очень много дали мне как управленцу. Это хорошая школа: как рассматривать вопросы и формировать правильное решение, как его обосновать, аргументировать, как проводить обсуждение, чтобы не допустить ошибки. Это большая школа, особенно для производственника, у которого многое зависит от быстроты реакции.
Меня часто обвиняли в том, что я принимаю скоропалительные решения. Никогда я такие решения не принимал, предварительно не проработав варианты. И Косыгин не навязывал свое мнение. Он выслушивал всех, а потом подводил итог, имея в виду, что всегда кто-то из выступающих выскажет то, о чем ты думаешь. Он говорил: вот это, на мой взгляд, правильное предложение, давайте возьмем за основу предложение товарища Иванова. Это он часто делал. А его любимое выражение знаете?
– Пока нет.
– «Неужели у нас сообразиловки не хватит решить эту проблему?»
И вот еще что обращало внимание в стиле работы Косыгина. Многие руководители, секретари, члены Политбюро часто оперировали какими-то общеполитическими штампами, общими определениями. У Косыгина этого не было – разве когда это вызывалось естественным ходом мысли или в официальном выступлении. А так все по делу. Почти всегда в сухом остатке.
…Я благодарен судьбе за то, что она одарила меня встречами, совместной работой с такими выдающимися руководителями народного хозяйства, настоящими талантами, как Алексей Николаевич Косыгин, Алексей Кириллович Кортунов, Владимир Иванович Долгих, Вениамин Эммануилович Дымшиц…
К вопросу о яйцах
Все, кто работал с Косыгиным, кому довелось готовить материалы к заседанию Совмина, президиума, непременно вспоминают знаменитый «предбанник». Так окрестили не какое-то помещение, а процедуру, которая предшествовала самому заседанию.
«Алексей Николаевич приглашал в свой кабинет всех специалистов, которые принимали участие в подготовке того или иного вопроса, – вспоминает Николай Андреевич Дергачев, четверть века проработавший в группе финансов, кредита, денежного обращения и цен Управления делами Совета Министров. – Мы рассаживались по обе стороны длинного стола. Косыгин предлагал высказать свои замечания или предложения, если таковые есть, а сам начинал читать проект постановления или распоряжения Совмина СССР.
Постоянным посетителем «предбанника» стал – по должности – и новый помощник Председателя Совета Министров СССР Игорь Игнатьевич Простяков. Ему запомнилось, как точно премьер отличал знание от полузнания, от желания пустить пыль в глаза.
– Вы это точно знаете? – переспрашивал он.
– Я должен уточнить, – случалось, отвечали ему, и это воспринималось как должное.
– Пожалуйста, уточните и доложите.
Это была повседневная работа государственного деятеля. Косыгин проигрывал все варианты. Он не любил, не принимал одношаговых решений, они обычно ведут в тупик».
Кто-то может сказать о «предбаннике», что это – перестраховка, ведь решение принимает Совет Министров… Нет, это не перестраховка, но стиль, продиктованный чувствами долга и высочайшей ответственности. Косыгин неоднократно напоминал, что если ошибется директор предприятия, его ошибка может обойтись государству в тысячи рублей, ошибка министра в миллионы, пишет Н. Байбаков. Оплошность же председателя Госплана или Совмина будет стоить миллиарды.
И Дергачев, и Простяков, и многие их коллеги подтверждают наблюдение Баталина: решения, которые принимались на заседаниях Президиума Совмина СССР, далеко не всегда совпадали с теми, которые вносились на рассмотрение.
«Мы не были, как сейчас принято говорить, чиновниками, слепыми исполнителями», – замечает Н. Дергачев. Точно так же могут сказать многие другие люди, которым посчастливилось пройти школу Косыгина. Аппарат, в адрес которого по ходу перестройки и после выплеснуто столько грязи, в Совмине СССР был блестящей командой профессионалов. Уровень в ней задавал премьер.
«К докладу на заседании, которое ведет Алексей Николаевич, я готовлюсь Как к защите диссертации», – признался как-то министр строительства предприятий тяжелой индустрии Николай Васильевич Голдин, один из самых известных строителей – за его плечами были крупнейшие металлургические заводы, в том числе Бхилаи в Индии, КамАЗ и другие гиганты. Примерно так же вспоминают о своих докладах у Косыгина Казанец, Братченко, Козловский.
На одном из заседаний правительства среди множества других вопросов рассматривалось положение в птицеводстве: бой яиц возрос до 30 процентов.
«Мой вопрос пятый или шестой, – рассказывает Евгений Александрович Козловский. – Я сижу в третьем ряду, почти перед глазами Косыгина, читаю свои бумаги, краем уха ловлю: Краснодарская птицефабрика, бой… Он заметил, что я не слушаю, и вдруг говорит: «А Козловский здесь? Что ты думаешь по этому вопросу?» Я рот раскрыл и не пойму, какое я отношение имею к яйцам. Но из положения надо выходить. Говорю: «Алексей Николаевич, а с чего вы решили, что я самый крупный специалист по яйцам?» Тут, конечно, все грохнули, а я сообразил: а-а, известкового материала не хватает. И говорю: «Известкового материала не хватает?» – «Ну, сообразил, наконец. Можешь ответить?» – «Могу ответить, когда переговорю с Кубанью». Связался со своими в Краснодаре. Действительно, не хватает кальция. Есть месторождения? Есть. Доложил Косыгину: месторождение есть, буровые станки направлены. Известковый материал на птицефабриках будет.
«Ну, спасибо крупному специалисту по яйцам».
Смотреть вперед
Да, с яйцами разобрались быстро. Только в Совмине еще долго улыбались, встречая Козловского. Если бы таким простым был каждый бой…
Завершался 1973 год. Свой поздний отпуск Алексей Николаевич решил провести в Пицунде. Ему полюбился этот уникальный уголок Абхазии, где горы сливаются с морем, а приторный запах водорослей растворяется в легком дыхании знаменитых пицундских сосен, пришедших из немыслимой дали тысячелетий. Волны глухо переговаривались с соснами. Под их вечный диалог хорошо думалось. Вечером Алексей Николаевич открыл блокнот, захваченный из Москвы.
«Пицунда. 17/XII—1973.
Рассмотреть перспективы энергетики. Нефть – газ. Взаимозаменяемые цены. Эффективность их реализации на внешнем рынке. Сравнить:
1000 м 3газа
1 тонна нефти
цена
Взять расходы на энергетику и химию газа – нефти. Сравнить к-во продукции и тепла из 1 тонны нефти и 1 тонны газа. Газ себе. Нефть на экспорт. Сделать расчет.
2) Вопросы составления пятилетнего плана – районы, республики, эффективность вложения средств в отдаленные районы.
3) Приступить министрам к расчетам плана на 1975 г. с тем, чтобы в марте-апреле можно было обменяться мнениями.
4) Создать комиссию по вопросам топливно-энергетического баланса. В широком плане».
Следующая запись через неделю.
«25/XII.
Вопросы реорганизации:
1) Объединение как основная форма вместо предприятия.
Дать поручение об объединении. (Расширить права.)
2) Вопросы министерств, форма объединения вместо главков. (Расширить права.)
3) Вопросы планирования.
а) Госплан и его задачи.
б) Ответственность Госплана за правильные пропорции и сбалансированность. Укрепление роли сводного отдела.
в) Вопросы строительства и проектирования. Установить, что следует исправить в принятых решениях по строительству».
Косыгин во всех своих блокнотах обычно писал на одной стороне листка и здесь за третьим пунктом, как положено, шел четвертый. Но, видно, позже у него появилось еще одно соображение и он сделал пометку на страничке слева:
«За. Как увязать предложения с мест с общим планом. План СНИЗУ (выделено А. Н. Косыгиным. – В. А.).
4) Вопросы потерь и взаимозаменяемости.
5) Переработка сырья… Наши возможности на ближайшую пятилетку.
6) Вопросы тяжелых работ и их механизация. (Пример электропогрузчики.)
7) Вопросы качества.В широком понятии. Пример: вес станков и штуки.
Вопросы ширпотреба.
8) Роль и ответствен(ность) министра в сбыте ширпотреба.
9) Вопросы экспорта.
10) Вопросы, связан(ные) со строительством предприятий по сделкам на условиях компенсации вырабатываемой продукцией.
11) Предложения с мест».
Даже по этим беглым записям можно представить, что занимало на исходе 1973 года, решающего года пятилетки по терминологии тех лет, Алексея Николаевича Косыгина. Кстати, в Пицунду он прилетел сразу после пленума ЦК КПСС и сессии Верховного Совета. На высоких собраниях обсуждались проекты Государственного плана развития народного хозяйства СССР на 1974 год и госбюджета. Как водится, все в основном одобрили… Не буду строить догадки, почему в записной книжке премьера нет по горячим следам никаких пометок на этот счет, возможно, они в других бумагах. Или он уже смотрел дальше.
Под занавес года пришла добрая весточка из Западной Сибири. Тюменские нефтяники впервые вышли на суточную добычу в 285 тысяч тонн. Западная Сибирь стала самым крупным нефтяным районом страны. На следующий, 1974 год была обозначена планка – 115 миллионов тонн. Может быть, эти цифры дали толчок размышлениям Косыгина о нефти и газе, которыми началась его отпускная записная книжка?
Рассказ об одном годе премьера был бы неполон без упоминания о том, что, занимаясь повседневными делами в правительстве, он деятельно исполнял свой урок(одно из его любимых слов) в Политбюро. Не отбывал повинность, не подлаживался под чье-то мнение, а отстаивал собственную позицию – последовательно и достойно. Замечательный пример привел в одной из наших бесед Анатолий Иванович Лукьянов, ныне депутат Госдумы.
– Косыгин постоянно чувствовал сопротивление, скажем так, днепропетровской группировки. Я видел эти столкновения на Политбюро. Чаще всего они возникали в отношениях с Подгорным, Кириленко, гораздо реже – с Сусловым. А Брежнев как бы отходил в сторонку. Особенно активничал Кириленко, который претендовал на то, что он знает хорошо производство, но эрудит это был своеобразный. Как-то, выступая против того, что говорил Косыгин, Кириленко сказал буквально так: «Вы же хотите вогнать нашу живую советскую действительность, хозяйство наше в проскурово ложе».
Косыгин помолчал, а потом говорит: «Бедный Прокруст, он не знал своего точного имени и основ планового ведения хозяйства». И пошел докладывать дальше. Так же спокойно и сдержанно.
Можно полагать, это не единственный его отлуп грубому невежеству, которое Чехов в одном из писем Суворину назвал матерью всех российских зол.
На одном из заседаний Политбюро (20 марта 1973 г.) рассматривался болезненно острый для того времени вопрос о еврейской эмиграции. Готовился визит Брежнева в США, а вся американская пресса полоскала советские власти из-за того, что с эмигрантов брали денежки за учебу. Вот рабочая запись хода обсуждения в Политбюро. Дискуссия идет не столько о законе, сколько о том, как обойти его и повлиять на общественное мнение в Штатах.
«Брежнев.Закон не надо отменять. Мы условились не менять закона. Но на данном этапе, когда сионисты разожгли кампанию вокруг поправки Джексона и вокруг законопроекта о предоставлении нам режима, надо отпускать. Дело не в режиме, им надо вообще поссорить Советский Союз с Америкой. Есть группа республиканцев, которая поставила целью сорвать улучшение отношений Советского Союза с США. Никсон – за, администрация – за, а многие сенаторы против только из-за того, что у нас с евреев взимают плату (за обучение в вузах. – В. А.).
Косыгин.А кого мы не хотим выпускать, мы не должны выпускать.
Андропов.С понедельника едут не 600 человек, а полторы тысячи.
Брежнев.Отпусти 500 второстепенных лиц, а не академиков. Пусть они говорят, что с них ничего не взяли. Возьмите пару инженеров с высшим образованием, не имеющих никакого отношения к секретам, например, из пищевой промышленности – пусть едут. Но не с оборонной промышленности. Пускай и инженеры едут бесплатно. Это временный тактический маневр.
Щелоков.Леонид Ильич, я еще хотел сказать, что может быть в связи с тем, что опубликованы данные о желающих возвратиться, использовать их здесь для пропаганды по телевидению, в печати и т. д.
Андропов.Было такое поручение, вчера мы получили телеграмму. 10 семей мы возвращаем.
Косыгин.Наш народ очень плохо реагирует на возвращение. Говорят, раз уехали, то их обратно не принимать» (Вестник архива Президента Российской Федерации. 1996. № 1. С. 157).
Дискуссия продолжается. И эмиграция продолжается. Причем не только еврейская.
Одним из самых крупных событий культурной жизни Ленинграда в 1973 году стала выставка художника Василия Коноваленко в Русском музее. Люди с ночи занимали очередь, чтобы увидеть его скульптурки из самоцветов. За рубежом Василия Васильевича часто называют «вторым Фаберже». А я бы сказал, что он первый в своем искусстве. Он не повторял знаменитого мастера, а, как каждый большой талант, шел своей дорогой. На рубеже 40– 50-х годов Коноваленко становится известным как театральный художник. Из Донецка его приглашают в Ленинград. В Кировском (Мариинском) театре он работает с Григоровичем и Вирсаладзе. А в 1957 году оставляет театр ради камня.
Выставку в Русском музее помог организовать Сергей Михалков. Как рассказывала в одном из интервью Анна Коноваленко, жена художника, Сергей Владимирович, «которому очень нравились Васины работы, отвел нас в Совмин, где было принято решение организовать в Ленинграде персональную выставку работ Коноваленко». Затем ее перевезли в Москву, где по распоряжению Косыгина собирались создать Школу камнерезного искусства.
А тем временем в Ленинграде на художника завели уголовное дело. Его обвиняли в «занятии запрещенным кустарным промыслом с использованием посторонней рабочей силы и с целью дальнейшей продажи за рубеж» – по этой статье светило от четырех до восьми лет тюрьмы. Дело попало к Генеральному прокурору СССР Руденко. И было закрыто «за полным отсутствием состава преступления». «Более карикатурного дела, – добавил Руденко, – не помню со времен сталинских чисток».
Коноваленко стал главным художником Министерства геологии, продолжил заниматься своими камнями, но творить ему становилось все трудней. Худсовет Министерства культуры пришел к такому выводу: «Идейное содержание работ художника Коноваленко искажает образ советского и русского человека. А потому не рекомендуется их рассмотрение в Советском Союзе и за рубежом». Так фельдфебели от искусства вытолкнули из страны еще одного выдающегося творца. В 1981 году Василий Васильевич Коноваленко эмигрировал в Америку.
И еще один документ из того же 1973 года – письмо Арама Хачатуряна.
«Дорогой Алексей Николаевич!
Ваше письмо растрогало меня до слез. Не могу найти слов, чтобы в полной мере выразить Вам свою благодарность. Тепло и внимание, которое неизменно исходит от Вас, всегда грело и радовало меня.
Сейчас Ваше письмо самое лучшее лекарство для меня, ибо я еще нахожусь в загородной больнице.
Конечно, я хотел бы взглянуть на Вас и лично поблагодарить.
Как Вы себя чувствуете, дорогой Алексей Николаевич, как Ваше здоровье?
Вся наша семья и я с Ниной Владимировной бесконечно благодарны Вам за Ваше участие в моем лечении, за Ваш умный совет лечиться в загородной больнице.
Сейчас я чувствую себя хорошо. В конце месяца, надеюсь, меня отпустят домой, где я, наконец, начну работать.
Примите наш привет, дорогой Алексей Николаевич, нашу большую благодарность за Вашу доброту и внимание.
С глубоким уважениемАрам Хачатурян12 июня 1973 г.».
ПОДПИСЬ ПРЕМЬЕРА
Эту подпись я видел под самыми разными бумагами. Сжатую до двух букв – АК – под текущими поручениями, резолюциями. На деловой почте, записках-сопроводиловках встречалось: А. Кос – и завиток. И наконец, под правительственным решением, документом государственного масштаба – тщательно и четко: А. Косыгин. На глазах Николая Константиновича Байбакова не раз появлялась именно такая полная подпись.
Из нескольких примеров, которые вспомнились Байбакову, когда он говорил, как осмотрительно Косыгин принимал крупные решения, выбираю один. Это нашумевшая история с выпуском кормового белка на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши Ленинградской области. Во второй половине 80-х годов, когда в печати стало посвободнее, страна услышала о массовых протестах горожан. Люди, защищая свое право на жизнь, требовали остановить завод, который травит их. В конце концов производство кормового белка в Киришах и на других предприятиях было остановлено. Жаль, что Алексей Николаевич не мог уже узнать об этом, убедиться в своей правоте.
«В начале 70-х годов, – вспоминал Н. К. Байбаков, – я получил указание ЦК КПСС подготовить проект совместного постановления ЦК и Совмина о широкой программе производства искусственного белка из парафинов нефти (БВК) для животноводства и птицеводства. Как известно, проблема обеспечения кормами, обогащенными искусственными белками, еще окончательно не решена. Несбалансированность кормов по белку и аминокислотам приводит к тому, что ежегодно перерасходуются миллионы тонн зерна, а время откорма возрастает на 30–40 процентов. А ведь увеличение продуктов питания, содержащих полноценный белок, должно базироваться на развитом птицеводстве и скотоводстве.
Проблема БВК была известна, так как опытно-промышленное производство его было организовано еще в 1965 г. Кормовой белок из парафинов нефти прошел медико-биологические испытания как кормовая добавка для домашних животных, птиц, рыб, пушных зверей, и в результате было признано целесообразным наладить его выпуск. Министерства, которые должны были создать мощности по производству БВК, представили свои предложения. Академия наук и Минздрав СССР доложили о безвредности его использования. На основании этих данных Госплан подготовил проект постановления.
Все члены Политбюро ЦК КПСС, кроме Алексея Николаевича, высказались за проект. Косыгин счел его преждевременным. По его мнению, БВК из нефтяных парафинов все-таки не прошел всестороннего испытания, досконально не установлена его безвредность и для подведения итогов этой работы потребуется не один год. Несмотря на выступления президента Академии наук СССР А. П. Александрова и министра здравоохранения Б. В. Петровского, которые утверждали, что БВК уже апробирован на нескольких поколениях животных и птиц и при этом не выявлено никаких отрицательных последствий, Алексей Николаевич все же остался при своем мнении.
Председатель Совета Министров против, Политбюро – за. Решение принято. Началось строительство цехов для выпуска кормового белка. В мясных рядах, несмотря на обещания скорого изобилия, граждане больших перемен не увидели. А вот в ветерке, который тянул с заводов, быстро почувствовали что-то нехорошее. Посыпались жалобы на плохое самочувствие, бронхиальную астму, аллергию. Болели взрослые и – чаще – дети. Прав оказался Косыгин в своих опасениях».
На «Уралмаш» можно положиться
Другой пример – когда Алексей Николаевич всей силой своего авторитета поддержал металлургов и машиностроителей, которые первыми в мире создали и освоили установки непрерывной разливки стали (УНРС). Эти события на памяти Николая Ивановича Рыжкова и Серафима Васильевича Колпакова, инженеров Божьей милостью, лауреатов Государственной премии за те самые установки, на которых сегодня разливает сталь вся мировая металлургия.
Серафим Колпаков вскоре после Великой Отечественной войны пошел следом за старшим братом в Липецкий горно-металлургический техникум – стипендия была подспорьем в большой семье, оставшейся без отца. Потом в его биографии был старый уральский завод в Аше, городке, спеленутом горами, предложение пойти помощником мастера.
– Что я, за ним буду тенью ходить? Он мне своих знаний все равно не отдаст. Лучше я на всех участках поработаю бригадиром.
Эта привычка – до всего дойти своей головой, во всем разобраться самому сопровождает его и помогает на всех житейских этапах. В конвертерном цехе Новолипецкого комбината инженер Колпаков начал с мастера, хотя по стажу работы и записям в трудовой книжке другой на его месте претендовал бы на ступеньку повыше. Став директором крупного завода, не постеснялся лично разобраться в документах, которые сопровождали железнодорожные вагоны, пройти по всей транспортной цепочке, чуть ли не по каждому километру железных дорог предприятия. Его знания – убежденность эксперта, кругозор профессионала, а не дилетанта, которых столько приклеилось к нашей промышленности. Потому-то так внимательно прислушиваются к замечаниям доктора технических наук Колпакова в Госдуме, Совете Федерации. По его рекомендации законопроект о реформах железнодорожного транспорта был отправлен на доработку.
– У нас есть прекрасные примеры из жизни нашего общества, особенно при Алексее Николаевиче Косыгине, – говорил Колпаков на парламентских слушаниях в Госдуме. – Серьезные государственные проблемы тогда сначала экспериментально «обкатывались» в отдельных регионах, и только после этого принималось решение.
Разумеется, ссылка на Председателя Совета Министров СССР не была случайной. Колпакову посчастливилось познакомиться с Косыгиным еще в бытность заместителем начальника кислородно-конвертерного комплекса. Алексей Николаевич по своей давней привычке присматривался к подрастающим индустриальным кадрам и оценил в Колпакове незаурядный инженерный талант, умение организовать людей на большое дело.
Серафим Васильевич пишет о своих встречах с Косыгиным воспоминания, несколько страниц с очень интересными эпизодами передал мне. Конечно, самое заметное место в них занимают события, связанные с освоением установок непрерывной разливки стали – нашего, отечественного изобретения. Опытную установку построили на «Уралмаше», а первый в мире промышленный комплекс – в Липецке. Продавали лицензии за рубеж, да не в Африку, а в Японию. Косыгин, не доверяясь чужим впечатлениям и справкам, непосредственно интересовался этой тематикой, не раз приезжал в Липецк.
В первый приезд Алексея Николаевича перестраховщики, желая сделать, как лучше, оконфузились. Директор, ожидая премьера, приказал остановить проведение серийных плавок, чтобы показать гостю весь цикл. Но гость задержался на два часа. За это время чугун потерял температуру, конвертер остыл и, когда премьер приехал, то увидел… аварийную разливку. За попытку устроить показуху Косыгин резко отчитал директора завода. Вскоре ему пришлось менять место работы.
…Конвертерный цех и установку непрерывной разливки собирались строить и в Донбассе, на заводе «Азовсталь». В ту пору такие масштабные решения рассматривались на Политбюро ЦК КПСС. Именно сюда и обратился с возражениями директор «Азовстали», человек в отрасли весьма авторитетный. Наши установки, мол, негодные, следует купить западные. Косыгин позвонил Колпакову:
– Ваше мнение, Серафим Васильевич?
– Я очень уважаю товарища Лепорского, – ответил Колпаков премьеру, – но он здесь ни разу не был и не видел, как работают наши установки. На каких основаниях он делает вывод, не могу сказать.
– Действительно ни разу не был? – переспросил Косыгин. – Вы мне интересную мысль подали.
Косыгин и Колпаков беседовали утром. А вечером того же дня в Липецк пожаловал гость – директор «Азовстали» Лепорский. Установка ему очень понравилась. В общем, на «Азовстали» начали строить комплекс с нашим оборудованием, а купить на Западе по совету Колпакова решили современный прокатный стан – в этом деле наша металлургия действительно отставала. Как оказалось, в систему управления западными станами были заложены элементы от ракет «Першинг», а в нашем отечестве двойные технологии хранились под двойными замками.
Но еще раньше машиностроителям и металлургам пришлось мучительно долго убеждать оппонентов из ЦК КПСС, Минчермета, да и правительства, где куратором металлургии значился Н. Тихонов. Довод был один – «Уралмаш» не имеет опыта изготовления такой техники, а Запад уже отработал свою конструкцию.
– Пока у нас шли многочисленные дискуссии, – вспоминает Н. И. Рыжков, – на Западе уже были созданы и работали подобные машины. Произошло то, что часто бывало в нашей истории: наши идеи вернулись к нам же из-за рубежа. Время шло, уже возводился цех, а какие машины там будут установлены – не ясно. Постепенно вопрос дошел до правительства страны, а затем и до его председателя А. Н. Косыгина.
Однажды утром в моем, уже директорском кабинете раздался по ВЧ звонок. Звонил Косыгин:
«На заседании Президиума правительства будет рассматриваться вопрос о закупке за рубежом пяти установок для Новолипецкого завода. Мне доложили, что вы против. Так ли это?»
«Да, – отвечаю я. – Мы против. Уже несколько лет у нас работает опытная установка, лицензия продана в Японию. Наши конструкторы тщательно отслеживают, что делается на Западе в этом отношении. Мы готовы изготовить это оборудование».
«Вопрос серьезный и ответственный, – говорит Алексей Николаевич, – это ведь крупнейший цех в стране, а не ваша опытная установка. Прошу сегодня обсудить еще раз эту проблему с вашими специалистами и завтра доложить мне окончательное решение».
Я собрал ведущих специалистов, руководителей завода, рассказал о разговоре с Председателем Совета Министров СССР. Мнение у всех нас было одно – держаться до конца. Трудная была для меня наступившая ночь. Не подведем ли?
Утром позвонил Косыгину. Быстро соединили. Доложил ему о нашем решении. Реакция его была спокойной:
«Рассмотрим мы ваше мнение на Президиуме, но не забудьте об огромнейшей ответственности».
«На «Уралмаш» можно положиться», – сказал я и попросил принять меня, чтобы решить насущные проблемы завода.
«Вам позвонят, – ответил Косыгин. – Готовьтесь».
Через несколько дней мы узнали: принято решение об изготовлении четырех установок на «Уралмаше» и закупке одной – для «подстраховки» в ФРГ. Из секретариата Косыгина сообщили о дате встречи у премьера. Мы подготовили два блока вопросов: реконструкция «Уралмаша» и социальная сфера. Многие рабочие прославленного завода все еще жили в бараках, хотя после войны прошло уже почти три десятка лет.
…Когда я вошел в кабинет Председателя Совета Министров СССР (здесь через десять лет предстояло работать и мне), Косыгин спросил меня в упор:
«Решение правительства вы знаете. Но при личной встрече объясните мне мотивы вашего поведения. Ведь ответственность вы взяли на себя огромнейшую. Может быть, было бы лучше купить все установки за рубежом, вы бы их тщательно изучили и с уверенностью изготовляли в дальнейшем для других металлургических заводов? Кроме того, вы ведь знаете, что сейчас все постоянно стремятся что-то купить за рубежом, а вы занимаете совсем противоположную позицию».
«Алексей Николаевич, – ответил я, – если страна намерена всегда покупать это оборудование за рубежом, тогда такое решение было бы правильным, но не верьте тем, кто говорит, что можно механически скопировать машину, и она навсегда будет передовой. Поверьте мне, машиностроителю, что каждая машина совершенствуется только в процессе производства, а не слепого копирования».
Впереди были годы невзгод и радостей. Как все новое, установки, кроме преимуществ, имели и недостатки. Шло тяжелое освоение новейшей технологии. Мои старые «оппоненты» не упустили возможности основательно «попинать» меня, уже первого заместителя министра. Бока намяли мне основательно, но я каждый раз заявлял Косыгину, что это временные трудности. Так оно и произошло. Установки заработали стабильно и работают по сию пору, а «подстраховочную» из ФРГ доводили до ума на «Уралмаше».
На той памятной для Николая Ивановича Рыжкова встрече премьер внимательно рассмотрел перспективы завода. Поддержал предложения, которые дали «Уралмашу» второе дыхание. Дошла очередь до второго вопроса – жилье. Генеральный директор разложил на столе фотографии: вот в таких бараках бедствуют уралмашевцы. Уезжал Рыжков с решением премьера: до конца года, а лето уже перевалило за экватор, построить для «Уралмаша» стоквартирный дом.
С той встречи Рыжков вынес впечатление, которое после, когда он уже работал в Москве, бывал на заседаниях правительства, только окрепло:
– У Косыгина была изумительная способность слушать людей. Он воспринимал разные взгляды, оценивал их как человек государственного мышления.
Вопросы из записной книжки
Вместе с Николаем Ивановичем мы листали записные книжки Косыгина. В них, особенно в последних, не раз встречаются пометки о развитии топливно-энергетического комплекса. Вот к примеру, записи из блокнота за 1974 год:
«Передача газа или переработка на месте? Уголь – переработка на месте или перевозка по железной дороге? Вопросы энергетики в районе газа?»
– Алексей Николаевич, как видно из этих записей, размышлял о стратегических направлениях развития экономики, – комментирует Рыжков. – Не на все эти вопросы удалось тогда найти ответы. Когда я стал Председателем правительства, мне пришлось столкнуться, наряду с другими, и с этими задачками.
Если говорить о газе: передача или переработка на месте? После тщательного анализа мы пришли к выводу: эффективнее, выгоднее перерабатывать природный газ на месте, извлекать компоненты для производства целой гаммы изделий и только после этого – передача.
Я до сих пор считаю, что была сделана огромнейшая ошибка, когда в конце 80-х – начале 90-х годов под давлением дилетантов были заброшены проекты по переработке газа. Уверен, Россия еще вернется к этим проектам, вспомнит о Канско-Ачинском топливно-энергетическом комплексе (КАТЭК), да и о других проектах, задуманных Косыгиным.
Восклицательных знаков в записных книжках Косыгина нет. А вот вопросительных много – и это характерно для человека, который знает цену своему решению, своей подписи. Проверили новацию, испытали на практике – тогда можно и решать. Так было, например, с реорганизацией системы материально-технического снабжения, на чем настаивали многие производственники. Прежняя, когда из Центра распределялся каждый гвоздь, стала анахронизмом. Предлагалось создать территориальные органы материально-технического снабжения. Новую структуру Косыгин обсуждал с директорами, которых приглашал к себе. Среди них был и Колпаков. Сначала провели эксперимент в Ленинграде – он продолжался год. И только после этого, оценив результаты, приступили к созданию территориальных органов по стране. Начальник территориального УМТС нес персональную ответственность перед государством за работу промышленных предприятий наравне с директорами заводов.








