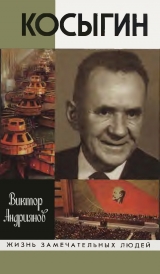
Текст книги "Косыгин"
Автор книги: Виктор Андриянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
– Правда, официальное слово визитздесь совсем не подходит, это были деловые, рабочие командировки. В пяти поездках я был непосредственно в сопровождении, при этом в одной из них, в 1973 году, оказался главным действующим лицом. Я работал заместителем министра газовой промышленности и возглавлял строительство нефтепровода Усть– Балык – Курган – Альметьевск.
– Он строился по поручению Косыгина?
– Да. Алексей Николаевич придавал этому нефтепроводу огромное значение. Огромное! Почему? По плану по этому нефтепроводу в 1973 году должно было быть поставлено 18 млн. тонн нефти. Ввод нефтепровода в строй был предусмотрен в июне, и вот за полгода надо было перекачать 18 млн. тонн нефти. Без этих 18 миллионов тонн весь топливный баланс развалился бы. Задача была – ввести обязательно.
А силенок у Мингазпрома было маловато. Мы задержались на строительстве в Средней Азии, на других объектах. И с большим запозданием сосредоточили силы на нефтепроводе.
На нефтепроводах, да вообще в Западной Сибири основные работы можно вести в зимний период. Это парадокс, конечно. Всегда у строителей основной сезон – лето. А в Сибири – это зима. Часть зимы мы прошли в четверть силы – зима уже на исходе. Алексей Николаевич, приехав к нам в январе 73-го, застал строителей у разбитого корыта.
В ту зиму сильнейшие холода начались с конца декабря. Недели три или четыре температура была минус 50 градусов, даже минус 55. А мы пробовали работать. И угробили технику. Свыше тысячи единиц техники на морозе угробили. Ломались, как стекло, стрелы, гусеницы, выходили из строя двигатели.
Я все это доложил Косыгину: положение чрезвычайное. Выслушав меня, Косыгин спокойно спросил: «А вы не сгущаете краски?» Я отвечаю: «Алексей Николаевич, мне очень тяжело говорить это, потому что я в определенной мере виноват, заставлял людей работать при таких низких температурах. Зимний сезон у нас – основной, терять его никак нельзя». Алексей Николаевич что-то пометил в своем блокнотике и сказал, что ресурсы еще можно изыскать. А важнее этой стройки в стране нынче ничего нет. После этого я подписал приказ по министерству, запрещающий работать при температуре ниже 35 градусов. По закону было разрешено до 40, но учитывая, что техника не очень надежная, мы запретили работать при температуре ниже 35 градусов.
– Помнится, и на БАМе я видел, как «летела» техника. Машин в северном исполнении тогда явно не хватало.
– Как не хватает и сейчас. А тогда, воспользовавшись приездом премьера и его спутников, я организовал показ строительной техники, на которой мы работали. Другого такого случая могло не представиться. А перевод строительных машин на новый качественный уровень, жизненно необходимый в условиях трубопроводного строительства на Крайнем Севере, не терпел отлагательств…
Случай же, но совершенно иного свойства, сыграл злую шутку в моей судьбе…
Случилось так, что в день показа техники температура воздуха колебалась между 45 и 50 градусами мороза. Алексей Николаевич с виду одевался в тюменской командировке довольно легко, и я, не желая ударить лицом в грязь перед высоким гостем, годившимся мне в отцы, и будучи уверенным в своей закаленности, сменил свой трассовый «костюм» (унты, полушубок, толстый свитер и т. д.) на наряд, близкий к «руководящему»… Правда, о гагачьем мехе и других утеплителях я тогда не знал. Сначала пришлось ждать прилета вертолета с гостями… Естественно, ждал на морозе… Потом более часа водил гостей по импровизированной выставке строительных машин и механизмов… Затем пошли проводы… В общем почти день на морозе и, считай, по северным меркам раздетым…
В связи с хроническим недосыпанием и постоянной переработкой на трассе и в штабе мороз, как говорится, достал свою жертву. Куда там тело? Душа заледенела. Хотел «заледеневшую душу» отогреть в бане, да баня сама промерзла… Пришлось согревать душу послетрассовым «пуншем» (водка пополам с горячим чаем)… Не помогло… В гостинице, где я жил, попытался принять ванну, но… отказало центральное отопление. А с помощью электрических рефлекторов душу не согреешь. На следующий день летал по объектам на вертолете и несколько раз докладывал о результатах Алексею Николаевичу… И, естественно, был в постоянном напряжении. Вечером полетел в Тюмень на собрание актива, на котором с докладом выступал А. Н. Косыгин. Вот во время доклада-то и кинуло меня в жар…
На ужин в резиденции Косыгина я уже не попал… Температура 39,5… Врачи три дня ее сбивали… На четвертый сбили, и я вновь отправился на трассу. И снова режим дня ненормированный – 16–18 часов в сутки. А вскоре опять высокая температура, уколы, трасса, высокая температура, аспирин, баня, трасса… Закончилось все это больницей.
Добавлю к словам Баталина. Эта пятимесячная «командировка» в больницу закрыла ему в то время дорогу в министры. Косыгин, собираясь назначить его министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, попросил медицинское заключение. Начальник Четвертого главка Минздрава Чазов ответил, что на активной, напряженной работе Баталина использовать нельзя. Выходит, и академики ошибаются.
Продолжаем разговор с Баталиным.
– Какое чисто человеческое впечатление оставил у вас Косыгин?
– До этого я был раза два с министром на заседаниях Совета Министров, но там ничего особенного для себя не отметил. А вот здесь увидел: Косыгин по фотографиям, по телевидению производил впечатление больного, угрюмого человека. Вблизи впечатление было совсем другое. Из аэропорта его обычно сразу везли в гостиницу обкома, там и ужин был. В Тюменской области рыбы много: сосьвенская селедка, нельма малосольная, муксун малосоленый, осетрина, стерлядь – на столе, понятно, все стояло. Он любил рыбу с картошкой. Выпивал три рюмки коньяка, не больше, причем с удовольствием. Потом разговоры за столом… Я посмотрел: когда он начинает говорить, улыбается, если слышит шутку – сразу преображается, черты лица разглаживаются. Улыбается. Очень мягкое, доброе выражение лица. Отзывался на шутку и сам рассказывал к случаю смешные истории. Это на меня огромное впечатление произвело.
– Но вот нефтяная кладовая оскудела. Нужны были новые решения…
– Освоение нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири – проект глобальный и по затратам, и по эффекту в экономике. Нужна была поддержка на самом высоком уровне, в то время – Генерального секретаря ЦК КПСС. До поры до времени все шло на полумерах, а полумеры снижают и эффект.
Ясно было: надо что-то делать. Или в разы увеличивать капиталовложения в добычу нефти, на что экономика страны уже не была способна. Или браться за газ. Здесь тоже требовались большие капиталовложения, огромное количество труб, которых мы не производили, надо было покупать за рубежом. Много вопросов возникало, но и эффект ожидался огромный. Поэтому, естественно, надо было всей мощью и авторитетом государства браться, чтобы все дудели в одну дуду. А Брежнев на это не реагировал. Председатель Госплана Байбаков, министры Оруджев (газовая промышленность), Щербина (строительство предприятий нефтяной и газовой промышленности) постоянно собирались, обсуждали проблемы и настойчиво предлагали: принять решение ЦК и Совета Министров об ускоренном развитии газовой промышленности. И вот тогда Борис Евдокимович Щербина, преемник Кортунова, новый министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, используя свои связи в ЦК, предложил подготовить лично для Брежнева записку о развитии добычи газа в Западной Сибири. Рабочий вариант этой записки Щербина поручил подготовить мне: в какие сроки мы могли бы выйти на добычу в год триллиона кубометров газа, что для этого надо и т. д. Три обстоятельства были решающими: ресурсная база, капиталовложения и возможности строителей.
Месяца полтора мы готовили расчеты и пришли к выводу: Советский Союз может выйти на триллион кубометров добычи газа примерно в 1992–1993 годах. Естественно, соображали, что Брежневу длинных записок нельзя давать. Надо сжато и емко обозначить горизонты, масштабы, в то же время польстить его самолюбию, что он, вроде, у истоков этого процесса находится. Сказать, когда можно начать добычу и что это стране даст.
Я составил первый вариант этой бумаги, она заняла две странички машинописного текста. Постарался дать мотивировку, определить масштабы капиталовложений, какой эффект получит народное хозяйство, сколько надо труб. Он все-таки металлург и это понимал. Словом, в документе была цельность, логическая стройность, определены ресурсы. Щербина посмотрел: в принципе годится. Сжал этот вариант в страницу и от руки написал записку. Почему от руки, понятно: доверительная записка, никто, мол, кроме адресата, в дело не посвящен.
А дело действительно государственного масштаба: экономика испытывает сложнейшие проблемы, а необходимые ресурсы для ее развития, в том числе и для социальной сферы, можно получить только за счет развития газовой промышленности – это наиболее эффективная отдача. В той записке мы привели пример: новые комплексы, включая промыслы и газопроводы от объектов в центр страны, окупались за полтора-два года.
Особо подчеркну: окупались внутри страны, без учета экспорта.
Словом, в те годы у страны не было более эффективной программы: Советский Союз обеспечивал себя топливными ресурсами, мог резко увеличить поставки газа в Европу, укрепить деловые связи.
Записку, которую подписал Щербина, близкий его товарищ из аппарата ЦК КПСС отвез Брежневу в Крым. Там ее отпечатали и без подписи передали Леониду Ильичу – как справку. И на этой справке на следующий день появилось поручение Брежнева: поддержать и т. д.
И действительно, вскоре вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров об ускоренном развитии газовой промышленности. Эти положения вошли в пятилетний план 1981–1986 годов, который принимался уже без Косыгина. Это была пятилетка ускоренного развития газовой промышленности. За пять лет прирост добычи газа составил 220 млрд. кубометров. Один из годов дал максимальный прирост – 54 млрд. кубометров!
– Юрий Петрович, выходит, вы со своей запиской обошли Косыгина?
– Я бы так не сказан. Алексей Николаевич был в курсе всех наших шагов. Его информировал Байбаков: «Алексей Николаевич, как вы смотрите, чтобы записку Брежневу передать?» Председателя правительства и в самом деле обходить нельзя. После этого Щербина действовал смело. А потом Оруджев все время просил его вывести на такой же контакт с Брежневым. Но Щербина свои каналы не открывал. А выполнение постановления ЦК и Совмина, конечно, возглавил Косыгин.
Тогда же для меня стал проясняться весь трагизм положения А. Н. Косыгина в брежневском руководстве… Алексей Николаевич, являющийся для меня и сегодня образцом государственного деятеля, был намного квалифицированней, опытней и умней всех остальных членов Политбюро. Он с начала 60-х годов остро ощущал надвигающийся экономический кризис и предпринимал все возможные меры для его предотвращения. К сожалению, даже глава правительства не все мог сделать.
– Иногда Косыгина осуждают за то, что он не ушел со своего поста.
– Но как можно было хлопнуть дверью, когда только его авторитет еще кое-как сдерживал маразм брежневского клана? Для Алексея Николаевича на первом месте всегда были государственные интересы.
– Юрий Петрович, вспомним о крупных проектах, которые вызывали конфликты. Скажем, северный и южный варианты магистрального газопровода от Медвежьего газового месторождения в центр страны.
– Это месторождение было открыто в 1967 году и по сей день служит России. Начальные запасы – полтора триллиона кубометров. При обсуждении маршрута будущего магистрального газопровода столкнулись два альтернативных варианта. Первый – идти вдоль «мертвой» железной дороги до Салехарда через Урал, по территории Коми, дальше на Торжок и в центр страны – в Белоруссию и на Москву; второй – пустить газопровод с южным отклонением. Выходить к «живой» железной дороге, вдоль нее в северные районы Свердловской области, через Урал, затем по территории Удмуртии и Татарстана в центр страны.
Это действительно был серьезный конфликт. Тем более что на северном варианте настаивал Кортунов, наш министр, человек, к которому я относился и отношусь с огромным уважением.
Он, увлекающийся человек, буквально каждой клеткой был настроен на северный вариант. Я к тому времени серьезные трассы газопроводов еще не строил, но как строитель представление о них имел. И представлял, что это очень уязвимая, с точки зрения эксплуатации, штука. Построить можно, а эксплуатировать потом будет сложно. Я пытался приводить доводы не столько по части строительства, потому что сразу меня обвинили бы: личные интересы отстаиваю; сколько с точки зрения эксплуатации: надежна ли она? Мне отвечали: если строители не будут гнать брак, все пройдет нормально. Я возражал, но в общем старался не лезть вперед, тем более что этой стройкой занимался другой заместитель министра. Я занимался наземным строительством, но инженерная совесть не позволяла молчать.
Если человек получил инженерное образование, много занимался инженерной деятельностью, то в дальнейшем у него вырабатывается понимание сути технических ситуаций, процессов, происходящих с конструкцией, зданием, с каким-то сооружением. И складывается представление, правильно идет процесс или неправильно.
Если правильно, ты спокоен. По каким-то неуловимым характеристикам видишь, что все идет нормально. Если же нет, могут возникнуть осложнения в работе конструкции, сооружения, случится авария, а это недопустимо. Твоя инженерная совесть, твои профессиональные навыки не могут допустить того, чтобы ты не остановил эти процессы, не заставил делать иначе, исправить.
На одном из совещаний в сентябре 1971 года, в ответ на резкую реплику министра в мой адрес я попросил у Алексея Кирилловича Кортунова разрешения еще раз облететь на вертолете северный маршрут газопровода, а после облета окончательно убедился в своей правоте… После возвращения и доклада министру нас обоих срочно вызвали «на ковер» к Косыгину. У него шло обсуждение вариантов проекта газопровода из Медвежьего. Спрашивали, кто и что думает. Я, понятно, не высовывался… А Ефремов Михаил Тимофеевич, заместитель Косыгина и куратор топливно-энергетического комплекса, которому я искренне симпатизировал за умение быстро схватывать самую суть любой проблемы и находить верные решения, зная, что в конфликтных ситуациях я излишней активности не проявляю, но и мнения своего скрывать не стану, взял да поднял меня для ответа…
Я выступил, привел свои доводы, и в результате остановились на южном варианте…
Из-за этой истории Кортунов с Ефремовым «разошлись, как в море корабли», а в наших с Алексеем Кирилловичем отношениях температура упала до уровня самого холодного месяца в районе Медвежьего месторождения, правда, на время. Алексей Кириллович был очень эмоциональным человеком, но все-таки разум в нем брал верх над чувствами. В канун Дня Победы в 1973 году он представил меня на утверждение в должности первого заместителя министра, которое поддержал Алексей Николаевич Косыгин. Восьмого мая меня с трассы вызвали в Москву и, конечно, в тот же день я поехал к Кортунову в больницу. Он подробно обо всем расспрашивал… Словом, лед растаял. А вскоре я и сам попал в ту же больницу и заглядывал к Алексею Кирилловичу чуть ли не каждый день: он из палаты уже не выходил.
Такие обстоятельства иногда ломают самые сильные характеры. Из неведомых тайников поднимаются испепеляющие душу чувства: почему молодые остаются, а я ухожу? В довершение всех бед у Кортунова умерла жена, ухаживавшая за ним, как за ребенком. Все заботы об отце взяла на себя дочь. Очень горько складывалась жизнь у сыновей… Алексей Кириллович до самых последних дней с редким мужеством держал свой жизненный плацдарм.
– С Косыгиным можно было спорить? Он принимал возражения?
– Отвечая на этот вопрос, вспомню историю с проектом нефтепровода на Дальний Восток. В конце 1972-го – начале 1973 года между Советским Союзом и Японией было подписано предварительное межправительственное соглашение о поставке в Японию 40 миллионов тонн тюменской нефти. Не знаю до сих пор, кто был инициатором этого соглашения, но оно было абсолютно нереальным. Страна не имела такого излишка нефти, а если бы и имела – как подать эти миллионы тонн из Западной Сибири в Японию? Нам предложили наметить возможную трассу до бухты Находка или Ольга. По предварительным расчетам получалось: необходимо 5 миллиардов рублей и 4–5 лет.
На совещании у Косыгина я, вопреки общему мнению, привел возражения. Мои оценки прозвучали словно гром с ясного неба. И началось: «цифры взяты с потолка», «по молодости Баталин не понимает, что к чему», «это – торги, а не государственная оценка», «строители играют в ведомственные игры»… Это еще самые «мягкие» заключения! Алексей Николаевич, также расстроившись, до резких слов не унизился, но был мною страшно недоволен. Он был сдержанный человек. Поэтому сказал, что Баталин – молодой, опыта у него в руководстве министерством нет, мыслить по– государственному пока не научился. Дал две или три недели и поручил мне вместе с представителями нефтяников и Госплана еще раз проверить все расчеты.
Я послал на трассу несколько групп производственников, сотрудников проектных институтов, которые поехали по районам. Там есть заболоченные места и горы. Я не сразу осознал, что нужно было ставить специальные устройства, чтобы гасить давление: гидравлический удар – и разорвет трубы. Нужны были станции понижения давления. Группы посмотрели все на месте, сделали прикидку. И уже по вторичной прикидке я подходил к проекту более осознанно. Каждый день, с утра до вечера, все варианты смотрели. На следующем совещании я Алексею Николаевичу сказал, что мы разобрались. Он провел тогда несколько совещаний, причем собирались мы не только в Кремле – у геологов, нефтяников, транспортников. В итоге Алексей Николаевич сам пришел к убеждению, что строить нефтепровод не надо. Нефтепровод в отличие, скажем, от машиностроительного завода перепрофилировать невозможно. Он призван качать нефть. И если вдруг возникнут форс-мажорные обстоятельства (не будет нефти, стихийные бедствия, международные осложнения и т. п.), то 5–6 миллиардов рублей и результаты труда сотен тысяч людей пойдут прахом. На одном из совещаний, которые проходили уже более спокойно, впервые прозвучала идея сооружения Байкало-Амурской магистрали с тем, чтобы вывести к ней нефтепровод из Тюменской области, поставлять дальше нефть в цистернах. Железная дорога могла обеспечить транспорт нефти в объеме 20–25 миллионов тонн в год. Совещания у Косыгина и заседания правительства подтвердили перспективность такого варианта. Будущая дорога виделась, конечно, не только «нефтяной». Она становилась новым центром освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока.
– Вернемся к «мертвой» дороге, которая разделила живых…
– Ее строили при Сталине и бросили сразу после его смерти, за полтора-два года до завершения железки. И людей, получилось, угробили, и дела не сделали. В то время на дрезине можно было проехать по всей дороге. Лишь в отдельных местах дрезину приходилось переносить.
Эта дорога известна как 502-я стройка. А с Игарки шла 501-я. На каждой из них было по 50 тысяч заключенных…
Достроить ее можно было за полтора года, и была бы дорога на Игарку, Норильск. И в этом случае началось бы масштабное освоение Севера, страна сберегла бы многие миллиарды рублей. Полноценных, а вовсе не деревянных. Конечно, лагеря надо было закрывать, но для того, чтобы достроить дорогу, можно было найти другие решения.
Над «мертвой» дорогой от Надыма до Медвежьего и дальше в сторону Уренгоя мы летели с Косыгиным в 1973 году. В вертолете еще были Лалаянц, заместитель председателя Госплана, Дымшиц, председатель Госплана Байбаков, министры Щербина, Оруджев.
Часть «сталинской дороги», которую восстановили строители, помогла освоить Надым и Медвежье. Была идея – дать жизнь всей «мертвой» дороге. Вертолет летел над трассой, и я рассказывал премьеру, что здесь было, что можно сделать, восстановив дорогу.
Мы сидели с Косыгиным у одного иллюминатора, и я показывал: «Вот здесь ровная местность, почти нет пересечений». – «А от Надыма к Салехарду?» – «Там сплошные пересечения. Огромное количество речек, ручьев… Если проложить трубопровод, здесь вечная мерзлота и размывы, мы не сможем обеспечить устойчивое положение газопровода».
На Медвежьем месторождении, у первой установки, которую ввели в 72-м году, вертолет приземлился. Во время этой поездки Косыгин планировал посмотреть газовый север. И обязательно хотел побывать на промысле.
Когда летели над трассой, Косыгин ответил на мое предложение: «В чем же вопрос? Раз вы считаете, что надо восстанавливать дорогу, восстанавливайте». – «Очень важно, чтобы Вы убедились, что это надо делать». «Считайте, что я убедился». – «Но этого мало. Рельсы надо, шпалы надо, крепления, стрелочные переводы. Надо, чтобы это все в планах было». – «Понятно. Хорошо, хорошо».
И мы эту дорогу восстановили, потом продолжили ее до Уренгоя, а это позволило на 3–4 года приблизить пуск Уренгойского месторождения. Минтрансстрой пришел железной дорогой к Уренгою позже. А иначе как? От Надыма до Уренгоя 250 километров! На такое расстояние перевезти миллионы тонн грузов было бы невозможно. За короткий зимний период это было сделать нельзя. Восстановили дорогу: Алексей Николаевич дал толчок.
– Юрий Петрович, освоение Западной Сибири было бы невозможно без блочной технологии. Это ваша разработка. Вас поддержали Дымшиц, Щербина, Косыгин.
– Прилетели мы на Медвежье, поехали на первую установку, которую мы там ввели. Для тех, кто не бывал на промыслах, надо пояснить, что газоприемный пункт – это по сути целый завод.
Там было много блочных комплектов. У нас там все хорошо, чисто, аккуратно. У Косыгина верх похвалы было: «Чистенько, чистенько!» Были еще Дымшиц и Щербина. Они меня пропустили вперед. Я докладываю Алексею Николаевичу, а они идут сзади. Прошли по одному цеху, другому. Он обо всем расспрашивает, интересуется. Я хорошо знал технологию, все ему рассказывал.
– Сколько же времени ушло на строительство? – спросил Косыгин. Я ответил, что установку начали монтировать в декабре 1971 года и ввели в эксплуатацию 8 апреля 1972 года.
– Как?! – удивился он.
Я отвечаю, что мы ввели объект в строй за четыре с половиной месяца. В 5,8 раза быстрее нормативного срока. И при этом от сметной стоимости объекта сэкономили более чем 19 процентов.
Остановились. Косыгин подождал, пока подойдут Дымшиц и Щербина, и говорит: «Товарищ Баталин утверждает, что все эти цеха построены за четыре с половиной месяца».
«Да-да, Алексей Николаевич!» – ответили в голос Щербина и Дымшиц.
Косыгин головой покачал: «Да, удивительно!»
С его стороны, конечно, было не очень тактично ставить под сомнение мои слова. Он, видимо, это почувствовал и сказал: «Давайте поподробнее расскажите, как вы этого добились». Тогда с энтузиазмом я начал рассказывать про комплектно-блочный метод. Он сказал: «Надо же развивать этот метод!» Я ответил: «Да, Алексей Николаевич, надо развивать, идеология у нас такая-то».
«А как в принципе развивать?» – спросил Косыгин. Я ответил, что надо развивать это направление как систему и применять много новейших достижений, организационных, технических, управленческих. Потому что потребность будет огромная, и эта система должна быть саморегулируемой. Он спрашивает: «А за чем же дело стало?» Я сказал, что у нас есть задумки создать нового типа систему, структуру, с большими правами, чем сегодня. С правами главка, позволяющими самим формировать штатное расписание, иметь большую свободу в использовании финансовых ресурсов. Это должно быть совершенно иное структурное подразделение – без лишних звеньев. Надо совместить промышленный и строительный баланс. Не наделять подразделения, которые внизу, полной хозяйственной самостоятельностью, иметь подразделения, а не самостоятельные финансово-экономические структуры.
Алексей Николаевич слушал очень внимательно, много раз просил уточнить то или иное положение, объяснить, почему надо поступать так, а не иначе. Особенно его заинтересовали предложения о том, что организации должны специализироваться не по видам работ и не по видам строительства, а по этапам производственного процесса. Точнее, по этапам производственно-технологического процесса. Это относится не только к строительству трубопроводов, но и ЛЭП, дорог…
«За чем же дело стало?» – повторил Косыгин.
Я сказал, что мы отступаем от существующих норм. Поэтому было бы желательно, чтобы вышло постановление или распоряжение Совета Министров о создании такой структуры с предоставлением ей необходимых прав. Он обещал поддержку. И действительно поддержал.
Три пятилетки можно назвать косыгинскими. Самая успешная восьмая, 1965–1970 годы дали прирост экономического потенциала примерно в полтора раза… Но из-за искусственных ограничений более чем двукратное увеличение прибыли в народном хозяйстве за период с 1965 по 1970 год не было использовано ни на техническое обновление предприятий, ни на повышение реальных доходов работников. Экономическая реформа принесла трудовым коллективам огромные средства, но не дала реальных возможностей их рационального использования. Этим «усечением» Брежнев и его стареющее окружение угробили смысл косыгинских реформ.
Затем страну выручали нефтедоллары. В 1970 году добыча тюменской нефти составляла 31 миллион тонн, через пять лет – 148 миллионов, а через десять – 313. По расчетам академика Аганбегяна, нефтяники обеспечили прирост национального дохода за пять лет в объеме 110 миллиардов рублей. По курсу тех лет это примерно столько же долларов.
Алексей Николаевич Косыгин лично занимался Западной Сибирью, занимался с большой энергией, душевным настроем, что помогло стране быть на уровне. Но постепенно крупные нефтяные месторождения в Западной Сибири истощились, пошли мелкие. Чтобы приращивать добычу, требовалось в несколько раз больше капиталовложений. Нефтяники требовали все больше средств, труб, металла, оборудования… Правда, потом оказывалось, что, несмотря на ожесточенные споры, нефтяники планы все же перевыполняли. И в ЦК партии, в Совмине, да и у Алексея Николаевича сложилось мнение, что резервы у них есть.
Вспоминаю большое совещание нефтяников в Кремле. Министром нефтяной промышленности был Мальцев. Он резко возражал Косыгину и был прав по сути, но, как мне кажется, это можно было сделать тактичнее. Косыгин отложил тогда совещание, предложил «послушать вопрос через несколько дней». Через несколько дней все повторилось! Премьер говорит, что объемы добычи должны быть больше, нефтяники категорически возражают.
Среди участников этого совещания был главный геолог Новосибирского геологического управления Николай Петрович Запивалов, ныне доктор геолого-минералогических наук, профессор Новосибирского университета, первооткрыватель ряда нефтяных, газовых и других месторождений в Западной Сибири. Ему запомнилась «глубокая профессиональная ориентация Косыгина в вопросах разведки и подготовки запасов. Он сам активно участвовал в оживленной дискуссии по вопросам качественного испытания скважин». Очень характерное замечание.
– Косыгин, как вы пишете в своей книге, звонил вам даже на дачу – в субботу, воскресенье.
– Он лучше всех понимал, что для развития нефтяной и газовой промышленности необходимо строительство, создание новых мощностей. Поэтому и уделял огромное внимание Миннефтегазстрою, живо интересовался нашими делами. Премьер знал, что Кортунов, на котором все держалось раньше, тяжело болеет и на работу не выйдет, его замещает молодой для такого поста человек, надо поддержать его, помочь. Ни в коем случае не допустить провала.
– Звонки Косыгина были сугубо официальными? Или он спрашивал и о чем-то личном?
– Он был мягким и доброжелательным человеком, по тональности все сразу понятно: «Расскажите, что у вас происходит. Какие сложности?» Выслушает: «Я поручения дал. Связывайтесь с Владимиром Николаевичем». Это его помощник Соколовский. «Если что-то не будет получаться, не стесняйтесь, сразу ставьте его в известность».
Память у него была прекрасная, скажешь: тогда-то то-то введем в строй. Он никогда не забывал. Это навыки управленца: вспоминает, дает понять, что тебя внимательно слушают и помнят, что ты обещал. Один-другой факт назвал – человек уже знает, что надо быть аккуратным, непременно выполнять обещанное.
Косыгина отличала весьма редкая для сегодняшних руководителей черта – внимание к делам подчиненных. Бывало, либо я ему звонил, когда не мог решить какой-либо вопрос в Госплане или Госснабе, либо он сам, либо кто-нибудь из его подчиненных выходил на телефонную связь в случае долгого отсутствия просьб с моей стороны… Звонишь, и тебя без проволочек соединяют с главой правительства, докладываешь, просишь помощи… А если его нет, секретари твою просьбу подробно запишут и доложат при первой возможности. И тут же звонок от Косыгина, а следом либо он сам, либо его помощники сообщают: «Даны такие-то поручения тем-то и тем-то, доводите с ними дело до конца»…
– Юрий Петрович, что, на ваш взгляд, Косыгин вынес из тех лет, когда работал со Сталиным, Вознесенским?
– Прежде всею – предметность. А предметность – это и необходимость деталей. Без предметного осмысления невозможно по-настоящему оценить ситуацию, чтобы уверенно решать, что еще предпринять, не надеясь на доклады, обещания, программы, которые тебе дают. Он умел через детали оценивать суть дела и получать реальное представление, как процесс может пойти, какие результаты могут быть. Приведу такой пример: Косыгин очень тщательно готовился к заседаниям Совета Министров, особенно когда рассматривались серьезные проблемы. В аппарате Совмина были подобраны очень хорошие профессионалы – лесники, металлурги, цветники, химики, нефтяники…
Когда готовилось постановление ЦК, правительства о каком-то комплексе, отрасли, Алексей Николаевич тщательно работал с проектами решений, несколько раз собирал аппарат – самых низовых работников, которые этой темой занимались… Не приглашал больших руководителей, а встречался с теми, кто профессионально занимался этой темой. Ему докладывали суть, потом – по этапам, по блокам. Он во все детально вникал. Причем приучил, чтобы говорили откровенно. Если у тебя свое мнение, приводи аргументы, а не просто высказывай сомнение – этого он терпеть не мог! Если нет аргументов – то не суйся!








