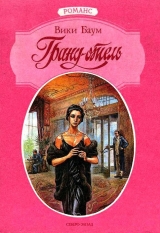
Текст книги "Гранд-отель"
Автор книги: Вики Баум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
– Точка? Точка? Но я хочу остаться одна.
Гайгерн быстро шагнул к ней – она стояла посреди комнаты – и прижал ее руки к своей груди.
– Нет, – поспешно сказал он. – Это неправда. Ты не хочешь остаться одна. Ты отчаянно боишься одиночества. Я же чувствую, как ты боишься. Я же чувствую тебя, я знаю тебя, маленькая, незнакомая. Меня ты не обманешь своей комедией. Твой театр – стеклянный, мне видно все насквозь. Ты была в отчаянии. Если я сейчас уйду, ты будешь отчаиваться еще больше. Скажи, что я должен остаться, скажи: «Да!» – Он сжал ее руки. Потом взял за плечи и встряхнул. Ей стало больно, и она поняла, насколько он взволнован. Ерылинков когда-то умолял ее, – вдруг вспомнилось ей. Этот человек повелевал. Она покорно и радостно склонила голову ему на грудь.
– Да, побудь еще минуту, – прошептала она.
Гайгерн, глядя поверх ее головы, медленно выдохнул. Судорога страха начала ослабевать, и с молниеносной быстротой, как в фильме, пронесся вихрь образов: мертвая Грузинская в постели, принявшая огромную дозу снотворного; он спасается бегством по крышам; полицейские обыскивают ювелирную лавку в Шпринге; тюрьма – он понятия не имел, как выглядит тюрьма изнутри, но видел в этот момент все с предельной четкостью, и еще он увидел свою мать: она снова умирала, хотя умерла уже давно. Когда он вернулся назад, в 68-й номер, преодоленный страх и чувство опасности мгновенно обратились в пьянящий восторг. Он подхватил Грузинскую на руки и прижал к себе, как ребенка.
– Иди ко мне, иди, – бормотал он охрипшим голосом, касаясь губами ее виска.
Она, уже давно не ощущавшая своего тела, теперь его чувствовала. Много лет она не была женщиной, теперь же вновь ею стала. Черное гудящее небо завертелось над ее головой, и она бросилась в небо. Слабый, надтреснутый птичий вскрик, сорвавшийся с ее губ, превратил наигранную страсть Гайгерна в страсть неподдельную, глубокую, такую глубокую, какой он прежде не знал.
Когда внизу по улице проезжал автомобиль, чайная чашка на столе слабо позвякивала. Сначала в растворенной отраве отражался белый свет люстры, потом лишь красноватый отсвет ночника, потом только крадущийся огонек рекламы, пробивавшийся сквозь занавески. Двое часов мчались наперегонки, в коридоре громыхала дверь лифта, на далекой церкви часы пробили час, перекрыв автомобильные гудки, а еще через десять минут загорелись прожекторы на фасаде Гранд-отеля.
– Ты спишь?
– Нет.
– Тебе удобно лежать?
– Да.
– У тебя глаза открыты, я чувствую. Чувствую твои ресницы. Они касаются моей руки, когда ты открываешь или закрываешь глаза. Как странно: взрослый мужчина, а ресницы как у ребенка. Скажи, тебе хорошо сейчас?
– Я никогда еще не был так счастлив, как сейчас.
– Скажи еще, еще раз!
– Я никогда не был так счастлив, – бормочет Гайгерн в мягкую прохладную плоть руки, на которой покоится его голова.
Он говорит правду. Он невыразимо счастлив и преисполнен благодарности. Никогда раньше, во всех своих дешевых любовных приключениях он не знал этого опьянения без похмелья, этого трепещущего покоя после объятий, этого глубокого доверия двух тел – своего и чужого. Его тело, расслабившееся и удовлетворенное, лежит рядом с телом женщины, и между его и ее кожей полное понимание. Он чувствует что-то, чему нет имени, что нельзя назвать даже любовью – нет, это возвращение домой после долгой разлуки и тоски по дому. Он молод, но в объятиях уже немолодой Грузинской, под ее нежными, деликатными ласками он становится еще моложе.
– Жаль… – говорит он, уткнувшись ей в плечо. Он чуть приподнимается и устраивается под ее рукой как в гнезде, как в маленьком теплом доме, где пахнет матерью и лугами. – По твоим духам я нашел бы тебя в любом конце света с завязанными глазами, – говорит он, принюхиваясь, точно щенок. – Как они называются?
– Неважно. Скажи, чего тебе жаль? Слышишь? Какая разница, что за духи? Они называются «неувяда». Это такой скромный полевой цветочек. – Название цветка она произнесла по-русски. – Как он зовется по-немецки, я не знаю. Тимьян, может быть? Их делают для меня в Париже. Так скажи, чего тебе жаль?
– Жаль, что начинаешь всегда не с той женщиной. Что остаешься в дураках много-много ночей и думаешь, что вот таким оно и должно быть: сначала зной, потом холод и противное чувство, как при несварении желудка. Жаль, что первая в жизни женщина не была такой, как ты.
– Ах ты, баловень, – прошептала Грузинская и прижалась губами к его волосам, к этой жесткой густой и теплой шерсти, от которой пахнет табаком и которая совсем растрепалась, а ведь была гладко зачесана. Он проводит ладонью по ее приподнимающемуся от дыхания боку.
– Знаешь, ты очень легкая. Совсем, совсем легкая. Как пена в бокале шампанского, – нежно и удивленно говорит он.
– Да. Я должна быть легкой.
– Я хочу тебя увидеть. Можно включить свет?
– Нет, нет! – воскликнула она, и ее плечо в темноте отстранилось.
Он почувствовал, как она испугалась, эта женщина, истинный возраст которой никому не известен. И снова он чувствует к ней просто щемящую жалость. Он придвигается, и они молча лежат рядом, и каждый думает о своем. Отблеск уличного света дрожит на потолке, узкая, заостренная, как клинок, полоса – свет пробивается лишь сквозь тонкую щель между занавесями. Когда внизу проезжает автомобиль, по пятну света на потолке скользит боязливая тень.
«Жемчуг, – думает Гайгерн. – Черт бы его побрал! Если повезет и все пойдет хорошо, то как-нибудь исхитрюсь, положу его на место, но сначала пусть она уснет. С ребятками моими выйдет жуткий скандал, явлюсь-то я к ним с пустыми руками. Хоть бы «шофер» не выкинул какую-нибудь дурацкую штуку, хоть бы эта тварь не напилась сегодня со злости и не погубила все. Неудача… Вся история пошла вкривь и вкось. Где теперь достать денег, одному Богу известно. Может, пощупать этого богатого наследничка из провинции? Того, что живет в семидесятом и по ночам так громко стонет? Ах, черт возьми, не хочу я сейчас об этом думать! Вот возьму да просто потребую, чтобы она отдала мне жемчуг. Или скажу завтра всю правду, и точка. Если сделать все с умом, она не выдаст меня полиции. Она не выдаст. Ни за что не выдаст. Маленькая, легкая, сумасшедшая. Бросить жемчуг просто так в номере, даже не запереть на ключ саквояж! Странная женщина, теперь я ее знаю. Да что для нее жемчуг! Она же со всем порвала, ей все осточертело, не окажись я здесь вовремя, с ней уже все было бы кончено. Так на что ей жемчуг? Она может подарить жемчуг мне, она ведь добрая. О, она добрая, добрая, как мама – маленькая, крохотная мама, с которой можно спать».
Грузинская думает: «Поезд в Прагу отходит в одиннадцать двадцать. Только бы все устроилось как надо. Я все выпустила из рук, завтра пойдет жуткая свистопляска. Пименов слаб, с труппой не справляется, девчонки вертят им как хотят. Но всякий, кто завтра опоздает к поезду, будет уволен, и никаких разговоров. Если Пименов не побеспокоился вчера, то декорации не будут упакованы, надо было оставить рабочих на всю ночь, сверхурочно. Когда я не вмешиваюсь, никто ничего не делает. Расчеты с Майерхаймом… Господи помилуй, да как же я могла забыть про это и убежать! Витте… Если за ним не присматривать, он собственную голову где-нибудь позабудет. Я обязана отвечать за всех, а я сбежала. Завтра будет страшная свистопляска. Люсиль давно уже готовит бунт. Вечно ей всего мало: имя на афишах печатают слишком мелким шрифтом, внимания должного не уделяют и все такое. Но сами-то вы ни на что не способны, вам кнут нужен, погонялка – тогда вы держитесь в форме. Из-за вас я стала злой, и высокомерной, и усталой. Боже мой, как я вчера устала – еще чуть-чуть, и все вы увидели бы, каково живется на свете без Грузинской. А теперь никакой усталости нет, я могла бы сейчас встать и исполнить всю концертную программу от начала до конца. Или новую программу, новый танец… Надо будет поговорить с Пименовым, пусть поставит, пусть поставит для меня танец страха. О, вот это я могла бы станцевать отлично! Начать так: стоя на месте дать дрожь, только дрожь, потом пройти три круга на пуантах… Нет, лучше не на пуантах, лучше вообще все сделать иначе… Да ведь я живу! – изумленно подумала она, – я живу, я буду танцевать новые танцы, буду иметь успех. Женщина, которую любят, непременно имеет успех. По вашей милости я голодала целых… да, целых десять лет. Глупец, мальчишка, забравшийся через балкон в мой номер, – и вдруг такая сила от него. Мальчишка, которого любят и который сам ничего-то не знает о любви, знает один лишь жаргон молодых девчонок…»
Она подтянула повыше одеяло и укутала Гайгерна, как ребенка. Он благодарно пробормотал что-то, притворяясь маленьким и несчастным, уткнулся носом ей в плечо. Их тела уже узнали друг друга, но мысли еще оставались чужими и бежали в ночи разными дорогами, не соприкасаясь. Всюду на свете лежат в постелях люди, так же тесно обнявшись, и так же далеки они друг от друга…
Первой духовного сближения начинает искать женщина. Она берет в ладони голову Гайгерна, словно большой, тяжелый, созревший под солнцем плод, и шепчет ему на ухо:
– Я ведь даже не знаю, как тебя зовут, друг мой!
– Все зовут меня Фликс. А полное мое имя Феликс Амадей Бенвенуто барон фон Гайгерн. Но ты должна придумать мне новое имя. Я хочу, чтобы ты назвала меня по-своему.
Грузинская ненадолго задумалась, потом тихо рассмеялась:
– Наверное, твоя мать возлагала на тебя большие надежды, иначе она не придумала бы для тебя таких красивых имен. «Счастливый», «Любимый Богом», «Желанный». Ты плакал, когда тебя крестили?
– Не помню.
– А знаешь, у меня ведь есть ребенок. Дочь. Сколько тебе лет, Бенвенуто?
– Сегодня опять семнадцать. Первый раз я с женщиной чувствую себя семнадцатилетним. А вообще – тридцать. – Гайгерн прибавил себе лет. Из странной, неожиданной для себя самого деликатности по отношению к этой женщине, которая боялась света и своего возраста. И все-таки ей стало больно. Он годился в отцы ее восьмилетнему внуку Понпону. Подумав об этом, Грузинская немедленно приказала себе: «Passons!» [12]12
Довольно об этом! (фр.).
[Закрыть]
– Каким же ты был в детстве? Очень красивым ребенком? О, конечно, очень красивым.
– Просто восхитительным! Веснушчатым, в синяках и ссадинах с головы до пят, а иногда и завшивевшим. Конюхами у нас были цыгане, наше поместье возле самой границы, в тех краях цыгане-конюхи не редкость. Мальчишки-цыганята дружили со мной. От них я набирался вшей, приносил домой все шишки и царапины, какие только бывают. Когда я вспоминаю детство, то непременно слышу запах конского навоза. Потом я несколько лет был грозой всевозможных пансионов. Потом немножко повоевал. На войне я чувствовал себя как дома. По мне, могло быть еще в сто раз хуже. Если опять начнется война, в моей жизни все пойдет просто прекрасно.
– Разве сейчас у тебя не все хорошо? Ты, кондотьер! Как же ты живешь? Что ты за человек?
– А ты? Что ты за женщина? Таких, как ты, я раньше не встречал. Обычно никакой тайны в женщинах нет. А о тебе я хочу многое узнать, о многом хочу тебя спросить. Ты совсем другая.
– Да просто старомодная. Я из другого мира, из другого столетия. Не из твоего века, вот и все. – Грузинская сказала это неуверенно. И улыбнулась в темноте, но на глаза у нее навернулись едкие слезы. – Нас, танцовщиц, воспитывали как маленьких солдатиков, в большой строгости и железной дисциплине. Я училась в институте императорского балета в Петербурге. Полки маленьких рекрутов для постелей великих князей – вот что это было. Говорят, те, кто в пятнадцать лет начинал полнеть, носили на груди стальные обручи, чтобы грудь не была слишком пышной. Я была маленькая и худая, но крепкая, как алмаз. И честолюбивая. Знаешь, честолюбие у меня в крови, оно как соль или перец. Машина, которая работает, работает и работает. Ни покоя, ни досуга, ни передышки. Никогда. А потом – тот, кто прославится, остается в полном одиночестве. На вершине успеха ты стоишь в ледяном холоде, как на Северном полюсе. Что это значит – удерживать успех в течение трех лет, пяти лет, десяти, двадцати! Всегда, постоянно, постоянно… Но зачем я говорю об этом тебе? Разве ты меня понимаешь? Послушай! Бывает, проезжаешь в поезде мимо домика железнодорожного смотрителя или едешь в автомобиле вечером через маленький городок. И у домов сидят люди, неподвижно, с безразличными лицами, они ничего не делают, просто сидят, положив на колени руки. Понимаешь, вот это оно и есть: днем устать и потом просто сесть и сидеть сложа руки. Вот чего я хочу. Да как бы не так! Попробуй-ка позволь себе отдых на вершине славы, скройся от света, уйди на покой, пусть танцуют другие, эти уродины, костлявые немки, или негритянки, все эти неумехи, пусть они танцуют, а ты – отдыхай! Нет. Понимаешь ли, Бенвенуто, это невозможно, это не удается. Работу ненавидишь, ее проклинаешь, но жить без работы не можешь. Три дня отдыха, и вот уже появляется страх: я теряю форму, тяжелею, техника летит к чертям. Нельзя не танцевать. Это одержимость – ни морфий, ни кокаин, ни все мыслимые пороки не дают той силы, что дают работа и успех, можешь мне поверить. Нельзя, нельзя не танцевать. Ведь это так важно! Если я перестану танцевать, на свете не останется никого, ни одного человека, который действительно умеет танцевать, поверь! Кругом одно дилетантство, но должен же хоть кто-то по-настоящему уметь танцевать и знать, что это значит – танцевать, когда вокруг лишь мерзость и отчаяние. Я училась у знаменитых балерин. У Кшесинской, Трефиловой, а они восприняли свое искусство от великих танцовщиц сорок, а то и шестьдесят лет назад. Иногда мне кажется, что я должна танцевать наперекор всему миру, назло всем этим воплям о современном искусстве. Люди сидят – полный зрительный зал, это служащие, люди-автоматы, бывшие фронтовики, акционеры – и вот я выхожу на сцену. Такая маленькая, такая старая – не правда ли? – такая старомодная, отжившая, все мои па были известны еще двести лет назад. И все-таки я беру их за живое, они кричат, и плачут, и смеются, и теряют голову, и получают наслаждение, безумное наслаждение – от чего? От этого старомодного балета? Так, значит, что-то в нем все-таки есть? Конечно. Потому что мировую славу обретает лишь что-то, что имеет значение для этого мира. А все прочее разваливается, ничего цельного не остается. Нет ни мужа, ни ребенка, ни чувства – ничего, кроме искусства. Ты уже не человек, понимаешь? Не женщина. Ты – помнящая о долге, опустошенная телесная оболочка, которая скитается по всему свету. Когда уходит успех, когда перестаешь верить, что делаешь что-то важное, – для таких, как я, в этот день кончается жизнь. Ты меня слушаешь? Ты понимаешь меня? Мне хочется, чтобы ты понял, – в голосе Грузинской послышалась мольба.
– Понимаю, но не все, только основное. Ты очень быстро говоришь по-французски, – ответил Гайгерн.
В течение нескольких месяцев охоты за жемчугом он довольно часто ходил на балетные вечера с участием Грузинской и всякий раз безумно скучал, глядя на сцену. То, что Грузинская, по-видимому, относилась к этим забавным прыжкам и танцам как к своему мученическому кресту, теперь глубоко удивило Гайгерна. Вот она, такая легкая, лежит сейчас рядом с ним, у нее нежный, богатый оттенками, красочный и как бы щебечущий голос, но говорит она о таких тяжких вещах. Что он может сказать в ответ? Гайгерн вздохнул. Задумался.
– Ты очень хорошо говорила насчет этих людей, которые по вечерам сидят у своих домов, положив на колени усталые руки. Ты должна показать их в танце, – наконец сказал он неуверенно. Грузинская лишь рассмеялась.
– Что? Такое станцевать невозможно, мсье! Да и кому захочется увидеть меня в образе старухи с платком на голове, со скрюченными от подагры пальцами, которая только и мечтает о том, чтобы сидеть как пень и не работать?
Грузинская вдруг умолкла на полуслове. Стоило ей заговорить, как образ уже завладел ее телом – оно вытянулось, налилось силой. Грузинская мысленно уже видела декорации – в Париже у нее был знакомый художник, который мог бы сделать эскизы этих декораций. Она уже видела и танец, чувствовала в себе его движения: вот так пойдут руки, вот так согнется шея… Молча, приоткрыв рот, она смотрела в темноту. От напряжения она даже затаила дыхание. Комнату наполнили образы, видения, танцы, которых она никогда не танцевала и которые должна станцевать, – сотни подлинных, живых образов. Вот нищенка протягивает робкую руку за подаянием, вот старуха крестьянка, как молодая, пляшет на свадьбе своей дочери, вот худая, изможденная женщина стоит перед ярмарочным балаганом и показывает примитивные фокусы, вот проститутка ловит клиентов на улице. А вот служанка, она разбила блюдо, и ее за это избили, а вот пятнадцатилетняя девочка, которую заставили танцевать голой перед громадным, сверкающим орденами человеком, властителем, великим князем. А вот злая пародия на гувернантку, и еще – женщина, которая бежит не чуя под собой ног, хотя никто за нею не гонится, и женщина, которая едва не падает от усталости, но лечь спать не может, и женщина, которая, ужаснувшись своего отражения в зеркале, выпивает яд и умирает…
– Тише, молчи, ничего не говори, – прошептала Грузинская, глядя в потолок, на котором лежал острый меч – луч света.
Комната казалась ей совершенно незнакомой, заколдованной, как часто бывает в гостиничных номерах. Внизу фыркали и ревели, как звери, автомобили – это Лига друзей человека закончила свой банкет, у второго подъезда начинался разъезд гостей. Похолодало. Слегка вздрогнув, Грузинская вынырнула из круговорота образов и картин. «Пименов скажет, что я спятила. У него ведь недавно родилась идея поставить еще один балет мотыльков. А может, я и правда спятила?» Из мысленного бегства, длившегося не более минуты, она вернулась в свою постель, словно из долгого путешествия. Рядом лежал Гайгерн. Она даже удивилась, снова ощутив рядом его плечо, волосы, его руки и дыхание.
– Что ты за человек? – спросила она в темноте и почти вплотную приблизилась к его лицу. Где-то глубоко-глубоко в душе она почувствовала в этот миг удивление: как случилось, что она так близка ему, этому далекому и чужому человеку? – Еще вчера я тебя не знала. Кто же ты? – спросила она, касаясь губами его губ. Гайгерн, уже засыпавший, обнял ее за плечи – спина у нее была как у его борзой Биш, дома, в Риде.
– Я? Обо мне нет смысла говорить. Блудный сын. Черная овца в добром стаде. Я проходимец и кончу на виселице.
– Да? – Она засмеялась хрипловатым грудным смехом.
– Да, – убежденно ответил Гайгерн. Шутки ради он начал говорить тоном кающегося грешника, как когда-то во времена ученья в монастырской школе, но среди теплого запаха тимьяна, окутавшего его в этой постели, ему действительно вдруг захотелось открыть душу и быть до конца искренним. – Я необузданная натура, я бесхарактерный и немыслимо любопытный. Я не умею соблюдать порядок и ни к чему серьезному не способен. Дома я научился ездить верхом да еще разыгрывать из себя важную персону. В монастыре научился молиться и лгать. На войне – стрелять и спасать свою шкуру. Больше я ничего не умею. Я цыган, бродяга, искатель приключений.
– Ты?.. А еще кто?
– Игрок. И мне ничего не стоит сжульничать в игре. Красть тоже случалось. Собственно говоря, странно, что меня до сих пор не посадили. А я мотаюсь по всему свету, чувствую себя превосходно и заглатываю все, что понравится. Бывает, и напиваюсь. И еще – я с самого рождения ненавижу работать.
– Дальше! – в восторге прошептала Грузинская. В горле у нее дрожал сдерживаемый смех.
– Дальше… Я преступник. Я влез по карнизу в чужой номер, – сонно сказал Гайгерн. – Я грабитель.
– Ну, а еще кто? Может, ты вдобавок и убийца?
– Да. Конечно. Убийца. Я едва не убил тебя.
Грузинская снова засмеялась, склонившись над его лицом, которое она в темноте не видела, а лишь ощущала, и вдруг ее смех замер. Соединив пальцы на затылке Гайгерна, она чуть слышно прошептала ему на ухо:
– Не приди ты вчера, я была бы сегодня мертва.
«Вчера? – подумал Гайгерн. – Сегодня?» Ночь в шестьдесят восьмом номере, казалось, длилась целую вечность, казалось, несколько лет прошло с того момента, когда он стоял на балконе и смотрел из-за занавеси на эту женщину. Он испугался. Обхватил ее крепко, как соперника в спортивной борьбе, но ее гибкое тело выдержало натиск – он заметил это со странной радостью.
– Ты никогда не должна такого с собой делать, – сказал Гайгерн. – Ты должна быть рядом. Я тебя никуда больше не отпущу. Ты мне нужна. – И удивился, услышав свой голос, произносивший эти удивительные слова, вдруг охрипший голос, который как будто рождался от ударов его сердца.
– Да, теперь все изменилось. Теперь все хорошо. Теперь ты со мной, – прошептала Грузинская.
Гайгерн этих слов не понял – они были сказаны по-русски. Он лишь уловил их звучание, и тогда ночь снова закружилась хмельным вихрем. С узора обоев на стенах взлетели волшебные птицы, мужчина забыл о жемчуге, который лежал в кармане его пижамы, женщина забыла о провале спектакля и о растворенном в чайной чашке снотворном.
Ни он, ни она не смеют произнести хрупкое слово «любовь». Они оба, вместе, скользят куда-то в неистовом кружении ночи, от объятий к шепоту, от шепота в короткий сон, в сновидения, из сновидений снова в объятия, – двое, которые пришли из двух разных миров и на несколько часов обрели друг друга в гостиничной кровати 68-го номера.
В жизни Грузинской любовь не играла большой роли. Всю страсть тела и души она отдала танцу. У нее было несколько увлечений, потому что знаменитой балерине подобает иметь поклонников, так же как жемчуг, автомобиль, туалеты от лучших портных Парижа и Вены. Вокруг теснились, ухаживали, надоедали влюбленные обожатели, но, в сущности, Грузинская не верила, что на свете есть любовь. Любовь была для нее не большей реальностью, чем намалеванный на заднике сцены храм любви или дубравы, на фоне которых она танцевала. Оставаясь холодной и неспособной на сильное чувство, она тем не менее слыла восхитительной, необыкновенной любовницей. Сама же она относилась к любви, как к обязанности, связанной с ее профессией, как к некой части театра, которая иногда приносит радость, порой утомляет и всегда требует высокого мастерства. Вся гибкость ее тела, легкость, хрупкость, изящество, нежность и мягкость, порывистость и страстность, трогательность и кротость – все совершенство, свойственное ей в танце, она дарила и своим любовникам. Она знала, как опьянить их, но не умела сама отдаваться опьянению. В танце она, напротив, умела быть неистовой, забываться: ее партнеры порой слышали, что она слабо вскрикивает или чуть слышно напевает что-то тихим птичьим голосом во время самых трудных и быстрых движений танца. Но в любви она никогда не теряла головы и словно бы смотрела на себя со стороны. Как странно: она не верила в любовь, любовь была не нужна ей, при том что без любви она не могла жить. Потому что любовь – Грузинская это знала – была частью успеха. В молодости, когда ее уборная утопала в цветах и записках поклонников, когда всюду на ее пути были мужчины, готовые отдать за нее жизнь, ради нее готовые совершить любое безумство, швырнуть к ее ногам состояние, разорвать семейные узы, она чувствовала, что имеет успех. Признания, угрозы покончить с собой, неотступные преследования, драгоценные подарки могли служить мерилом успеха не хуже, чем аплодисменты, рецензии и число вызовов после спектакля. Очарованный и осчастливленный ею любовник, строго говоря, тоже был для нее своего рода публикой, у которой она имела успех, хотя сама об этом не думала. И то, что успех ее покидает, она с испугом почувствовала тогда, когда ее бросил Гастон, женившийся на не такой знаменитости, как она, а на девушке из хорошей семьи. Пылавший вокруг Грузинской жар начал остывать, все окрасилось в сумрачные, вечерние тона. Это было падение, но происходило оно со ступеньки на ступеньку, по сотням, тысячам ступенек, и потому едва было ли заметно. Но все же путь от прежней примы, чье искусство повергало людей в романтический, пылкий восторг, до нынешней Грузинской, которая выклянчивала жалкие аплодисменты у холодных и злорадных скептиков, был невероятно долог. Последним этапом этого пути стало полное одиночество и огромная доза веронала.
Поэтому человек на балконе был для Грузинской не просто мужчиной. Он был чудом, которое ворвалось к ней в последнюю минуту и спасло ей жизнь. Он был воплощением успеха, который к ней вернулся, и мира, который снова жарко потянулся к ней, он был доказательством того, что еще не прошли времена романтики – те времена, когда из-за Грузинской был убит на охоте молодой офицер Ерылинков. Она была сокрушена, но явился тот, кто не дал ей упасть.
В балетной программе Грузинской было па-де-де Смерти и Любви. Молодые поэты иногда присылали ей стихи, в которых пережевывалась банальная мысль о том, что смерть и любовь – родные сестры. Нынешней ночью Грузинская поняла, что это не избитая фраза, а истина. Горестное бесчувствие вчерашнего вечера обратилось в хмель, восторженную благодарность, лихорадочное обладание, чувство, объятия. Горы льда растаяли. Постыдная тайна ее холодности, которую она носила в себе всю жизнь, растеклась, исчезла. Много лет она была так одинока, что иногда выклянчивала милостыню тепла у молодого горячего тела своего партнера Михаэля. В эту ночь, в этом равнодушном гостиничном номере, в чужой постели с блестящими латунными прутьями она ощутила, что горит, преображается, она открыла, что любовь, в существование которой она не верила, существует.
68-й номер был похож на 69-й, и потому Гайгерн, проснувшись, не сразу понял, где находится. Думая, что он у себя в номере, Гайгерн хотел повернуться лицом к стене и тут увидел рядом с собой в постели маленькую дышащую фигурку спящей Грузинской. Все вспомнилось. Удивительная глубокая близость их первой ночи разлилась по всему телу приятной тяжестью. Он высвободил затекшую руку из-под головы Грузинской и с тихим торжественным умилением перебрал в памяти все моменты ночи. Несомненно: он был влюблен, и притом по-новому – кротко и благодарно. «А жемчуг тут абсолютно ни при чем, – подумал он не без стыда. – Совершенно ни при чем тут эта злосчастная история с жемчугом. Ты же свинья. Ты пробрался в ее номер, плетешь невесть что, разыгрываешь комедию, устраиваешь спектакль, и женщина тебе верит. Ей это даже необходимо. Все мужчины разыгрывают спектакль, и все женщины верят. По правде сказать, всегда бываешь мошенником и грабителем – вначале. Но потом, после, это ведь стало настоящим. Ведь я тебя люблю, Мона, хорошая, милая, маленькая неувяда, я ведь тебя люблю, je t'aime, je t'aime [13]13
Я тебя люблю (фр.).
[Закрыть]. Ты одержала надо мной блистательную победу, ты, маленькая женщина…»
В комнате было прохладно, за окном, наверное, уже светало, улица безмолвствовала, ломоть серого рассветного света пробился сквозь занавеси, в раннем утреннем сумраке начал понемногу проступать узор на обоях. Гайгерн осторожно выбрался из постели. Грузинская спала очень крепко, прижав подбородок к плечу. Видимо, сейчас, когда все волнения ночи были позади, два порошка веронала оказали свое действие. Гайгерн взял ее руку, лежавшую на краю постели, нежно прижал ладонь к своим горячим вискам и заботливо, словно Грузинская была маленьким ребенком, спрятал эту слабую руку под одеяло. В полутьме он пробрался к балконной двери и медленно раздвинул занавеси. Грузинская не проснулась. «Сейчас надо закончить с жемчугом», – подумал Гайгерн. Он сам себе удивлялся: ведь эта мысль неожиданно обрадовала его. «Проигранный раунд», – сказал он себе, не теряя хорошего настроения. Он нередко прибегал к спортивным терминам, когда говорил или думал о своих приключениях и предприятиях. Нашарив свою пижаму и с тихим смешком разыскав раскиданные по всей комнате предметы своей одежды, он оделся и умылся в ванной. Под струей воды ссадину на указательном пальце защипало, показалась кровь, он равнодушно лизнул царапину. Стоявший в комнате вялый горьковатый запах лавра как будто еще усилился. Гайгерн вышел на балкон и жадно вдохнул воздух. В груди у него все еще жила новая, незнакомая и сладостная стесненность.
Над утренней улицей плыл тонкий тягучий туман. Автомобилей не было. Людей тоже не было. Издалека донесся скрежет отъезжающего трамвая. Солнце еще не встало, но всюду разливался молочно-белый ровный свет. На перекрестке послышался стук каблуков, потом снова все стихло. Клочок бумаги, как больная птица, тяжело приподнялся над асфальтом, опустился наземь. Дерево неподалеку от второго подъезда отеля покачивало сонными ветвями. Сонная весенняя птица на самой его верхушке, на тонкой веточке с почками, пробовала голос, одна в большом городе. По мостовой проехал, шумно и самодовольно подпрыгивая, грузовик с ящиками, из которых торчали бутылки молока. Плывший над улицей туман нес запах озер и бензина, балконная ограда влажно блестела. Гайгерн нашел на балконе свои воровские шерстяные носки и поспешно сунул их в карман, где лежали перчатки и фонарик. И стоимостью полмиллиона жемчуг, от которого надо было избавиться. Он вернулся в комнату, но не задернул занавески, треугольник серого света упал на ковер и дотянулся до кровати, где спала Грузинская.
Она лежала вытянувшись, на спине, откинув одеяло, со склоненной к плечу головой. Постель была слишком большой для ее крохотной фигурки. Гайгерну, которому кровати в гостиницах, как правило, были коротки, это показалось смешным и трогательным. Внезапно ему пришла в голову неожиданная, подсказанная деликатностью идея. Он взял со стола чашку с вероналом, обе пустые коробочки из-под снотворного и отнес все в ванную. С заботливостью няньки чисто вымыл чашку, вытер ее полотенцем. И вдруг поцеловал в рукав купальный халат Грузинской, висевший в ванной на крючке. Пустые коробочки из-под лекарства деть было некуда, он сунул их в карман, где лежал жемчуг. Когда он снова вернулся в комнату, Грузинская вздохнула во сне. Он наклонился над нею и пристально вгляделся в ее лицо – она спала. Стало светлее. Теперь он близко и очень ясно видел ее лицо. Гладкие волосы были откинуты со лба и не закрывали впавших висков. Годы оставили синеватые тени под ее глазами. Все это Гайгерн заметил, но все это ему нравилось. Рот у нее был чудесный, подбородок нежный, однако уже увядший. Немного матовой пудры еще оставалось на лбу, там, где волосы мыском опускались на лоб. Гайгерн с улыбкой вспомнил, что среди ночи она вдруг вытащила из-под подушки пудреницу, прежде чем позволила ему зажечь ночник. «Теперь я все-таки тебя вижу», – подумал он с простодушным торжеством баловня женщин. Он изучал ее лицо, как незнакомую местность, куда отправляешься в поисках приключений. Чуть ниже висков он обнаружил две загадочные симметрично расположенные линии, которые шли вдоль щеки книзу до самой шеи. Они были не толще волоса и чуть светлее, чем остальная кожа. Он осторожно коснулся одной линии пальцем – это были тонкие шрамы, словно края маски обрамлявшие лицо. Внезапно Гайгерн понял, что это такое. Шрамы тщеславия – сделанные на коже надрезы, чтобы с помощью подтяжки вернуть лицу молодость. Ему случалось читать о подобных операциях. Гайгерн покачал головой, недоверчиво улыбаясь. И невольно пощупал свои виски – упругие, с бьющимся в них полным, здоровым пульсом.








