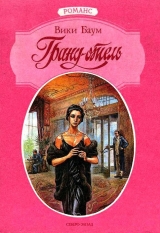
Текст книги "Гранд-отель"
Автор книги: Вики Баум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
– Для этого вам не нужно одеваться. Наоборот. – Прайсинг снова загорелся. Ему казалось, что он сказал тонкий каламбур.
Флеммхен меланхолически усмехнулась, что выглядело странно при ее веселой мордашке, похожей на цветок анютиных глазок.
– Значит, договорились? – спросил Прайсинг. – Тогда мне надо будет завтра уладить кое-какие формальности. Нужно оформить паспорта, а послезавтра мы сможем уехать. Вы рады, что едете в Англию?
– Очень, – ответила Флеммхен. – Так я завтра перетащу сюда свою портативку, и вы сможете мне диктовать.
– А сегодня, если вы не против… Я подумал, мы могли бы пойти сегодня в театр. Мы ведь должны выпить бокал вина за наш договор? Как вы на это смотрите?
– Прямо сегодня? Хорошо. Сегодня так сегодня. – Флеммхен сдунула прядь волос надо лбом, бросила в пепельницу окурок. Ей отчетливо была слышна музыка из Желтого павильона. «Нельзя получить все сразу, – подумала Флеммхен. – Тысяча марок. Новые платья. И Лондон. Все-таки не каждый день предлагают поехать в Лондон».
– Я должна позвонить сестре, – сказала она и поднялась.
Прайсинг, в котором нарастала горячая, страстная и благодарная волна, грозившая затопить его всего, подошел к Флеммхен сзади и мягко взял за локти. Она тут же прижала локти к бокам.
– Со мной будут ласковы? – тихо спросил Прайсинг.
И так же тихо, глядя куда-то на малиновый ковер под ногами, Флеммхен ответила:
– Если меня не будут торопить.
Крингеляйн – автомобилист, воздухоплаватель, триумфатор – мчится все дальше в стремнине этого дня – дня, когда он почувствовал, что живет. Может быть, так, как он сейчас, чувствуют себя отчаянные пилоты, когда входят в смертельно опасную мертвую петлю. Крингеляйн начал с того, что очертя голову сорвался вниз, и теперь его несло, увлекало все дальше и дальше, в соответствии с законами, которые лежали вне пределов его воли. Обернуться назад означало бы рухнуть вниз с огромной высоты, и потому он летит вперед, все дальше и дальше, вверх и вниз, куда – он сам уже не знает, он потерял всякую ориентировку. Он стал маленькой, со свистом рассекающей воздух кометой, которая вот-вот разлетится на множество атомов.
И вот уже снова несется автомобиль по дороге, вот уже снова они примчались в точку, где сходятся пути всего молодого Берлина, радиомачта вращается и бросает светлые пятна в темный город, перед Дворцом спорта черно – так много здесь собралось народу Люди, как пчелы на летке, сбиваются гроздьями, слышится негромкое несмолкающее жужжание. Крингеляйн никогда еще не видел такого огромного зала, как здесь, во Дворце спорта, и такого неимоверного скопления народа. Позади Гайгерна, который, словно ладья, плывет в толпе, Крингеляйн пробирается к своему месту – в одном из первых рядов, совсем близко от светлого, голого, освещенного ярко-белыми лучами четырехугольника, к которому устремлены четырнадцать тысяч пар глаз. Гайгерн не скупится на пояснения, но Крингеляйн все равно ничего не понимает. Он снова боится, Боже ты мой, как он боится самого себя, он же не выносит вида крови, драк и грубой силы. Именно сейчас он с ужасом вспоминает свою работу в военном госпитале, где во время войны был санитаром. Его направили в госпиталь, потому что для другой службы он оказался непригодным. Оробевший Крингеляйн с изумлением смотрит на мускулистых боксеров, которые выходят на помост: вот они сбросили халаты и демонстрируют публике свои крепкие тела. Крингеляйн почтительно прислушивается к голосу, который рычит в мегафон, Крингеляйн хлопает в ладоши, когда все в зале хлопают. «Если станет невмоготу, отвернусь», – думает он в начале первого раунда. Но сперва ему представляется, что те двое на высоком помосте, два худеньких, щуплых паренька с приплюснутыми носами, просто забавляются какой-то игрой «Да они играют, точно котята», – убеждает себя Крингеляйн и, почувствовав облегчение при этой мысли, улыбается. Гайгерн, напротив, теперь крайне серьезен, в нем угадывается такое напряжение, что Крингеляйну снова становится страшно. Зал замер, боксеры замерли. Иногда слышно, как они опасливо тянут носом воздух, а их танцующие ноги в спортивных ботинках на тонкой подошве переступают почти бес шумно. Потом в глубокой тишине вдруг раздается глухой округлый удар – и зал в первый раз взрывается шумом, летящим к самому потолку, где под стропилами крыши теряется в сумраке тысячеликая галерея. «Еще!» – проносится в мозгу Крингеляйна, при звуке удара он испытывает сладкое лихорадочное удовлетворение, на смену которому тут же приходит голод. Прозвенел гонг. Через канаты ринга попрыгали люди. Ведра, стулья, губки, полотенца перемахивают через канаты, боксеры сидят в противоположных углах ринга и шумно дышат, высунув языки, как загнанные собаки. Им смачивают водой губы, пить нельзя. Брызги долетают до Крингеляйна, он аккуратно смахивает их с пальто и с неожиданным для себя самого сочувствием смотрит на боксера, который отдыхает в ближнем от Крингеляйна углу ринга. Гонг. И тут же четырехугольник белого яркого света опустел, гомон зала оборвался, зрители следят за поединком. Удар, удар, удар! Крики на галерее. Тишина. Удар. Первая кровь – алая струйка бежит по лбу боксера, а он смеется. Удар, удар и вдруг – стон. Крингеляйн ощущает свои сжатые кулаки в карманах пальто, как два посторонних предмета. Гонг. Опять суета в углах ринга, там развеваются полотенца, там массируют, похлопывают потные блестящие тела. Внизу все лица стали зелеными и холодными от света, люди вскакивают с мест и жарко спорят между собой.
– Ну, наконец. Сейчас начнется, – говорит Гайгерн.
Третий раунд. Крингеляйн не без содрогания услышал сигнал о предстоящем волнующем событии. Боксеров на ринге не различить, потому что у обоих разбиты носы, и Крингеляйн только в перерывах болеет за того, что отдыхает в ближнем к нему углу. Боксеры набрасываются друг на друга с яростью, вот они крепко обхватили друг друга – на мгновенье кажется, будто это дикое, яростное объятие. «Брейк!» – вопит публика, все четырнадцать тысяч глоток. Крингеляйн тоже вопит. Пусть они дерутся, те двое на помосте, нечего прохлаждаться, привалившись к канатам! Больше всего на свете Крингеляйн хочет снова услышать глухой округлый сочный звук, с которым перчатка бьет по незащищенному телу.
– Блинкс спекся. Долго не продержится, – хмуро обронил Гайгерн. Его крепкие, как у молодого пса, зубы блестят из-под короткой верхней губы.
Рефери в белой шелковой рубахе бросился разнимать боксеров, он разводит в стороны запятнанные кровью мускулистые тела. Крингеляйн недоволен тем, что боксеры позволили себя разнять. Он впился взглядом в того, который «спекся», – на профессиональном жаргоне это, очевидно, означает, что боксер потерял сознание и умирает. У этого парня, по имени Блинкс, над правым глазом вздулась синяя шишка, похожая на диковинный плод, спина и плечи измазаны кровью, он часто сплевывает кровь на пол под ноги рефери. Блинкс низко опустил голову – наверное, так надо, но Крингеляйн по неопытности думает, что парень просто смертельно трусит. Всякий раз, когда Блинкс получает новый удар, Крингеляйна распирает от жгучей агрессивной радости, которая рвется наружу откуда-то из темных глубин его души. Ему мало того, что он видит. Каждый четкий, достигший цели удар он встречает сдавленным криком радости и сразу же начинает ждать – с раскрытым ртом, вытянув шею – следующего удара. Гонг. Перерыв. Гонг. Раунд. Гонг. Перерыв Раунд. Перерыв. Раунд…
В седьмом раунде с Блинксом было покончено. Он пошатнулся, как пьяный, грохнулся на пол, перевернулся на спину и остался лежать неподвижно. Двадцать восемь тысяч ладоней обрушились градом аплодисментов. Крингеляйн услышал свой хриплый вопль, увидел свои бешено хлопающие руки. Он не до конца понял, что произошло там, на помосте. Человек в шелковой рубахе стоял над побитым Блинксом и считал, отмахивая рукой, которая поднималась и опускалась, как молот. Один раз Блинкс все же пошевелился, точно упавшая на льду лошадь, но подняться не смог. Новый всплеск крика в зале. Люди полезли через канаты – объятия, поцелуи, рев мегафона, безумие галереи. Когда Блинкса уволокли с помоста, Крингеляйн в предельном изнеможении опустился на свое место и поник. Он пережил слишком сильное напряжение, плечи и руки заныли.
– Ого, да вы совсем скисли от восторга, – сказал Гайгерн. – А что, захватывает ведь, верно?
Крингеляйну вспомнился вчерашний вечер, прожитый им словно тысячу лет назад.
– Это совсем не то, что вчера на балете с Грузинской, – ответил он и с холодноватой жалостью вспомнил полупустой зрительный зал театра, призрачное и меланхоличное кружение нимф, раненую голубку, лунный свет на сцене, жидкие аплодисменты да комментарии доктора Оттерншлага.
– Грузинская! – повторил Гайгерн. – Ну конечно, это совсем другое дело. – В душе он улыбнулся. – У Грузинской слишком много кривлянья, – сказал затем Гайгерн и в эту минуту вдруг увидел ее, действительно увидел Грузинскую: она была в Праге, сидела в своей уборной, отдыхала и думала, что после вчерашней ночи чувствует себя усталой, но молодой и храброй…
– От этого боя и нечего было ждать. Главное впереди, – сказал Гайгерн.
Крингеляйн обрадовался обещанию. Ему и самому казалось, что должно быть намного, намного больше гулких ударов, и громче должны быть стоны, и безумнее сопереживание. «Дальше! – думал Крингеляйн. – Дальше! Дальше! Поехали!»
Дальше. На ринг вышли два великана, белый и негр. Негр – высокий, стройный, обтянутый мягкой черной кожей, отражающей серебристые световые блики. Белый – коренастый, с тугими мускулами и квадратным, как морда тигра, лицом. Крингеляйн тут же почувствовал любовь к негру. Весь зал почувствовал любовь к негру. Мегафон объявил имена боксеров. Во время их боя зал онемел. Снова все началось сначала: игра, танец, прыжки, крадущиеся шаги, пригнувшиеся спины, легкие отскоки, тесный обхват белого и черного тел в ближнем бою, жаркий, серьезный, как страсть, клинч. Удар, удар, удар – и гонг: передышка. Три минуты идет бой, затем минута передышки, три – одна, три – одна, и так пятнадцать раз кряду, час. Три минуты бокс, минута передышки. Но теперь бой идет совсем по-другому, живее, ярче, с внезапными атаками негра, с взрывами ярости белого, бой пылает, как беспощадное пламя.
Крингеляйн растворен. Он больше не существует сам по себе, в своем хрупком панцире, он – один из четырнадцати тысяч, его лицо – одно из бесчисленных зеленых исказившихся лиц, его вопль слит со всеобщим воплем, который рвется из всех глоток разом. Он дышит, когда дышат все, и замирает затаив дыхание, когда весь зал вместе с боксерами затаив дыхание замирает. Уши у Крингеляйна горят, кулаки сжаты, во рту пересохло, под ложечкой тянет, от возбуждения он часто сглатывает, хотя в горле сухо. Дальше! Дальше!
В двух последних раундах негр – его, Крингеляйна, негр – похоже, понемногу начинает брать верх над белым. Черные кулаки лупят короткими очередями кожаных ударов по мускулистому телу белого, который в этом раунде уже два раза бессильно повисал, раскинув руки, на канатах ринга. Оба боксера улыбаются, точно в наркотическом дурмане. Их дыхание вылетает, как шум из нутра машины. Последний раунд идет под неумолкающий рев и оглушительный топот зала. Крингеляйн вопит, топает ногами. Гонг. И – все кончено. Мегафон требует тишины. Мегафон объявляет результат. Мегафон провозглашает победу белого.
– Как?! Почему?! Возмутительно! – орет Крингеляйн. Он кричит вместе с четырнадцатью тысячами глоток, вскакивает на сиденье, все вокруг вскакивают на стулья и орут.
– Засудил! Засудил!
Беснуется зал. Беснуется Крингеляйн. Дальше! Еще! Дальше, дальше! Галерея грохочет, свистит, визжит – они того и гляди обрушатся, эти возмущенные деревянные балконы, сорвутся в клубы пыли, в жар и ярость недовольной толпы. За белыми канатами ринга боксеры пожимают друг другу руки в громоздких перчатках и улыбаются, как будто позируют перед фотоаппаратом. В зале хлынул ливень. Это летят сверху комья бумаги, пачки из-под сигарет, апельсины, бутылки, стаканы. Помост усеян растоптанными, мятыми клочьями, под крышей зала носится пронзительный свист, в задних рядах толкаются, дерутся, – похоже, в четырнадцатитысячной толпе начинается свалка. Что-то жесткое крепко ударило Крингеляйна по голове, но он не почувствовал боли. Его кулаки сжаты. Он хочет драться, наносить удары, хочет избить судью-мошенника. Крингеляйн оглядывается на Гайгерна. Того нет рядом. Он стоит впереди, у самого ринга, и смеется – так смеется человек, попавший под весенний дождь: и жадно, и удовлетворенно. Крингеляйна, чьи эмоции вырвались на свободу, вдруг охватывает чувство острой приязни к этому смеющемуся человеку, который стоит там, впереди, просто так, без дела, и кажется воплощением самой жизни. Гайгерн берет Крингеляйна за руку и тащит из обезумевшего зала. Крингеляйн прячется за его спиной, как за теплым непроницаемым щитом.
Дальше! Церковь Поминовения с белыми стенами в рефлексах тысяч сияющих огней, искрящиеся следы шин на маслянистом асфальте, люди – черные на фоне освещенных витрин Тауэнцинштрассе. Затем вдруг тишина и темнота под деревьями Баварского квартала, в поздний вечер врезаются маленькие площади, изгороди, фонари, гравий на дорожках. Дальше!
Игорный клуб. Просторные комнаты старомодной берлинской квартиры, которую переоборудовали под игорное заведение. В обшитые деревом стены въелся застоявшийся запах людей. Господа в смокингах, негромкие приветствия. Бессчетные пальто в гардеробе. Крингеляйн узнал бледного стройного и изящного человека в темном пиджаке. Этот человек отбрасывает волосы со лба так, словно отвергает собственное «я» Встреча с ним – в зеркале – поразила Крингеляйна. «А я выносливый», – думает он. На секунду ему, словно во сне, вспомнился друг, нотариус Кампман. Недолгая остановка в комнате с торшерами и ненастоящим камином в углу: здесь только пьют и беседуют. В следующей комнате расставлены столы для бриджа. «Нет более благородной игры, чем скат» [19]19
Несложная карточная игра.
[Закрыть], – думает Крингеляйн, с жадностью ожидающий новых необычайных событий.
– Идемте дальше, в самый конец, – говорит Гайгерн какому-то человеку. – Господин директор, пойдемте с нами, – приглашает он Крингеляйна.
В самый конец – это значит в конец мрачного длинного коридора, куда выходит несколько дверей. За самой последней коричневой двустворчатой дверью находится маленькая комната, все в ней тонет в коричневом полумраке, так что стен почти не видно. Свет горит только в середине комнаты над столом – так же во Дворце спорта был освещен только ринг в центре зала. У стола стоят и сидят люди, их не много, человек двенадцать или четырнадцать, у всех серьезные, озабоченные лица, играющие обмениваются короткими репликами, которые Крингеляйн не понимает.
– Сколько вы хотите поставить? – спрашивает его Гайгерн. Они подходят к конторке, за которой, как за кассой, стоит одетая в черное платье, похожая на гувернантку дама. – Сколько вы рассчитывали поставить?
Крингеляйн рассчитывал поставить десять марок.
– Я не знаю, господин барон, – нерешительно говорит он.
– Ну, скажем, пятьсот для начала, – предлагает Гайгерн.
Крингеляйн не в силах возразить, он достает свой потрепанный бумажник и выкладывает на стол пять пронумерованных купюр. За эти деньги он получает пригоршню разноцветных фишек – зеленых, синих, красных. Он слышит, как такие же фишки с костяным стуком падают на стол под квадратной лампой с зеленым абажуром. «Дальше!» – в нетерпении думает Крингеляйн.
– Теперь идите и ставьте, – говорит Гайгерн. – Объяснять вам что-то не имеет смысла. Ставьте как вздумается. Новички обычно выигрывают.
В который раз за этот день Крингеляйн идет навстречу опасности? Он уже знает, что и в жизни все обстоит так же. Наслаждения не бывает без страха, как ореха – без скорлупы. Это он теперь знает. Он догадывается, что за час или два может проиграть в этом клубе столько, сколько заработал за сорок семь лет своей цедившейся тонкой струйкой жизни в Федерсдорфе. Он знает, что здесь, в комнате с невидимыми во мраке стенами и зеленым столом, вокруг которого собрались немногословные люди, он снова должен мчаться вперед, чтобы проиграть или выиграть, чтобы прожить три-четыре недели на краю могилы, столько, сколько еще осталось. И Крингеляйн, достигший верхней точки мертвой петли, почти с любопытством ожидает того, что случится дальше. Дальше…
Уши и губы Крингеляйна горят, когда он подходит к столу и делает ставку. Ему кажется, что в руках у него песок. Маленькая лопатка загребает и уносит его зеленые фишки, красные и синие остаются на столе. Кто-то что-то говорит, но он не понимает ни слова. Он опять ставит. Проигрывает. Ставит – проигрывает, ставит – проигрывает. Гайгерн на противоположной стороне стола тоже ставит, один раз выигрывает, затем проигрывает. Крингеляйн бросает на него быстрый умоляющий взгляд, но Гайгерн ничего не замечает. Здесь все заняты только собой. Клинки взглядов вонзаются в зеленое сукно. Каждый собрал в кулак всю свою силу, всю волю, лишь бы заставить прийти выигрыш.
– Не везет, – говорит кто-то рядом с Крингеляйном. Слово-призрак, повисшее над зеленым бильярдным столом под зеленой лампой в коричневой уединенной комнате. Предоставленный самому себе Крингеляйн подходит к черной даме и покупает фишек еще на пятьсот марок. Возвращается к столу. Теперь уже другой человек сгребает лопаточкой фишки. Они тихо постукивают, их собирают в кучки руки – спокойные или суетливые. Крингеляйн держит свои фишки в левой руке, ставит правой, не раздумывая, почти не сознавая, что делает. Ставит – проигрывает. Ставит – выигрывает. И с изумлением видит, что его зеленая фишка вернулась к нему вместе с еще одной – красной. Он ставит и выигрывает. Ставит – выигрывает. Сует несколько фишек в карман, потому что не знает, куда их деть. Ставит и проигрывает. Проигрыш. Еще проигрыш. На несколько минут перестает играть. И Гайгерн не играет, курит, сунув руки в карманы.
– На сегодня все, – говорит он. – Плакали мои денежки.
– Разрешите, господин барон, – шепчет Крингеляйн и сует в руку Гайгерна одну из своих двух красных фишек.
– Я сегодня не в форме, какая уж тут игра, – бормочет Гайгерн. У него нюх на удачу – чутье неотъемлемо от его сомнительной профессии – и сейчас он чует, что удачи в последнее время нет. Если не считать удачей тайное приключение с Грузинской.
Крингеляйн возвращается к столу. Дальше!
Часы хрипло пробили час. Крингеляйн – в его мозгу вертятся с гудением лопасти самолетного винта – кончил играть и сдал в кассу фишки. Он выиграл три тысячи четыреста марок. Руки вдруг ослабели, пальцы затряслись, он мужественно преодолел дрожь. Никому не было дела ни до него, ни до его выигрыша. Крингеляйн выиграл сумму, равную годовому бухгалтерскому жалованью. Он затолкал деньги в потрепанный бумажник.
Гайгерн со скучающим видом, позевывая, смотрит на него.
– А я-то теперь сирота, господин директор. Придется вам обо мне позаботиться. У меня ни гроша не осталось, – говорит он безразличным тоном. Крингеляйн стоит перед ним с бумажником в руках, не зная, как поступить, не зная, чего ждет от него Гайгерн. – Придется мне завтра хорошенько вас растрясти, господин директор.
– Конечно, – непринужденно-светски отвечает Крингеляйн. – Ну, а что мы предпримем дальше?
– Господи помилуй! Вот это выносливость! Теперь остается только выпивка или женщины.
С побледневшим, осунувшимся лицом Крингеляйн уходит из зеркала, перед которым надевал шляпу. В ладонь карлика, распахнувшего перед ним и Гайгерном дверь, он кладет пятьдесят пфеннигов. Потом опять сует руку в карман, нашаривает там сто марок и, уже выходя на темную и тихую улицу, протягивает карлику смятую в комок купюру. Крингеляйн потерял ориентировку. Он больше не знает, что такое деньги. В мире, где утром тратят тысячу марок, а вечером выигрывают три с лишним, бухгалтер Отто Крингеляйн из местечка Федерсдорф блуждает, как в лабиринте или в волшебном лесу, без дороги и огня. На улице возле фонаря стоит четырехместный автомобиль, молчаливый, но живой; в том, как он ждет хозяина, есть что-то от терпеливого ожидания доброго пса, и при виде автомобиля сердце Крингеляйна наполняется умилением и благодарностью.
Дальше! Дальше! Начал накрапывать дождь. Стеклоочистители щелкают и выписывают полукружия перед глазами Крингеляйна: влево – вправо, влево – вправо. Запах бензина уже стал родным, привычным и теплым. В мокром асфальте отражаются длинные полосы красного, желтого и зеленого. Слепящий белый огонь рядом с черными фигурами рабочих – это сваривают трамвайные рельсы, глубокой ночью, с жарким упорством. Автомобиль едет очень медленно, слишком медленно – так кажется Крингеляйну. Он искоса поглядывает на Гайгерна. Гайгерн курит. Его взгляд устремлен на дорогу, мысли – Бог весть где. Город в половине второго ночи выглядит так, будто произошла какая-то катастрофа. Город не спит, на улицах полным-полно людей, их сейчас едва ли не больше, чем днем, и множество машин, которые переругиваются на беззащитных перекрестках, где не видно полицейских. Над городом – красное, как зарево пожара, небо катастроф, через равные промежутки времени в нем вспыхивают светлые сполохи – это вращающийся прожектор радиомачты. Дальше! Дальше!
Впереди тремя маршами поднимается лестница, на ней шум голосов и музыка. Внизу флажки и бумажные гирлянды, на середине – тусклые зеркала в позолоченных гипсовых рамах, кругом незнакомые люди – много пьяных, много печальных. Девушки с тонкими фигурками, с черными обводами вокруг глаз. Крингеляйн поднимается по лестнице, протискивается между напудренными голыми спинами. Все вокруг тонет в табачном дыму, густой синий дым клубится на лестнице, под модными лампами с бумажными колпачками. Внизу шум был громкий и грубый, но на втором этаже слышатся приятные звуки музыки, они доносятся откуда-то из-за портьеры – там танцуют. Еще этажом выше тишина. На ступеньках лестницы сидит девушка в ярко-зеленых брюках, в руке у нее стакан. Когда Крингеляйн с Гайгерном поднимаются, девушка притворяется спящей. Полой нового пиджака Крингеляйн задевает ее голое плечо, и его охватывает предчувствие чего-то необычайного. За одной из дверей открывается длинное помещение. Здесь темно, лишь тускло мерцают два-три напольных светильника, обтянутые бумагой. И здесь играет музыка, Крингеляйн ее слышит, но музыкантов нигде не видно. В свете напольных ламп танцуют девушки – видны только ноги до колен, выше все исчезает в темноте. Крингеляйну, как маленькому, хочется ухватиться за руку Гайгерна. Все вокруг смутно и неясно; о том, что происходит за размалеванными стенами, которыми отделены друг от друга низкие столики с мягкими диванами, можно лишь догадываться. Крингеляйн вдруг осознает, что пьет холодное шампанское. У него начинаются видения: множество тел, чуждых, жутких и соблазнительных, тянется к нему Крингеляйн тихо поет своим высоким тенором, вторит мелодии двух невидимых скрипок. Он поет и раскачивается в такт. Его голова лежит на прохладном сгибе мягкой женской руки.
– Еще бутылку прикажете? – строго спрашивает официант.
Крингеляйн заказывает еще бутылку. Ему жаль официанта, который, по-видимому, страдает болезнью легких, – такое, во всяком случае, у него лицо, когда он, появившись из темноты в полосе света, склоняется над своим блокнотом. Крингеляйн размяк, ему безумно жаль официанта и девушек, которым так весело и у которых нет ничего, кроме ног, которым приходится танцевать в столь поздний час, и еще ему безумно жаль себя. Он притягивает к себе на колени вялое, безвольное и абсолютно равнодушное тело какой-то девушки. Колени у него начинают дрожать, он старается разглядеть лицо сидящей. От запаха пудры и незнакомого тела Крингеляйн впадает в пьяную восторженную меланхолию. Он поет. Гайгерн, занятый своими мыслями, сидит рядом на плетеном стуле, будто верный оруженосец, и слушает, как Крингеляйн выводит высоким вибрирующим тенорком: «Радуйтесь жизни, пока горит лампада…» «Мещанин, – со злостью думает Гайгерн. – По дороге домой заберу у тебя бумажник, и прочь отсюда, в Вену», – так думает он, уже балансируя на самом краешке смертельной пропасти…
Крингеляйн стоит в маленькой душной уборной и плещет воду себе в лицо, на котором снова и снова выступает холодный пот. Достает из кармана пузырек с «Бальзамом жизни» и без всякой надежды отпивает глоток, затем другой, третий. «Я не устал, – говорит он себе, – ничуть не устал. Никакой усталости нет и в помине». Этой ночью он готов к великим свершениям. С гадливостью ощущая во рту горький привкус бальзама, Крингеляйн возвращается к девушке, в мягкий, как подушка, сумрак. Дальше! Дальше! Дальше!
Крингеляйн тянется к ее губам, словно перед ним неведомый и полный опасностей остров. Пристав к берегу, он бросает якорь. Мелкая пьяная рябь уносит его вдаль.
– Веди себя хорошо, малыш, – раздается над ним чей-то голос. Он лежит неподвижно и прислушивается, прислушивается к чему-то в себе. В эти минуты мечтательного дурмана он снова чувствует, что руки у него полны красной спелой сочной малины, как однажды в лесу близ Микенау, и тут на него накатывает что-то страшное, оно – как меч, или молния, или огненное крыло…
Гайгерн услыхал стон Крингеляйна. Резкий, дикий крик, полный страха и человеческого страдания.
– Что случилось? – с испугом спросил Гайгерн.
– Ох… Больно. – Сдавленный голос исходил из темноты, в которой едва виднелось лицо Крингеляйна.
Гайгерн поднял с пола и поставил на стол светильник. И увидел, что Крингеляйн сидит напряженно выпрямившись, стиснув руки, сцепив их, как звенья цепи. На светильнике был синий абажур, и потому лицо было синим – с большой круглой черной дырой рта, из которого рвался стон. Гайгерну эта маска страдания была знакома с войны, он видел лица тяжелораненых. Он быстро подсунул руку под голову Крингеляйна, по-братски крепко обхватил его трясущиеся плечи.
– Что, напился? – спросила девушка. Она была совсем молоденькая и ничем не примечательная, в черном платье с блестками.
– Брысь! – шикнул Гайгерн.
Крингеляйн поднял на него измученный, обезумевший от боли взгляд и с усилием заставил себя сделать жалкую героическую попытку держаться с элегантной непринужденностью.
– Вот я и спекся, – прошептал он синими губами. Крингеляйн хотел передать то оглушающее, обморочное, судорожное, обрушивающееся, что творилось с ним. Жалкий, но все же мужественный юмор. Шутливые слова вдруг оборвались и перешли в стон.
– Да что с вами? – испуганно спросил Гайгерн.
И Крингеляйн едва слышно ответил:
– Кажется… Кажется, я умираю…








