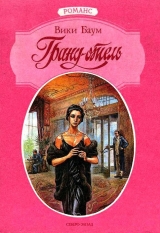
Текст книги "Гранд-отель"
Автор книги: Вики Баум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Глава VI
Понятия о нравственности в Гранд-отеле были растяжимы. Разумеется, в таком отеле не допускалось, чтобы господин Прайсинг, генеральный директор, принимал в своем номере секретаршу. В то же время никто не возражал, когда он снял для этой дамы номер за свой счет. Он совершил это деяние сразу же после решительного разговора с Флеммхен. Перед графом Роной он предстал с красными от смущения щеками и говорил запинаясь. Рона, который неплохо разбирался в людях, извинился и сказал, что в настоящее время свободен только двухместный 72-й номер, отделенный от люкса, 71-го номера Прайсинга, ванной комнатой. Прайсинг ради приличия что-то буркнул – это должно было означать подавленное неудовольствие, и в тот же миг, сгорая от нетерпения, бросился в омут с головой.
Утром Прайсинг получил почту из Федерсдорфа, несколько деловых писем и письмо от мамусика, в котором и Беби нацарапала пару строк. Но Прайсинга уже унесло далеко от родных берегов, он плыл по самой стремнине, увлекаемый потоком, что порой захватывает мужчин в его возрасте, и наш новый Прайсинг прочел письмо мамусика равнодушно, не испытав угрызений совести, да еще и во время завтрака, который был сервирован в его номере для двоих – для Прайсинга и аппетитной, свежей и абсолютно невозмутимой Флеммхен.
Крингеляйн тоже получил письмо из Федерсдорфа. Он сидел в постели, болей не было, минуту назад он подкрепился «Бальзамом» и принял отчаянное решение – любой ценой не упустить пронизывающее, острое ощущение жизни, которое впервые испытал вчера. Ночью он преодолел страх смерти, прошел через этот страх и остался жив, теперь он чувствовал себя сделанным из прозрачного, как стекло, но очень твердого металла. Надев пенсне на тонкий нос, который теперь стал как будто еще тоньше, Крингеляйн прочел письмо. Фрау Крингеляйн написала его на листке в синюю линейку, вырванном из тетради для записи хозяйственных расходов.
«Дорогой Отто! – писала фрау Крингеляйн, женщина, которая никогда не была ему близка, а сейчас и вовсе скрылась из виду в немыслимой дали. – Дорогой Отто! Я получила твое письмо. Болезнь твоя лишь оттого, что ты не сопротивляешься ей, папа тоже так считает. Папа заставил меня подать прошение в администрацию, чтобы мне дали материальную помощь, но ответа я пока не получила. Пишу я тебе в основном из-за нашей плиты, потому что дальше так продолжаться просто не может. Приходил Биндер, осмотрел дымоход, он говорит, что нет тяги, и вообще во всем фабричном поселке печи выходят из строя. А раз так, пускай они доплачивают нам за уголь! С таким дымоходом угля не напасешься, а кто же будет оплачивать счета за уголь? Я говорила с Биндером, он сказал, что меньше чем за 15 марок ремонтировать наш дымоход не согласен. Но зато мы сэкономим на угле. Конечно, расход очень большой. Вот я и хочу, чтобы ты как можно быстрее ответил, что же делать с плитой. Так дальше жить нельзя. Но и 15 марок отдать за какую-то негодную плиту тоже не дело. Я по секрету поговорила еще с Китцау, он в таких делах знает толк, да только он не сказал ни да, ни нет. Я спросила, будет ли у нас уходить меньше угля, если мы отремонтируем плиту, так он говорит, что ничего гарантировать невозможно. Я им на фабрике устроила шум из-за плиты, дошла, хоть и не без труда, до самого Шрибеса. И потребовала: пусть они нам за свои денежки плиту отремонтируют, это же будет по справедливости, раз поселок наш фабричный. Но они там, наверху, ничего знать не желают. Шрибес позволяет себе разные непотребные вещи, гадкий человек. А беспокоится он лишь о своем собственном кармане. Получить бы только деньги в больничной кассе. Папа говорит, что они, может, и кинут тридцатку, но мне не верится – сквалыга Прайсинг ни гроша не даст. Так как же быть, ремонтировать плиту или нет? Ты получишь в больничной кассе еще сколько-нибудь, когда приедешь в санаторий, или тебе уже все выплатили? Здесь все говорят, будто ты от работы бегаешь, а жалованье прикапливаешь. Мне прямо проходу не дают, все от зависти лопаются. Так что ты выясни про это дело в больничной кассе. Фрау Прам говорит, пока ты болен, они не имеют права высчитывать с тебя проценты в больничную кассу, и ты, если не дурак, должен за этим проследить – так она сказала. У нас погода плохая, а какая в Берлине? До свидания. Твоя Анна.
Сразу же напиши ответ насчет плиты. Не ждать же до твоего возвращения. Плита так дымит, что глаза слезятся».
Держа это письмо ухоженными пальцами, Крингеляйн минут десять просидел на краю постели в глубокой задумчивости, но думал он не о Федерсдорфе, и не о жене Анне, и не о плите, и не о вчерашнем приступе болезни и своем страхе смерти. Он думал о другом. О самолете и о том, что его даже не затошнило, когда они поднялись в воздух. О пронзительном и прекрасном чувстве отваги и гордости, которое нахлынуло на него, когда над его головой в окне самолета вдруг показался накренившийся мир, а он не испугался.
«Сейчас я встану и пойду поговорю с Прайсингом», – подумал Крингеляйн и с этим решением вылез из кровати. Разговор с Прайсингом нужно было довести до конца, иначе все прочее теряло и смысл, и цель. Крингеляйн принял ванну, натянул на себя облик нового Крингеляйна – господина, одетого в шелковую рубашку, изящного покроя пиджак и преисполненного чувства собственного достоинства. Его сердце было твердым, как сжатый кулак, когда, подойдя к 71-му номеру, он открыл наружную дверь и постучал по светлому лакированному дереву внутренней.
– Войдите! – крикнул Прайсинг. Крикнул скорее машинально, но еще и по глупости, потому что на самом деле вовсе не хотел, чтобы кто-то его беспокоил во время завтрака с жизнерадостной Флеммхен. Но раз уж он сказал «войдите», дверь распахнулась. Явился Крингеляйн.
Его явление в номере Прайсинга было подобно взрыву, потрясшему Гранд-отель, и особенно его третий этаж – этаж приличной публики, не говоря уж о 71-м номере. Крингеляйн был в своей новой элегантной шляпе, которую надел лишь ради того, чтобы не снимать перед Прайсингом. И он не снял шляпу.
– Доброе утро, господин Прайсинг, – сказал Крингеляйн, небрежно коснувшись полей шляпы двумя пальцами. – Мне надо поговорить с вами.
От такого обращения Прайсинг окаменел.
– Что вам угодно? Как вы сюда попали? – спросил он, в изумлении уставившись на Крингеляйна в элегантном пиджаке, на Крингеляйна в фетровой флорентийской шляпе, на этого младшего бухгалтера Крингеляйна из конторы по начислению жалованья, на его лицо, решительное, словно лик глашатая Страшного суда.
– Я постучал, вы ответили «войдите», – сказал Крингеляйн с поразительной легкостью. – Мне надо с вами поговорить. Разрешите сесть.
– Пожалуйста, – безропотно молвил Прайсинг, когда Крингеляйн уже опустился на стул.
– Если я помешал, прошу извинения у дамы, – весьма находчиво сказал Крингеляйн.
Флеммхен оживилась и приветливо ответила:
– Да ведь мы с вами знакомы, господин директор. Мы же танцевали с вами фокстрот, и так славно!
– Да, да, конечно. – Крингеляйн откашлялся. Сердце билось прямо у него в горле. Затем настало молчание.
Наконец генеральный директор произнес директорским тоном:
– Говорите же. В чем дело? У меня нет времени. Я собираюсь продиктовать фройляйн Фламм несколько писем, срочно.
Крингеляйн не сгорбился, как бывало раньше, при звуке директорского голоса. Правда, подходящее начало для разговора он нашел не сразу:
– Моя жена пишет, что у нас снова неисправна кухонная плита. А фабрика отказывается произвести за свой счет необходимые ремонтные работы. Это никуда не годится. Мы живем в фабричном поселке и квартирную плату вносим своевременно, она вычитается из моего жалованья. Следовательно, фабрика обязана заботиться, чтобы в домах поселка все содержалось в надлежащем порядке и чтобы мы не дышали дымом из-за неисправных дымоходов. – Так начал Крингеляйн разговор с генеральным директором.
У Прайсинга над переносицей появилось багровое пятно, однако он ответил, стараясь не потерять самообладания:
– Вам известно, что меня лично подобные вопросы не касаются. Если у вас есть жалобы, обращайтесь в строительную контору. Просто неслыханно – обременять подобными вещами меня!
Точка. Фраза была закончена. Но Прайсинг не удержался и добавил:
– Строишь для людей поселок, а они, вместо благодарности, наглеют. Просто неслыханно.
Прайсинг встал, однако Крингеляйн не двинулся с места.
– Прекрасно. Оставим это, – бросил он небрежно. – Вы считаете, что можете позволить себе оскорбительные выражения. Но я этого не потерплю. Вы думаете, что вы лучше других людей. А вы самый заурядный человек, господин Прайсинг, даром что жена ваша богачка и живете вы на вилле. Вы самый заурядный человек, и так, как вас, никого больше не бранят в Федерсдорфе. Вот вам правда.
– Меня это не интересует. Меня это абсолютно не интересует. Уходите! – крикнул Прайсинг.
Но Крингеляйн обнаружил в своей душе такой капитал силы, о каком и не подозревал. Двадцать семь лет подневольного существования нашли выход в словах. Крингеляйн был заряжен электричеством, словно динамо-машина.
– Нет, интересует, – ответил он. – Такие вещи вас очень даже интересуют. Иначе почему на вашей фабрике полным-полно доносчиков и шпионов? Эти ваши лизоблюды – Шрибес, Куленкамп, все эти мерзавцы, подонки, которые топчут ногами тех, кто ниже по положению, и лебезят перед начальством! Стоит кому-нибудь хоть на три минуты опоздать – они уже доносят. Они и к служащим втерлись в доверие, об этом всей фабрике известно. А когда ты работаешь как проклятый, из последних сил, губишь свои легкие, то этого никто не замечает. Как же, ведь хозяева за это платят. А можно ли на такие деньги жить по-человечески, вам дела нет, господин Прайсинг. Вы-то разъезжаете в автомобиле, а мы резиновые калоши купить не можем. А когда из тебя выжмут последние соки, когда состаришься, никто о тебе не позаботится. Старик Ханнеман проработал на фирме тридцать два года, а теперь сидит без гроша. Пенсию не получает, зато катаракту на обоих глазах заработал.
Если бы Прайсинг действительно был свирепым тираном – а именно таким рисовался его образ воображению мелкого служащего Крингеляйна, – он немедленно вышвырнул бы вон дерзкого бухгалтера. Но Прайсинг был порядочным, доброжелательным и неуверенным в себе человеком, он ввязался в дискуссию:
– Заработная плата начисляется в соответствии с тарифами. Кроме того, у нас имеется специальный фонд для служащих, – обиженно возразил он. – О Ханнемане я ничего не знал. Кто он такой?
– Хороши тарифы! Хорош фонд! – вскричал Крингеляйн. – В больнице меня поместили в палату третьей категории, а врачи, между прочим, назначили мне особый режим питания – сыр, салями и прочее, вот как я должен был питаться в течение четырех дней после операции. Жена подавала прошения одно за другим, но никакой прибавки к жалованью я так и не получил. Санитарную машину, чтобы добраться до больницы в Микенау, я тоже оплатил из собственного кармана. У меня вырезали желудок, однако велели, чтобы я ел сыр. А когда я проболел ровно месяц, вы прислали мне письменное сообщение, что я буду уволен, если проболею еще пару дней. Было такое письмо или нет, господин Прайсинг, отвечайте!
– Я не могу помнить все письма, которые мы рассылаем служащим. Но в конце концов, фабрика – не дом престарелых, и не больница, и не богадельня. Вы сейчас тоже числитесь больным, а сами живете здесь, как какой-то граф или авантюрист.
– Возьмите ваши слова обратно! Немедленно возьмите обратно, сейчас же, в присутствии дамы! – закричал Крингеляйн. – Да кто вы такой? Как вы смеете меня оскорблять? Что вы о себе воображаете? Вы что, считаете, что я – дерьмо? А если уж я дерьмо, то вы тем более. Вы, генеральный директор, – дерьмо! Поняли? Дерьмо!
Они вскочили и, ничего не соображая от ярости, осыпали друг друга бранью. Прайсинг побагровел до синюшного оттенка, на верхней губе у него блестели капли пота. Крингеляйн весь пожелтел от злости, губы у него сделались совершенно бескровными, локти, плечи, все его тело тряслось. Флеммхен переводила глаза с одного на другого. Ее голова поворачивалась то влево, то вправо, как у несмышленого котенка, который следит за бантиком, что болтается перед его носом на ниточке. Но она все-таки поняла, что хотел высказать Крингеляйн, и поняла неплохо, несмотря на сбивчивую речь, а поняв, почувствовала к нему симпатию…
– Как мы живем, вы, наверное, вообще не знаете? – кричал Крингеляйн. Его светлые усы взъерошились, губы побелели. – Ничего нет хуже нашей жизни! Как будто лезешь и лезешь вверх по голой стене, или как будто тебя заперли в подвале, где ты должен сидеть всю жизнь. Год ждешь, другой ждешь, третий, получаешь свои сто восемьдесят, через пять лет тебе прибавляют – получаешь двести и опять карабкаешься, карабкаешься и снова ждешь. И все время думаешь: ничего, потом будет лучше, потом я смогу завести ребенка, но до этого так и не доходит, а потом даже собаку пришлось отдать, потому что нет денег, и ждешь, когда освободится место получше, чем твое, и работаешь, работаешь до седьмого пота, сверхурочно работаешь, и никто за сверхурочные тебе не платит, а потом кто-то другой занимает хорошее место и получает триста двадцать и надбавку для семейных, а ты остаешься с носом. А почему? Потому что генеральный директор Прайсинг ничего не знает. Потому что генеральный директор Прайсинг всегда продвигает по службе не тех, кто этого заслуживает. Даже Бреземан так считает. А мой юбилей? Двадцатилетний юбилей моей службы! Ничего более убогого и представить себе нельзя. Может быть, вы меня поздравили? Может быть, кому-нибудь пришло в голову, что надо поднести мне поздравительный адрес? Сидишь, горбишь спину за столом, но никто даже не почешется прийти поздравить тебя с юбилеем. Ты думаешь: нет, не может такого быть, погоди, тебе устроят настоящий сюрприз, ведь не может такого быть, чтобы они о тебе забыли, что они забыли, что ты двадцать лет прослужил в конторе! В их конторе! Двадцать лет! И вот обеденный перерыв закончился, и вот уже шесть часов, и ты надеваешь пальто, но сам-то все ждешь, ждешь, а ничего так и не происходит. Плетешься домой, стыдно перед женой, стыдно перед другом Кампманом. «Ну что? – говорит Кампман, – на славу тебя почествовали?» – «Да, – отвечаю, – весь стол цветами завалили и дали пятьсот марок, сам генеральный директор произнес речь, очень хорошо говорил, отметил, что я всегда последним ухожу из конторы после окончания рабочего дня». Вот что я сказал Кампману, чтобы не позориться. А полтора месяца спустя вызывает меня Бреземан и говорит: «Я слышал, что вы уже двадцать лет у нас работаете. Наверное, у вас есть какие-то пожелания?» И я ему сказал: «Сдохнуть поскорее, вот все мои пожелания, потому что от такой собачьей жизни одна тоска». И тогда Бреземан пошел к старому хозяину, и тот с первого мая назначил мне четыреста двадцать в месяц. Но собачья жизнь так и осталась собачьей жизнью. И я поклялся, что однажды генеральный директор услышит от меня всю правду…
Сперва Крингеляйн говорил громко, но чем дальше он говорил, тем голос его становился слабее, сила куда-то уходила, нарастала грусть. Прайсинг ходил по комнате, заложив руки за спину. Половицы поскрипывали под его тяжестью. То, что Флеммхен присутствовала при разговоре и внимательно слушала, переводя взгляд с одного на другого, взбесило Прайсинга. Он резко остановился перед Крингеляйном и грозно надвинулся на его щуплую фигурку в новом пиджаке своим объемистым животом.
– Что вам, собственно, нужно от меня? Я вас вообще не знаю, – холодно, в нос, сказал он. – Ворвались сюда, понимаете ли, нагло ворвались в мой номер и произносите тут революционные речи. Какое мне дело до вашего юбилея? Какое мне дело до вас? Я не могу вникать в проблемы всех служащих нашего предприятия. У меня других забот хватает. И я не почиваю на ложе из роз: вот уж чего нет, того нет. Любой человек, если ему свойственны добросовестность и трудолюбие, может заработать деньги и сделать карьеру. А прочая публика меня не интересует. И вы меня не интересуете. Я вас знать не знаю. И все, хватит с меня.
– Ах вот оно что, вы меня не знаете. Зато я вас отлично знаю. Я вас знал еще тогда, когда вы приехали в Федерсдорф, когда вы были наемным служащим и жили в подсобке сапожника. Да вы остались должны моему тестю за колбасу и масло! Я прекрасно запомнил тот день, когда вы перестали первым со мной здороваться, господин Прайсинг, я помню и то, как вы начали увиваться за дочерьми старого хозяина. Я вел дневник, господин Прайсинг, писал про вас в этом дневнике, так что не думайте, что там что-нибудь упущено или забыто. Да если бы кто-то из нас натворил таких глупостей в малом, каких вы наворотили в крупных масштабах, то он уже давно вылетел бы со службы. А ваше надменное лицо, а с каким видом вы проходите по коридору в правлении! А как вы смотрите на людей – словно сквозь человека, как будто его вообще не существует! Один-единственный раз в мои бухгалтерские книги вкралась ошибка, и недостача-то была всего триста десять марок – никогда не забуду, каким тоном вы тогда со мной разговаривали! А восемьсот рабочих, которых вы уволили? Они и сегодня плюют вам вслед, я-то знаю. Вы разъезжаете в авто и всю улицу провоняли выхлопным газом, отравили наш воздух, и при этом воображаете, будто вы какой-то особенный. А я вам говорю, что…
Крингеляйна заносило все дальше и дальше. Он смешал в одну кучу все обиды и всю накопившуюся за двадцать семь лет службы ненависть, важные вещи и мелочи, правду и собственные измышления, факты и сплетни служащих. В сущности, слова, которые выплеснулись здесь, в гостиничном номере, были жалобами человека деликатного и неудачливого на человека, который простыми и довольно жестокими средствами прокладывает себе дорогу в жизни, – жалобами искренними, но несправедливыми и невероятно смешными… В свою очередь, Прайсинг, абсолютно не способный войти в положение другого человека, постепенно разъярялся все больше и больше. Когда Крингеляйн припомнил ему давнишние долги, сделанные в маленькой и душной бакалейной лавчонке Зауэркаца в те времена, когда Прайсинг был наемным служащим, у него чуть не закружилась голова, и он испугался, как бы его на месте не хватил удар. Прайсинг слышал свое тяжелое дыхание, с шумом вылетавшее из груди. Его глаза застилал багровый туман – так сильно налились кровью мелкие жилки. Он шагнул к Крингеляйну, схватил за жилетку и встряхнул, как пучок соломы. Новая шляпа свалилась с головы Крингеляйна на пол. Прайсинг бросился топтать ее, словно озверев. Как ни странно, но этой грубой выходке Крингеляйн обрадовался. «Ну, ударь, ударь беззащитного, смертельно больного человека! С тебя станется ударить», – подумал он почти весело. Флеммхен, замершая над чайным сервизом Гранд-отеля, шептала:
– Нет, нет, нет…
Прайсинг отбросил Крингеляйна к стене и рывком распахнул дверь.
– Хватит! – крикнул он. – Молчать! Убирайтесь вон, немедленно! Вы будете уволены. Я вас увольняю! Вы уволены, уволены!
Крингеляйн уже поднял с пола свою шляпу, но при этих словах остановился на пороге. Лицо у него стало белым, как лист бумаги. Наружная дверь в коридор была еще закрыта, и, прислонившись трясущейся, взмокшей от пота спиной к ее светлому лакированному дереву, Крингеляйн вдруг засмеялся, широко раскрыв рот, засмеялся прямо в бешеные глаза Прайсинга.
– Вы меня увольняете? Вы мне грозите увольнением? Да вы не можете меня уволить, господин Прайсинг, вы ничего не можете мне сделать, ровным счетом ничего, ровным счетом… Я ведь болен. Смертельно болен, слышите вы? Я скоро умру, жить мне осталось неделю или две. Мне никто ничего не может сделать. Прежде чем вы успеете меня уволить, я умру, – выкрикивал Крингеляйн, трясясь от смеха, но глаза у него все же снова наполнились едкой влагой. Флеммхен приподнялась с дивана и наклонилась вперед. Прайсинг тоже подался вперед. Его руки со сжатыми кулаками опустились, потом он сунул их в карманы брюк.
– Приятель, да вы что, сумасшедший? – сказал он тихо. – Вы что, шутите? Вас, что ли, радует, что вы смертельно больны? Наверное, вы малость повредились в уме.
И тут Крингеляйн вдруг снова стал серьезным и задумчивым, даже несколько смущенным, пожалуй. Он еще немного постоял перед закрытой второй дверью, обвел косящими глазами небольшой номер, задержал взгляд на Флеммхен, стоявшей в солнечном луче возле окна, потом – на крупной фигуре генерального директора, который стоял, сунув руки в карманы, потом взглянул на двери в спальной и ванной. Все виделось ему смутно и дрожало из-за отвратительных слез, застилавших усталые глаза. Крингеляйн поклонился.
– Прошу у дамы извинения за причиненное беспокойство, – проговорил он приятным высоким голосом.
Прайсинг, у которого совесть была нечиста, воспринял его слова как гнусный и подлый намек. Кулаки снова вылетели из карманов.
– Вон!
Но Крингеляйн уже исчез. Прайсинг энергично прошелся из конца в конец комнаты, раз, другой, третий. Виски у него сдавило, переносица покраснела.
– Ну что? – сказала Флеммхен.
И вдруг генеральный директор бросился к дверям, распахнул их и, как сбесившийся слон, затрубил в коридор:
– Вас разыщут! За вами будут следить! Мы узнаем, где вы украли деньги, чтобы тут развлекаться! Коммунист! Мошенник! Бессовестный подлый негодяй! Я велю арестовать вас! Арестовать!
Но Крингеляйна нигде уже не было видно.
– Вообще-то он очень симпатичный. А сейчас под конец он даже заплакал, – сказала Флеммхен, которая во время всей сцены не произнесла ни слова.
– Не снимай чулочки. Ты в них так мило выглядишь, – сказал Прайсинг. Он сидел в шезлонге в 72-м номере, у Флеммхен.
– Нет. Мне так не нравится. Не могу же я ходить тут в чулках и туфлях.
Ее тело цвело, как цветок, в мерцании ночника, бросавшего красноватую тень на матовое золото кожи. На плечах и коленях, на всей упругой молодой коже Флеммхен лежали мягкие блики. Она села на кровать, сняла синие туфли, затем неторопливо, бережно стащила с ног новые шелковые чулки. Свет лился в нежную впадину на ее груди; когда она наклонялась, позвонки играли. Прайсинг взирал на эту красоту затаив дыхание.
– Какая ты прелесть! – сказал он, не осмеливаясь, однако, встать с неудобного шезлонга. Флеммхен оглянулась на него через плечо и кивнула, одобрительно, подбадривающе. Она отнесла чулки на стул, где уже было аккуратно, как у пай-девочки, сложено и повешено платье и крепдешиновое белье. Прайсинг наконец поднялся и двинулся к Флеммхен под скрип своих сапог. Осторожно вытянул вперед палец, поросший светлыми волосами, с опаской тронул спину Флеммхен, словно перед ним был неизвестный дикий, страшный зверь. Флеммхен улыбнулась и добродушно спросила:
– Ну что?
Она немного нервничала и беспокоилась. Со своей стороны она хотела как можно добросовестней выполнить все условия своего неписаного договора с Прайсингом. В конце концов, порядочный человек не согласится принять тысячу марок и поездку в Англию плюс новое платье-костюм и многое другое просто так, ничего не давая взамен. Но этот генеральный директор был такой беспомощный, ужасно беспомощный, вот уже второй вечер он все только ходит и ходит вокруг да около – так думала Флеммхен о робких ухаживаниях Прайсинга, и ей было крайне неприятно. У нее появилось чувство, будто она попала на прием к совсем неопытному дантисту, который должен запломбировать ей зуб. Флеммхен была бы рада, если бы самое неприятное уже было позади, однако все тянулось и тянулось, не двигалось с места и действовало ей на нервы. Она придвинулась ближе к Прайсингу, но пугливый палец уже спрятался в жилетный карман, где, в соседстве вечного пера, видимо, решил пока что передохнуть после опасных похождений. Флеммхен вздохнула и повернулась к генеральному директору лицом. Совершенство ее нагого тела вызвало у него восхищение и вместе с тем испуг.
– Ну вот я тебя и вижу. Вот мне и можно на тебя посмотреть, – смущенно сказал он. Тело Флеммхен дышало такой целомудренной чистотой и свежестью, что вид его вызывал у генерального директора не желание, а прежде всего страх. – Какая ты… На снимке в журнале ты совсем не такая, – сказал он чуть ли не с огорчением.
– Не такая? А какая же?
– Более кокетливая. Там у тебя какой-то особый шарм, понимаешь?
Флеммхен поняла. Она догадалась, что Прайсинг втайне разочарован ее холодной готовностью, а сам не готов, с непривычки не может решиться, да и кровь у него давно загустела. Она ничем не могла ему помочь и подумала: «Уж какая есть», а вслух сказала:
– Да, для снимков фотограф всегда ставит меня в дурацкую позу. И потом, они же наносят ретушь. Фото нравится вам больше, чем я сама?
– Что ты выдумываешь! Ты прелесть, – Прайсинг повторился, его запас нежных слов был ограничен. – Но почему бы нам не перейти на «ты»? Пожалуйста, говори мне «ты».
Флеммхен энергично тряхнула головой:
– Нет.
– Нет? Да почему же?
– Потому что… Нет, и все. Не могу. Не буду. Вы же чужой человек, так с какой стати мне вам тыкать? Все прочее… Я пойду вам навстречу во всем прочем, но говорить вам «ты» не могу.
– Что за странное ты создание, Флеммхен! – вздохнул Прайсинг, глядя на ее голую кожу в отблесках света и накрашенный рот. – С тобой надо держаться настороже.
– Вовсе я не странная, – возразила Флеммхен, и на ее лице появилось строптивое выражение. У Флеммхен было свое особенное целомудрие. – Я должна иметь возможность вовремя отступить, – попыталась она объяснить отказ. – Я могу поехать с вами в Англию и все такое, но я не хочу, чтобы за мной потом тянулся хвост. Говорить вам «ты» – это и есть хвост. Вот встречу я вас когда-нибудь потом, через полгода, и скажу: «Здравствуйте, господин генеральный директор». А вы всем объясните: «Это секретарша, которая работала со мной в Манчестере». И все будет в порядке. А на «ты»… Вам ведь тоже было бы неприятно, если бы я встретила вас с женой и закричала бы: «Привет, пупсик!» Или малыш, или котик. «Эй, котик, ну как живешь?»
И в самом деле, при последних словах генеральный директор вздрогнул. То, что в такую минуту ему напомнили о мамусике, было уже слишком. Только этого не хватало. Однако чувство чего-то запретного, грешного, непозволительного и порочного уже поднималось горячей волной в его крови со слегка повышенным – по причине избыточного питания и начинающегося склероза – артериальным давлением. Прайсинг сел на стул и глубоко вздохнул. Стул тоже охнул. Войдя в контакт с грузной особой генерального директора, паркет жалобно скрипел, мебель кряхтела, двери с треском хлопали. Прайсинг поднял руки и в пылком мужественном порыве положил их на мягкий изгиб бедер Флеммхен. Восхищенные и жаждущие наслаждения ладони вместо ожидаемого ощущения чего-то мягкого встретили тело крепкое, упругое, как надутая резина. Он усадил Флеммхен к себе на колени, те сразу начали подрагивать, но Прайсинг приказал коленям не трястись.
– Какие у всех вас мускулы! Как у мальчишек, – смущенно пробормотал он.
– У кого это – у всех?
– У тебя и… у других девушек, которых я знаю, – ответил Прайсинг. На самом деле он в эту минуту вспомнил, как выглядели его дочери в купальных костюмах. Флеммхен понемногу начинала зябнуть, и близость теплого тела Прайсинга была ей приятна. Она отказалась от сухого «вы» и стала вообще избегать прямого обращения.
– Смотри-ка, он знает девушек! – сказала она и взъерошила Прайсингу волосы, которые лишь вчера так замечательно подстриг и сбрызнул одеколоном столичный парикмахер. «Ну наконец-то, теперь все пойдет нормально», – подумала она.
– Конечно знаю. А ты что думала? Я не какой-нибудь слюнтяй. Могу потягаться с разными симпатичными молодыми людьми, которые танцуют в Желтом павильоне. Смотри, какой я сильный! – И Прайсинг согнул руку, демонстрируя бицепсы. Тут он почувствовал, что к нему вернулось счастливое, хмельное и хвастливое настроение, с которым он вчера вышел из конференц-зала после успешно проведенных переговоров, и сломя голову ринулся в это потрясающее приключение. – Пощупай, какой я крепкий, пощупай! – сказал он, придвинув руку к Флеммхен. Она из вежливости потрогала бицепс. Действительно, мышцы у Прайсинга были удивительно крепкие и объемистые, что было незаметно под серым сукном костюма.
– О! Как сталь, – похвалила она бицепс. Затем слезла с неудобных колен Прайсинга и отошла на несколько шагов, заложила руки за голову и взглянула на генерального директора, слегка прикрыв глаза. Под мышками у нее были такие же светлые завитки, как непослушная прядь надо лбом. Прайсинг вдруг ощутил, что сердце у него болезненно сжалось, и еле слышно прошептал:
– Ты будешь со мной ласкова?
– Ну да, конечно, – вежливо, с готовностью ответила Флеммхен. В следующее мгновение Прайсинг ринулся к ней, словно разорвав какие-то узы, сокрушив стену, сбежав из тюрьмы. Он вырвался из самого себя, этот корректный, совестливый, осмотрительный генеральный директор, взлетел, точно ракета, и приземлился в объятиях Флеммхен. «Ну наконец», – подумала она, ничуть не удивившись этому порыву, страху и пылкости, которые вдруг охватили Прайсинга. Она обняла его за шею, и он почувствовал, что ее руки сомкнулись, как две теплые волны, в которых он рад был утонуть, а в глазах Прайсинга вдруг завертелись водоворотом телеграфные бланки, бесчисленные телеграфные бланки, потом померкли, стали темно-багровыми, темно-синими и исчезли наконец в тот миг, когда он ощутил на накрашенных губах Флеммхен запах фиалок.
Поздний вечер. Танцевальная музыка из Желтого павильона лишь угадывалась; ее вибрация пронизывала все стены в Гранд-отеле. Час с лишним назад портье Зенф уступил рабочее место ночному портье. Доктор Оттерншлаг поднялся к себе в номер и теперь лежал с закрытыми глазами и открытым ртом на кровати как пьяная мумия. Маленький чемоданчик доктора стоял, как всегда, собранный, готовый к последнему вояжу, но и в этот вечер Оттерншлаг опять не принял окончательного решения, которое было необходимо для выполнения последней мелкой формальности. В 68-м номере настойчиво стучала пишущая машинка, там поселился представитель американской кинематографической компании, и на кровати, помнившей Грузинскую и ночь ее любви, теперь были горой навалены целлулоидные пленки, которые американец просматривал, прежде чем печатать ответы на деловые письма. Звоночки пишущей машинки были слышны и в 70-м номере, где сидел в ванне Отто Крингеляйн. Он наблюдал за фокусами, которые вытворяла пузырящаяся таблетка ароматической соли на белой эмали ванны. Крингеляйну было грустно, и поэтому он тихонько, робко напевал, стараясь приободрить себя. Сидя в ванне, Крингеляйн пел, как поет заблудившийся в лесу ребенок. День у него прошел плохо, принес одни разочарования, объяснение с Прайсингом отняло страшно много сил: после этого разговора Крингеляйн сник и обессилел. Но что было хуже всего, Гайгерн, этот мотор, этот источник энергии, этот горячий, согревающий решительный человек, двигатель со скоростью 120 км в час, куда-то пропал. Сидя в смягчающей боли теплой воде, Крингеляйн чувствовал себя так, словно уже дочитал до конца последнюю страницу своей жизни и ничего, совсем ничего там уже не осталось…








