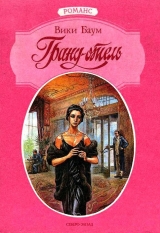
Текст книги "Гранд-отель"
Автор книги: Вики Баум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Вверх по лестнице поднимался курьер номер 18, Карл Ниспе, он то останавливался, то шел дальше, то останавливался, то шел. Под глазами у него были темные, как грим, тени. Он часто сглатывал слюну, под ложечкой у него сосало от нервного перевозбуждения, которым сплошь и рядом страдают служащие гостиниц. Карл Ниспе приходил на службу из жалкого закоулка в убогом заднем дворе, проводил день в холле отеля среди колонн и ковров, возле итальянского фонтана и после окончания рабочего дня возвращался в темное пролетарское бытие. Семнадцатилетний парень, еще не созревший, он обзавелся девушкой, так называемой невестой, и не мог удовлетворить требований, которые она к нему предъявляла, потому что получал мизерное жалованье. И вот он нашел в зимнем саду портсигар из чистого золота. Четыре дня портсигар пролежал в надежном тайнике, фактически это означало, что Карл Ниспе его украл. Теперь же он решился, переборол себя и решился расстаться с портсигаром, вернуть вещь владельцу, сказав, что нашел. И вот с бьющимся сердцем Карл Ниспе подошел к дверям 69-го номера, снял кепи, отчего его лицо вдруг из официального и деловитого стало обыкновенным человеческим лицом, и, простояв возле двери минут семь, наконец постучал в такт громкому стуку своего сердца.
Карл Ниспе видел, что барон фон Гайгерн четверть часа назад взял у портье свой ключ и поднялся в номер, однако за дверью никто не откликнулся на стук. Курьер немного подождал, потом, набравшись смелости, открыл наружную дверь и постучал во внутреннюю. Между дверями на крючке для одежды был аккуратно повешен смокинг барона, оставленный здесь для лакея, который должен был его отутюжить. Курьер постучал снова. Никакого ответа. Подождал, опять постучал. Ответа не было. Он нажал на ручку внутренней двери – дверь оказалась незапертой, в комнате никого не было. Карл Ниспе, кое-что понимавший в людях, ухмыльнулся и тихо присвистнул, потом положил нагревшийся в руке портсигар на стол. В комнате был беспорядок, горел свет и пахло совсем не по-гостиничному – здесь стоял запах мяты, лаванды, сигарет и сирени, дышалось легко и приятно. Несколько веточек оранжерейной белой сирени стояло в вазе. На письменном столе Карл Ниспе увидел фотографию овчарки. В центре комнаты дремала пара лакированных ботинок барона, у них были серьезные и самодовольные физиономии. Карл Ниспе с усмешкой принюхался к воздуху в номере и преисполнился почтения к атмосфере элегантного холостяцкого быта, потом о чем-то задумался и вдруг с сильно забившимся сердцем схватил со стола портсигар, сунул к себе под рубашку и бесшумно вышел из номера.
В маленьком служебном помещении, мимо открытой двери которого курьер прокрался на цыпочках, сидела за столом горничная, она писала письмо. На третьем этаже было очень тихо, на лестнице жужжал вентилятор. В Желтом павильоне теперь играли танго.
В 72-м номере, дорогом двухместном люксе, который генеральный директор Прайсинг снял для своей секретарши, музыка тоже была слышна. Прайсинг вынырнул из помадного фиалкового аромата первого поцелуя и спросил:
– Ты слышишь?
– Да. Давно слышу. Музыка. Я люблю, когда музыка доносится издалека, вот как сейчас, – сказала Флеммхен.
– Музыка? Ах нет. Ты ничего не слышишь, кроме музыки?
Вид у Прайсинга был довольно встрепанный. Он сидел на краю кровати и к чему-то прислушивался. От напряжения его брови высоко поднялись, на лбу выступила целая система морщин, сложившаяся за долгие годы, насыщенные сложными деловыми операциями.
– Мне все время что-то слышится, – с беспокойством сказал Прайсинг.
– Да что? Где? – Флеммхен уже хотелось спать. Она нетерпеливо обхватила Прайсинга за шею.
– Я слышу какой-то шорох, – упрямо ответил Прайсинг и уставился на дверь, соединявшую ванную его номера с номером Флеммхен. Перейдя из своего номера сюда, Прайсинг дверь не закрыл.
– Я тоже что-то слышу, – сказала Флеммхен, положив руку на его жилетку. – Слышу, как у вас стучит сердце. Очень четко слышу, вот: тук-тук, тук-тук…
Сердце Прайсинга в объемистой груди и впрямь производило неподобающе громкий шум. Оно стучало глухо и сильно, как насос, под серым сукном костюма. Прайсинг по-прежнему не спускал глаз с открытой двери, на белизне которой, проступавшей в полутемной комнате, лежали розовые блики света от ночника.
– Пусти-ка. Надо же посмотреть, что там, – сказал он, отбросил руки Флеммхен и встал. Кровать охнула, когда он поднимался. Флеммхен пожала плечами, глядя вслед Прайсингу. Три скрипучих шага – и Прайсинг скрылся в ванной.
Вторая дверь ванной, маленькая одностворчатая дверь из светлого дерева, обычно была закрыта. Она отделяла апартаменты, где жил генеральный директор, от номера секретарши. Отель ничего не предпринял, чтобы устранить эту преграду. Наоборот. У двери не было ручки, и если она была заперта, то открыть ее было невозможно. Но Прайсинг пустил в ход особый ключ, из тех, что использовались на его фабрике; он всегда носил ключ с собой и теперь отпер закрытую дверь. В этот вечер он покинул свой добропорядочный номер с мешочками для обуви, коробками для воротничков, футлярами для мочалок и аккуратными удобными мелочами, обеспечивающими комфорт доброго семьянина. Он прошмыгнул через маленькую дверь в недостойное, полное неожиданностей приключение.
В ванной, где Прайсинг не задержался, было темно. Капала вода. Рядом за стеной была маленькая гостиная, тоже темная. Никаких подозрительных звуков. Секунду Прайсинг не двигался, потом пошарил по стене в поисках выключателя, но не нашел. Он на ощупь пробрался к закрытой двери в свою спальную и тут вдруг замер и остановился затаив дыхание посреди комнаты. Он хорошо помнил, что, уходя, погасил в спальной свет, теперь же свет горел. Тонкая ниточка света лежала на полу под дверью, она вздрогнула от грузного шага Прайсинга, затем исчезла – свет погас. Прайсинг словно прирос к полу и несколько мгновений простоял не шелохнувшись, пристально глядя туда, где только что виднелась узкая полоска света и где сейчас было темно. Темнота не была полной – обычный полумрак гостиничного номера: на фасаде горели прожекторы, на противоположной стороне улицы – световая реклама и фонари. Неподвижно стоя в полутьме, Прайсинг ожидал чего-то крайне неприятного, но не мог сообразить, чего именно. Он смутно догадывался, что в спальную пробрался этот полупомешанный бухгалтер, ведь сегодня утром он вдруг явился в номер во время завтрака. А сейчас бухгалтер стоит там и радуется, что застиг генерального директора в разгар любовного приключения, и этот мстительный Крингеляйн или Крюкеляйн – как там его? – этот подозрительный тип готовит генеральному директору какую-то жуткую пакость. Разоблачения, шантаж, да Бог его знает, на какую гнусность он способен.
Все это мгновенно пронеслось в возбужденном мозгу Прайсинга, прежде чем он рывком распахнул дверь спальной.
Там было темно и тихо. Никого не было видно. Не слышно дыхания. Прайсинг тоже затаил дыхание.
Он нашарил позади себя на стене выключатель и повернул рычажок. В следующее мгновение в комнате вдруг снова стало темно, она лишь на миг, как молнией, озарилась короткой вспышкой электрического света, так что генеральный директор не успел ничего увидеть. Последовала секунда напряженного, томительного ожидания. Мозг Прайсинга работал яростно, в бешеном темпе. «Возле двери в коридор есть еще один выключатель, – как бы сам по себе соображал этот взвинченный мозг. – Там кто-то стоит. Когда я включил свет, тот человек его выключил».
– Кто здесь? – излишне громко спросил Прайсинг охрипшим голосом, звука которого сам испугался. Ответа не последовало. Прайсинг бросился вперед, налетел на письменный стол, больно ушибся о его край. Он включил настольную лампу. И оцепенел.
Рядом со шкафом возле двери в коридор стоял какой-то человек. Мужчина, молодой парень в пижаме. Но это был не бухгалтер. Это был – Прайсинг разглядел в зеленоватом свете лампы его лицо – это был другой человек, элегантный красавчик, которого он видел в холле и в Желтом павильоне, тот тип, что танцевал с Флеммхен. Он стоял у двери и улыбался, обратив к чужой спальной исказившееся зеленое лицо.
– Что вы здесь делаете? – сдавленно произнес Прайсинг. Ему было страшно стука собственного сердца, в коленях и в кончиках пальцев неприятно покалывало.
– Прошу прощения! – сказал барон Гайгерн. – Кажется, я ошибся дверью.
– Что?.. Что? Ошиблись? Это мы проверим, – Прайсинг двинулся вдоль стола, грозно пригнув голову, словно зверь. Все у него в глазах заволокла красная пелена, но вдруг он каким-то чудом совершенно ясно увидел, что на письменном столе нет его бумажника. Перед тем как открыть дверь в номер Флеммхен и перейти туда, Прайсинг с присущим ему педантизмом положил бумажник на привычное место.
– Мы проверим, ошиблись вы или не ошиблись, – услыхал он свой собственный голос и разжал руки, вцепившиеся в край письменного стола.
В тот же миг Гайгерн резко выбросил вперед руку и прицелился прямо в лицо Прайсинга.
– Ни с места, или я стреляю, – негромко сказал он.
В какую-то отчаянную секунду Прайсинг увидел перед собой черное дуло пистолета.
– Что?! Стрелять будешь? – проревел он, схватил какой-то предмет, сделал какое-то движение… Он почувствовал, что его рука замахнулась чем-то тяжелым и всей тяжестью обрушила удар – жестокий удар, хрустящий удар, толчком отдавшийся в плече. Удар поразил парня в голову.
Еще мгновение барон удивленно смотрел на Прайсинга, потом колени Гайгерна подогнулись, он повалился на чемодан, который стоял рядом со шкафом, потом, одолев это препятствие, ничком упал на пол и остался лежать без движения. Все стихло.
– Стрелять вздумал. Вот и получил, – сказал Прайсинг, с шумом выдохнув воздух, и точно из глубокого омута вынырнул из приступа страха и ярости. – Вот и получил, – снова сказал он, глядя на сбитого с ног молодого человека. Эти слова прозвучали уже спокойнее, с извиняющейся и укоризненной интонацией. Лежащий на полу ничего не ответил. Прайсинг наклонился к нему, но не прикоснулся. – Эй, что там с вами случилось? Слышите, что с вами? – спросил он вполголоса.
Теперь Прайсинг вдруг отчетливо услышал музыку, которая доносилась, видимо, из Желтого павильона. И снова услышал мощные, как насос, толчки своего сердца и свое дыхание. Он слышал даже, как капает в ванной вода. Но человек на полу не издавал ни звука. Прайсинг огляделся. В своей правой руке он обнаружил предмет, которым нанес удар. Чернильница, бронзовая чернильница с простершим крылья орлом. Прайсинг увидел, что руки у него в черных пятнах, брюки, пиджак – тоже. Он вытащил платок и начал энергично оттирать пятна, потом тихо поставил чернильницу на место. Потом снова подошел к человеку, лежащему на полу.
– Он без сознания, – вслух сказал Прайсинг и опустился на колени рядом с лежащим. Половицы заскрипели громко, пронзительно, как живые. Прайсинга охватило безотчетное смятение. «Я велю его арестовать», – подумал он, но был слишком взволнован, чтобы позвонить и вызвать прислугу. Прайсингу стало не по себе: очень странно лежал этот человек – раскинув руки, вниз лицом, – похоже было, что затылок у него проломлен. Прайсинг поискал на ковре пистолет, но не нашел. В комнате стояла гнетущая тишина – секунду назад в этой комнате раздавался шум, стук падения. Преодолев что-то в себе, Прайсинг приподнял лежащего за плечи, перевернул на спину, чтобы положить его поудобнее.
И тогда он увидел открытые глаза Гайгерна. А потом увидел, что Гайгерн не дышит.
– Что же такое случилось? – прошептал он. – Что же такое случилось? Что же такое случилось? Что же такое случи… – Он шептал и шептал одни и те же слова, ничего не понимая, не находя ответа. Он сидел на корточках возле убитого и шептал, шептал… – Что же такое случилось? Что же такое случилось?
Гайгерн слушал с улыбкой, с любезным выражением. Он уже умер, уже покинул Гранд-отель, удрал туда, где никто не мог его поймать. Но руки у него, лежащего на полу в 71-м номере, все еще были теплыми. Зеленый свет настольной лампы падал на его красивое, четко очерченное лицо с застывшим выражением безмерного удивления…
Такую картину обнаружила в 71-м номере Флеммхен, когда спустя четверть часа тихонько прошла через запретную дверь, чтобы посмотреть, где же Прайсинг. Флеммхен босиком подошла к порогу спальной, остановилась и, прищурившись, заглянула в комнату.
– В чем дело? С кем вы тут разговариваете? Вам что, стало плохо? – Флеммхен почти ничего не могла разглядеть в темноте.
Прайсинг трижды пытался заговорить и лишь с четвертой попытки ответил:
– Случилось такое… – прошептал он. Голоса, каким это было сказано, в Федерсдорфе никто никогда не слышал.
– Господи помилуй! Что случилось? Здесь совсем темно! – Флеммхен зажгла верхний свет. Белые жесткие лучи ударили в комнату. – Ох, – только и вырвалось у Флеммхен, когда она увидела лицо Гайгерна. Это был тихий, совсем короткий стон боли.
Прайсинг поднял голову.
– Он хотел меня застрелить. Я только ударил… – шепотом сказал он. – Надо вызвать полицию.
Флеммхен наклонилась к Гайгерну.
– Он же смотрит, – тихо сказала она, как бы в утешение. «Значит, он мертв? Он был такой милый», – подумала она простодушно и протянула руку к лицу Гайгерна.
– До прихода полиции здесь ничего нельзя трогать, – сказал Прайсинг очень четко и громче, чем хотел. Лишь теперь Флеммхен осознала, что произошло.
– Ох! – Она отшатнулась, голова у нее закружилась, стены начали рушиться, валиться прямо на нее. Она бросилась прочь, едва не упала, выбежала из дверей, побежала спотыкаясь мимо дверей, дверей, дверей…
– Помогите, – тихо позвала она. Все двери кренились, все были заперты. Лишь одна дверь отворилась.
Флеммхен увидела отворившуюся дверь и больше уже ничего не видела.
Бывает, в коридорах Гранд-отеля стоит такой шум, что постояльцы жалуются администрации. Каждую минуту грохочет лифт. Трещат телефоны. Люди громко смеются, кто-то насвистывает, кто-то хлопает дверью, в конце коридора переругиваются две горничные, и в коридоре полно народу: если пойдешь в туалетную комнату, то, как ни досадно, по дороге встретишь человек восемь. Но иногда коридор бывает пустым и безмолвным. Можно голышом бежать по нему, натыкаясь на стены, можно кричать: «На помощь! Помогите!» Но никто вас не услышит…
Однако Крингеляйн, которому не спалось, потому что он ждал пробуждения болей в желудке, Крингеляйн, которого болезнь и страх смерти сделали человеком остро чувствующим и тонко слышащим, Крингеляйн услышал жалобный голос Флеммхен, когда она металась в коридоре. Он не притворился глухим, как американский кинематографист, что жил рядом в 68-м номере. Он немедленно вылез из постели и открыл дверь.
И в это мгновение в его жизнь вошло чудо – чтобы завершить и наполнить его жизнь.
В это мгновение Крингеляйн увидел невообразимо прекрасное обнаженное тело Флеммхен. Девушка пошатнулась, тяжело повисла на его руках и затихла.
В это мгновение Крингеляйн не потерял голову и силы не изменили ему, хотя Флеммхен была для него слишком тяжелой. Беспомощное золотисто-смуглое горячее тело, упавшее в его протянутые руки, наполнило Крингеляйна восторженным ужасом, неописуемым восхищением, однако он совершил целую серию вполне разумных действий. Положив голову Флеммхен к себе на плечо, он подхватил ее под коленями, рывком поднял и перенес на кровать. Потом запер обе двери номера и только тогда глубоко вздохнул – кровь все, же слишком быстро отлила от сердца. Из опущенной руки Флеммхен выпал на пол какой-то предмет – это была синяя, довольно потрепанная туфля с высоким каблуком; до того как потерять сознание, Флеммхен прижимала ее к груди. Она схватила туфлю, ничего не соображая, как будто спасалась от пожара, от землетрясения, и эта синяя туфля была той единственной вещью, которая осталась у Флеммхен после катастрофы. Крингеляйн взял руку Флеммхен и осторожно положил на постель. Затем, оглядевшись в комнате, нашел свой пузырек с «Бальзамом жизни» и влил несколько капель лекарства в рот Флеммхен. По ее лицу пробежала слабая дрожь, но обморок был глубоким – Флеммхен не могла глотать. Дышала она глубоко, при каждом вздохе светлый завиток надо лбом слегка приподнимался и снова опускался. Крингеляйн побежал в ванную, намочил полотенце холодной водой, сбрызнул его вдобавок туалетной эссенцией – надо заметить, со вчерашнего дня у элегантного господина Крингеляйна завелись подобные вещи – и вернулся к Флеммхен. Он осторожно смочил ей виски и лоб, потом под округлой грудью нашел ее сердце и приложил к нему холодное влажное полотенце. После этого Крингеляйн стал ждать.
Он не знал, что на его лице появилось выражение робкого и огромного, безграничного изумления. Не знал, что на губах расцвела новорожденная улыбка семнадцатилетнего мальчишки. Наверное, он не знал даже того, что в эту минуту, когда он стоял возле кровати и смотрел на девушку, он по-настоящему, действительно жил, жил полной жизнью. Это чувство было знакомо ему по снам: почти болезненный жар, ноющая боль, переполнившая его, и легкость, и зыбкость, и растворенность в чем-то до последнего остатка – да, он знал это чувство лишь во сне и не подозревал, что можно пережить такое наяву. В больнице он испытал однажды нечто подобное – под наркозом, перед тем как синяя пена, плывшая в его глазах, стала черной; в глубине души, тайно от всех Крингеляйн именно так представлял себе и смерть – как ни с чем не сравнимое празднество, как нечто совершенное, когда не остается ничего, когда все растворяется без остатка. Но сейчас, в эти минуты, стоя над потерявшей сознание девушкой, которая прибежала к нему в поисках защиты, Крингеляйн о смерти и думать не думал.
«Это существует, – думал он. – Это существует. Такая красота есть на свете. Не нарисованная на картине, не описанная в книге, не жульническая, как в театре. Да, это существует. Такая красивая девушка, прекрасная девушка, совершенно прекрасная, совершенно прекрасная – он искал другого слова, но не находил. – Совершенно прекрасная, совершенно, совершенно…»
Флеммхен поморщилась. Приходя в себя, по-детски выпятила губы и наконец открыла глаза. В ее зрачках круглыми белыми бликами отразилась лампа, Флеммхен сощурилась, потом вежливо улыбнулась, глубоко вздохнула и шепотом сказала:
– Спасибо… – И сразу же снова закрыла глаза – видимо, она хотела спать.
Крингеляйн поднял сползшее на пол одеяло, осторожно накрыл им девушку. Потом пододвинул к кровати стул, сел и стал ждать. Прошло довольно много времени.
– Спасибо, – снова прошептала Флеммхен.
Она уже пришла в сознание и старалась разобраться в своих мыслях, расставить все по местам. Некоторое смущение вызывало у нее то, что Крингеляйна она сначала приняла за другого человека, одного из своих прежних приятелей, которого очень любила и о котором сильно горевала, когда они расстались. Светло-голубая полосатая пижама и настороженно-ласковая заботливость Крингеляйна – именно они ввели Флеммхен в заблуждение.
– Как я сюда попала? Что ты здесь делаешь? – спросила она.
Неожиданное «ты» испугало Крингеляйна, страх был сладким и пронизывающим, но раз уж случилось чудо, то он обращение на «ты» принял как что-то вполне естественное.
– Ты в беспамятстве пришла ко мне, – ответил он просто.
Флеммхен сразу поняла, что перепутала Крингеляйна с другим, сразу все вспомнила и рывком села в постели.
– Извините, пожалуйста, – прошептала она. – Случилось ужасное несчастье. – Она спрятала голову под одеяло, прижала его край к глазам и заплакала.
И в тот же миг глаза Крингеляйна тоже наполнились слезами, а губы, пытавшиеся улыбнуться, задрожали.
– Такое ужасное несчастье, ужасное, ужасное, ужасное… – Флеммхен плакала очень легко, легкие и светлые слезы катились градом, омывали ее, несли облегчение. Она утирала слезы простыней, белое полотно покрылось множеством маленьких красных отпечатков сердцевидной формы – от накрашенного рта.
Крингеляйн смотрел на Флеммхен, и в уголках глаз у него щипало от сдерживаемой острой жалости. Наконец он положил руку на затылок Флеммхен.
– Ну, ну, ну, ну… Да, да, да… Ну, ну…
Флеммхен подняла на него мокрые глаза.
– Ах, так это вы, – пробормотала она радостно, лишь теперь узнав в тщедушном человечке, сидевшем на краю кровати, того худощавого господина, который вчера так сильно робел во время танца, а сегодня утром так храбро напал на Прайсинга. Приятное чувство надежности и защищенности наполнило Флеммхен здесь, в его постели, под его рукой, которая мягко поглаживала ее по затылку. – Да, мы знакомы, – сказала она и с благодарностью, невинно, как зверек, потерлась щекой о его руку. Крингеляйн замер и собрал все свои силы – неожиданно возросшие силы – и воинственность.
– Что с вами стряслось? Вас обидел Прайсинг?
– Не меня, – тихо ответила Флеммхен. – Не меня…
– Хотите, я потребую у него объяснения? Я не боюсь Прайсинга.
Флеммхен посмотрела на подобравшегося, напрягшегося Крингеляйна и о чем-то глубоко задумалась. Она попыталась восстановить в памяти страшную картину, которая открылась ей в 71-м номере: два человека в зеленом свете лампы, один – мертвый, лежит на полу, другой – живой, растерявшийся, сидит рядом на корточках. Но увиденное уже поблекло в податливой душе Флеммхен. Лишь губы крепко сжались, да руки от волнения она стиснула при этом воспоминании.
– Он его убил, – прошептала она.
– Убил! Кто? Кого?
– Прайсинг. Барона. Убил.
Крингеляйн с головой ушел в глубокий омут, но удержался на плаву, вынырнул.
– Это же… Это же невозможно! Этого не может быть, – сказал он заикаясь.
Крингеляйн не заметил, что обеими руками обхватил Флеммхен за шею и придвинулся совсем близко к ее лицу. Он неподвижно смотрел ей в глаза, она так же неподвижно смотрела на него. Наконец она молча энергично кивнула три раза головой. Почему-то лишь после этого Крингеляйн поверил тому невероятному, что она сказала. Его руки упали.
– Барон убит? Да ведь он же был – сама жизнь. Сама сила, вот какой он был… И чтобы какой-то Прайсинг…
Крингеляйн встал и начал ходить по комнате, бесшумно ступая худыми ногами в новых домашних туфлях, сильно скосив глаза от волнения. Мысленно он видел, как Прайсинг идет по коридору в третьем корпусе «Саксонии», где находилось правление фирмы, идет и никому не отвечает на поклоны. Он слышал, как наяву, холодный гнусавый голос, раздававшийся во время совещаний о тарифах заработной платы, он чувствовал, как стены трясутся в минуты, когда на генерального директора находил один из приступов гнева, которых боялась вся фабрика. Крингеляйн остановился у окна; глядя на задернутые занавеси, он видел перед собой Федерсдорф.
– Это должно было случиться. Это должно было случиться, – сказал он наконец, и щуплое тельце мелкого подневольного человечка наполнилось радостью: справедливость восторжествовала. – Пришла его очередь! Его арестовали? Откуда вы вообще обо всем узнали? Как это случилось?
– Прайсинг был у меня в номере. А дверь была открыта. Потом он вдруг сказал, что ему что-то послышалось. И ушел. Я на минутку заснула, наверное. Потому что мне все время очень хотелось спать. А потом я услышала голоса, но они были совсем не громкие, а потом что-то упало на пол. Прайсинг все не возвращался. И тут мне стало не по себе, и я пошла в тот номер – дверь же была не заперта. И там он лежал. С открытыми глазами. – Флеммхен опять натянула одеяло повыше, закрыла побелевшее лицо и заплакала, во второй раз изливая в слезах печаль по убитому Гайгерну. Она не умела выражать свои чувства, но на сердце у нее было так, словно она вдруг лишилась чего-то чудесного, чего-то, что больше уже никогда, никогда не вернется. – Вчера он со мной танцевал и был такой милый! А теперь его нет, и он никогда не придет, – плакала Флеммхен в теплой темноте пухового одеяла.
Крингеляйн отошел от занавешенного окна, откуда открывался вид на ненавистный Федерсдорф его воспоминаний, и сел на краю кровати. Он даже обнял Флеммхен за плечи – Крингеляйну казалось, что вполне естественно вот так утешить и защитить плачущую девушку. Ему тоже было жаль Гайгерна, Крингеляйн грустил молчаливой суровой грустью – по-мужски, хотя так до сих пор до конца и не осознал, что его вчерашний друг сегодня мертв.
Наплакавшись, Флеммхен вновь стала рассудительной и деловитой, что было свойственно ее натуре.
– Может быть, он и правда хотел его ограбить. Но нельзя же за это убивать! – сказала она тихо.
Крингеляйну вспомнилась загадочная история с бумажником, которая произошла минувшей ночью. «Ему были нужны деньги, – подумал он. – Наверное, он весь день пробегал в поисках денег. Смеялся и любезничал, а сам, наверное, сидел без гроша. Может быть, он и решился на какой-то отчаянный шаг. И этот Прайсинг, такой вот Прайсинг его убил…»
– Нет, – сказал он вслух.
– Сегодня утром ты все правильно говорил Прайсингу, – сказала Флеммхен, тихонько покачиваясь из стороны в сторону. Она даже не заметила, что снова перешла на «ты». Ей казалось, что они с Крингеляйном давно знакомы, и в этом не было ничего странного. – Прайсинг мне сразу не понравился, – наивно добавила она.
Несколько минут Крингеляйн обдумывал жестокий вопрос, который еще со вчерашнего дня тревожил его сердце, с того времени, когда Флеммхен ушла вслед за Прайсингом из танцевального зала.
– Почему же ты… Почему же ты с ним пошла? – наконец задал он этот вопрос.
Флеммхен доверчиво поглядела ему в глаза.
– Из-за денег, разумеется, – ответила она просто.
И Крингеляйн сразу понял.
– Из-за денег, – повторил он. Не переспросил, а именно повторил. Жизнь самого Крингеляйна была битвой за мелкие гроши, так разве мог он не понять Флеммхен? Он обнял ее обеими руками, заключил в кольцо, и Флеммхен сжалась и положила голову ему на грудь; под тонким шелком пижамы она чувствовала тощие ребра Крингеляйна.
– Дома меня не понимают. Дома все плохо. С матерью и сводной сестрой вечно одни неприятности. Я уже больше года сижу без постоянной работы. Надо же как-то начинать. Говорят, что для службы где-нибудь в конторе я слишком хорошенькая. У меня из-за этого везде выходили скандалы. Крупные фирмы не любят брать на работу девушек, которые слишком хорошо выглядят, и это правильно. В манекенщицы я не гожусь, слишком крупная, а им нужен сорок второй размер, в крайнем случае сорок четвертый. А киностудия… ну, я не знаю, что там у них… Наверное, я недостаточно кокетлива. Потом-то это ничего, даже хорошо, а вначале надо кокетничать. Но я еще пробьюсь. Я пробьюсь. Только вот стареть нельзя, мне уже девятнадцать, время идет, как бы не опоздать. Говорят, из-за денег нельзя связываться со всякими генеральными директорами. Наоборот – только из-за денег и стоит связываться! И я ничего, ну ровным счетом ничего приятного в этом не нахожу. Я же все равно остаюсь такой, какая я есть. Не убудет меня, если я с кем-то проведу время. Когда целый год нет работы и бегаешь на актерскую биржу или по объявлениям, и белье износилось, и надеть нечего, а ты видишь, какие вещи лежат на витринах, – я не виновата! Я хочу хорошо одеваться, такой у меня идеал. Новое платье – это же такая радость, ты себе не представляешь! Иногда целый день придумываю, какие я хотела бы иметь новые платья. И еще, я обожаю путешествовать. Путешествия! Куда-нибудь поехать, посмотреть другие города… Дома все плохо, уж можешь поверить. Я не нытик, у меня хороший характер, я терпеливая. Но иногда прямо так и бежала бы из дома куда глаза глядят. С первым встречным паршивцем. Из-за денег… Ну да, конечно, из-за денег. Деньги очень, очень много значат, а кто говорит, что это не так, тот врет. Прайсинг обещал мне тысячу марок. Большие деньги. На них я какое-то время перебилась бы. А теперь этого не будет. Опять осталась ни с чем. А дома просто кошмар.
– Знаю. Представляю. Очень хорошо все представляю, – сказал Крингеляйн. – Дома одна дрянь. Только имея деньги, можно жить по-человечески. Даже воздух не такой, каким он должен быть, если нет денег. Нельзя проветривать комнаты, как же, ведь тепло уйдет! Нельзя мыться вволю, потому что горячая вода – это расходы на уголь, опять-таки деньги. Бритвенные лезвия у тебя старые, бриться трудно. На белье экономишь – скатерти нет, салфеток нет. На мыле тоже экономишь. Щетка для волос давно вытерлась, кофейник треснул, пришлось залудить, ложки черные. В подушках комья, потому что они старые, из дрянного пера. Сломанные вещи так и не отдашь починить, не на что. Да еще плати страховку. И ведь не подозреваешь даже, что живешь не так, как надо, думаешь, так все и должно быть.
Крингеляйн прижался щекой к затылку Флеммхен. Так они вдвоем служили литургию бедняков, мерно покачиваясь в такт монотонным словам. Оба были уставшие и перевозбужденные, оба как в полусне.
– Маленькое зеркальце разбилось, – подхватила Флеммхен, – а новое купить – нет денег. Спать приходится за ширмами на раскладушке. В комнате все время пахнет газом. С квартирным хозяином что ни день – ругань. Попрекают едой, ведь ты не можешь дать денег на продукты, когда нет работы. Но меня не одолеют, нет, не одолеют, – вдруг упрямо сказала Флеммхен, высвободившись из рук Крингеляйна, и села в постели так резко, что одеяло чуть не свалилось на пол. Теплая, с юной кожей – Крингеляйн ощущал ее тепло как чудесный, драгоценный подарок. – Я пробьюсь, – сказала Флеммхен и в первый раз за все время сдунула со лба прядь волос. Это было как бы знаком того, что к ней снова вернулись легкомыслие и внутренняя жизненная сила. – Не нужен мне генеральный директор. Я и так пробьюсь.
Крингеляйн перебрал целую цепочку трудных мыслей, а дойдя до ее конца, попытался выразить мысли словами.
– Вот это, насчет денег – я это заметил только в последние дни, – заговорил он запинаясь. – Становишься совсем другим человеком, когда у тебя есть деньги, когда можешь что-то себе купить. Но что можно купить такое – я не подозревал.
– Что – «такое»? – Флеммхен улыбнулась.
– Ну… Такое. Такое, как ты. Такое… Совершенно прекрасное. Такое великолепное. Люди вроде меня даже не догадываются, что на свете есть такое. Мы ничего не знаем, не видим, а думаем, что все – брак и все остальное с женщиной – должно быть убогим, жалким и безрадостным. Или второсортным, как здесь, в Берлине, в разных заведениях. Но когда ты сейчас лежала тут без сознания, я почти не осмеливался смотреть на тебя. Господи, как это красиво. Господи, Господи, Боже, как красиво! И это существует, подумал я. Господи, это существует, чудо существует, чудо…
Да, вот что случилось с Крингеляйном. Он сидит на краю кровати и говорит не как младший бухгалтер сорока семи лет от роду, а как влюбленный. Его затаившаяся нежная и беспомощная душа выбирается из кокона и расправляет маленькие чистые крылышки. Флеммхен сидит, обхватив руками колени, и слушает Крингеляйна с удивленной и недоверчивой улыбкой. Иногда горло у нее сжимается, как у ребенка, который долго плакал. Крингеляйн не молод, не красив, не шикарен, он не здоров, не силен, у него нет ни одного достоинства любовника. И если его запинающаяся, нескладная речь, косые, блестящие от возбуждения глаза, робкие прикосновения, которые замирают на полпути в воздухе, все же произвели впечатление на Флеммхен, то причина этого лежит, по-видимому, где-то глубоко. Наверное, причина – знание бед и горестей, неотступное, страстное желание сделать полный глоток жизни и молчаливая готовность к смерти – наверное, все это вместе делает развалину в полосатой голубой пижаме человеком мужественным и достойным любви.








