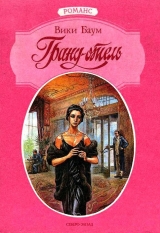
Текст книги "Гранд-отель"
Автор книги: Вики Баум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Распорядитель с довольно кислой миной отвлек прищурившегося, косящего, чуть не загипнотизированного Крингеляйна, бой проводил его к хмурому однорукому инвалиду, который служил лифтером, тот доставил Крингеляйна наверх.
216-й и 218-й номера были самыми плохими во всем отеле. 218-й занимал доктор Оттерншлаг. Постоянный жилец, он не располагал большими средствами, однако жил в таком плохом номере главным образом потому, что ему было совершенно все равно, где жить, он никогда не требовал, чтобы ему предоставили что-то получше. 216-й номер находился рядом, обе эти комнаты были втиснуты между служебным лифтом, выходившим на четвертую кухонную лестницу, и ванной комнатой четвертого этажа. За стеной в водопроводных трубах булькала и журчала вода. Крингеляйн, которого мимо зеленых уголков с пальмами, мимо бронзовых светильников и охотничьих натюрмортов отвели в самые неприглядные закоулки отеля, медленно, разочарованно вошел в комнату. Дверь отперла некрасивая пожилая горничная.
– Двести шестнадцатый номер, – объявил бой, поставил на пол чемодан, подождал, не дадут ли монетку, не дождался и оставил безмолвного Крингеляйна в одиночестве. Крингеляйн сел на кровать и оглядел свой номер.
Он был длинный и узкий, с одним окном, пахло здесь застоявшимся сигарным дымом и мокрой тряпкой, которой горничные протирали полки в шкафу. Ковер на полу был тонкий и потертый. Мебель – Крингеляйн пощупал дерево – из полированного ореха. Такая же мебель была и в Федерсдорфе. Над кроватью висел портрет Бисмарка. Крингеляйн покачал головой. Нет, он ничего не имел против Бисмарка, но ведь Бисмарк у него и дома висит. Он смутно ожидал, что в Гранд-отеле увидит над кроватью не этот портрет, а какие-нибудь яркие, пышные, необычайные полотна, на которые приятно смотреть. Крингеляйн подошел к окну и выглянул на улицу. Внизу было совсем светло – свет шел от стеклянной крыши зимнего сада, что находился во дворе отеля. Прямо впереди высилась бесконечная голая глухая стена. Пахло кухней – противный жирный запах поднимался прямо к окну 216-го номера. Внезапно Крингеляйн почувствовал дурноту и, чтобы не упасть, уцепился за столик возле умывальника. «Я ведь не совсем здоров», – печально подумал он.
Он снова сел на кровать, даже не откинув вылинявшее покрывало. Тоска нарастала с каждой секундой. «Не останусь здесь, – думал он. – Ни за что, ни при каких условиях. Не за этим я сюда приехал. Ради этого не стоило ехать в такую даль. Нельзя, чтобы все началось вот так. Нет у меня времени, чтобы жить в таких номерах. Да они же меня обманули! Наверняка в этом отеле есть совсем другие апартаменты. Прайсинг живет совсем в других апартаментах. Прайсинг не потерпел бы подобного обхождения. Прайсинг устроил бы им скандал – ого! какой скандал он закатил бы. Если бы Прайсингу предложили такой номер, как этот… Нет. Я здесь не останусь». Крингеляйн подвел итог. Сосредоточился. На это ушло несколько минут. Затем он звонком вызвал горничную и устроил скандал.
Если учесть, что Крингеляйн устроил скандал в первый раз за всю свою жизнь, то надо признать, он справился с делом не так уж плохо. Горничная в белом передничке испугалась и привела в номер начальницу – без белого передничка. В коридоре мелькнул распорядитель; бежавший мимо официант с подносом, на котором стояли блюда с холодными закусками, остановился перед дверью 216-го номера и прислушался. По телефону связались с Роной, Рона велел передать недовольному постояльцу, что его просят спуститься вниз, к администратору; о претензиях следовало известить директора, одного из четырех директоров отеля. Крингеляйн с немыслимым упрямством, словно одержимый, настаивал, чтобы ему предоставили хороший, дорогой, комфортабельный номер, такой же или лучший, чем тот, что зарезервирован для Прайсинга. Похоже, что имя «Прайсинг» было для него чем-то вроде магического заклинания. Он все еще не снял пальто и, сунув дрожащие руки в карманы, где так и лежали черствые раскрошившиеся бутерброды, стиснул кулаки, он страшно косил глазами и требовал предоставить ему хороший, дорогой номер. Ему было горько и обидно до слез. В последние недели он стал слезливым – по вполне определенным причинам, связанным с состоянием его здоровья. И вдруг, когда Крингеляйн уже готов был пойти на попятный, он победил. Ему предложили поселиться в семидесятом номере, люксе с альковом и ванной, за 50 марок в сутки. Услыхав цену, он слегка прищурился. Однако согласился:
– Хорошо. С ванной? Вы хотите сказать, я смогу купаться в любое время, когда только захочу?
Граф Рона кивнул с невозмутимой миной. И вот Крингеляйн вторично совершил свой въезд в Гранд-отель.
70-й номер был именно такой, как надо. Тут стояла мебель красного дерева, трюмо, стулья с шелковой обивкой, резной письменный стол, на окнах висели кружевные занавеси, на стене – натюрморт с фазанами, на кровати – пуховое атласное одеяло: Крингеляйн трижды, не веря глазам, подходил и щупал мягкий гладкий и теплый шелк. На письменном столе стоял солидный бронзовый прибор – над двумя пустыми чернильницами восседал, охраняя их, орел, простерший могучие крылья.
За окном моросил холодный мартовский дождь, клубились пары бензина, ревели автомашины, над фасадом дома напротив бежали огоньки световой рекламы, вспыхивали красные, синие и белые буквы. Как только загоралась последняя, вся надпись гасла, и тут же снова бежала буква за буквой – Крингеляйн смотрел на них никак не меньше пяти минут. Внизу чернели мокрые зонтики, мелькали светлые женские ноги, проезжали желтые автобусы. Там, внизу, было даже дерево – оно поднимало к небу ветви совсем недалеко от отеля, не такие ветви, как те, что были у деревьев в Федерсдорфе. У этого берлинского дерева был свой островок земли посреди асфальта, специально окруженный железной оградой маленький островок, словно дерево нуждалось в защите от города. Крингеляйн, очутившийся вдруг среди столь многих незнакомых и поразительных вещей, почувствовал дружеское расположение к этому дереву. Потом он прошел в ванную и там некоторое время в беспомощной растерянности глядел на неведомые никелированные устройства, но в конце концов все-таки сообразил, что нужно сделать, чтобы пошла горячая вода. Он разделся. Видеть свое исхудавшее слабое тело в этом светлом, облицованном кафельной плиткой помещении было не слишком приятно. Но зато потом он пролежал в ванне добрую четверть часа, и его боль утихла – в самом деле, боль, которая мучала его уже несколько недель, вдруг отступила. Ведь он так хотел, чтобы эта боль хоть на какое-то время оставила его в покое…
Около десяти часов вечера Крингеляйн, приодевшийся, то есть в кургузом пиджачке с высоким стоячим воротником и черным галстуком, растерянно бродил по холлу. Он теперь не ощущал ни малейшей усталости – напротив, все чувства обострились, им овладело лихорадочное возбуждение. «Вот теперь, теперь начнется», – неотступно думал он, и при этой мысли его худые плечи вздрагивали, как у нервной собаки. Он купил цветок, сунул его в петлицу, потом с наслаждением прошелся по малиновому ворсу ковра, сообщил портье, что в его номере нет чернил в чернильницах. Бой проводил его в специальное помещение. Как только Крингеляйн очутился среди письменных столов и конторок, в таком знакомом свете ламп под зелеными абажурами, вся его самоуверенность мгновенно улетучилась: он вынул руки из карманов брюк и сгорбился, втянув голову в плечи. Потом привычным движением оправил белые манжеты и сел за стол. Вскоре он уже писал четким бухгалтерским почерком с крупными росчерками:
«В управление наемных служащих АО «Саксония», хлопчатобумажные текстильные изделия, Федерсдорф.
Уважаемые господа! – писал Крингеляйн. – Настоящим нижеподписавшийся почтительно уведомляет, что, согласно прилагаемому к сему медицинскому свидетельству (Приложение 1), является нетрудоспособным с сегодняшнего дня сроком на четыре недели. Причитающееся мне жалованье за март месяц с. г. прошу выплатить моей жене Анне Крингеляйн, проживающей по адресу: Банштрассе, 4, согласно прилагаемой к сему доверенности (Приложение 2). В случае невозможности по состоянию здоровья продолжить выполнение служебных обязанностей по истечении вышеозначенных четырех недель, своевременно извещу вас об этом. С уважением
Отто Крингеляйн».
«Анне Крингеляйн. Федерсдорф, Саксония, Банштрассе, 4.
Дорогая Анна! – написал Крингеляйн, красиво закруглив заглавное «а». – Дорогая Анна, сообщаю тебе, что обследование у профессора Зальцмана принесло не слишком благоприятный для меня результат. Прямо отсюда я должен ехать в санаторий, за счет больничной кассы. Сейчас улаживаю кое-какие формальности с оплатой. Временно снял комнату, очень недорого, там, где рекомендовал наш генеральный директор – г-н П. Подробнее напишу в ближайшие дни, сейчас предстоит еще одно рентгеновское просвечивание, и тогда будет установлен окончательный диагноз.
Всего наилучшего.
Твой Отто».
«Г-ну нотариусу Кампману. Федерсдорф, вилла «Роза»», Мауэрштрассе.
Дорогой друг и собрат по вокальному искусству! – так начал Крингеляйн третье письмо, выводя слова тщательным, разборчивым почерком, чуть скосив глаза на кончик пера. – Должно быть, ты немало удивишься, когда получишь от меня такое длинное письмо, да еще из Берлина! Дело в том, что мне нужно сообщить тебе о некоторых довольно серьезных переменах в моей жизни. Я довольно рассчитываю на твое сочувственное отношение и профессиональное умение хранить тайны. К сожалению, мне трудно излагать свои мысли на бумаге, но надеюсь, что ты, с твоей широкой образованностью и богатым жизненным опытом, поймешь меня правильно. Как ты знаешь, после операции, которую мне сделали прошлым летом, мое здоровье так по-настоящему и не улучшилось. Я не возлагал серьезных надежд на нашу больницу и нашего доктора. Поэтому я снял со счета полученное мной наследство (покойного отца) и на эти деньги уехал в Берлин, чтобы обследоваться и узнать, чем же я болен. Увы, дорогой друг, дела мои плохи. Профессор считает, что жить мне осталось совсем недолго…»
Крингеляйн перестал писать и с минуту просидел неподвижно, держа перо над бумагой. В последнем предложении он забыл поставить точку. Его усы, замечательные председательские усы, слегка подрагивали, но он мужественно продолжил письмо:
«Конечно, получив такой диагноз, теряешься. Вот и я много ночей не спал, все раздумывал. И пришел к выводу, что незачем мне возвращаться в Федерсдорф. Те недели, что мне остались, я хочу прожить по-человечески, насколько хватит сил. За всю свою жизнь я ничего на свете не видел и теперь, в 46 лет, должен сойти в могилу – это несправедливо. Ведь я всегда только и делал, что экономил, а в жизни имел одни заботы да неприятности: на фабрике – из-за г-на П., дома – с женой. Это неправильно, несправедливо: жизнь кончена, а человек так и не знал настоящей радости. К сожалению, дорогой друг, мне не удалось точно выразить свою мысль. Короче, сообщаю тебе, что мое завещание, которое я составил летом, перед тем как идти на операцию, в целом остается в силе, но в него следует внести ряд новых условий. Дело в том, что все мои сбережения я перевел в берлинский банк и, кроме того, взял значительный кредит под свою страховку. Еще у меня есть 3 500 марок наличными – моя доля отцовского наследства. На эти деньги я могу прожить несколько недель как богатый человек. И я это сделаю. Почему только прайсинги живут по-человечески, а наш брат вечно остается в дураках, считает каждый грош и откладывает на черный день? Итого: у меня 8 тысяч 500 марок. Если от этих денег что-то останется, пусть их унаследует Анна, больше я ей ничего не должен: так я считаю, потому что она здорово отравила мне жизнь своим сварливым характером, и даже детей у нас нет. Я буду держать тебя в курсе дел, сообщу также о моем местожительстве. Но помни, что профессиональный долг обязывает тебя хранить все в тайне. Берлин – очень красивый город. С тех пор как я был здесь последний раз, много лет тому назад, он вырос просто на удивление. Хотелось бы еще в Париж съездить, ведь я знаю французский благодаря тому, что вел деловую переписку нашей фирмы с французами. Как видишь, я не сдаюсь и чувствую себя гораздо лучше, чем когда-либо в последнее время.
С дружеским сердечным приветом, твой верный Морибундус [2]2
Moribundus – находящийся при смерти, умирающий (лат.).
[Закрыть],
Отто Крингеляйн.
P. S. В хоровом обществе скажи, что я отправился в санаторий для служащих нашей фирмы».
Крингеляйн перечитал все три письма, их текст он обдумал заранее, довольно давно, в бессонные ночи. Он был не вполне доволен написанным: в письме к нотариусу как будто осталось не высказанным что-то важное, но он не мог уловить, что именно. При всей своей беспомощности и скромности Крингеляйн был далеко не глуп, он был идеалистом и стремился к знаниям. Придумав себе шутливое прозвище Морибундус – «умирающий», он имел в виду афоризм, который вычитал в одной книге. Он взял ее в библиотеке, осилил с изрядным трудом, а затем в серьезных беседах с другом нотариусом долго уяснял смысл прочитанного. С самого раннего детства Крингеляйн жил заурядной жизнью, какой живут мелкие служащие, довольно монотонной, не знающей вдохновения, бессмысленной, текущей впустую жизнью маленького человека в маленьком городке. Он рано и без большой любви женился, взяв в жены некую фройляйн Анну Зауэркац, дочь торговца бакалеей и колониальными товарами. Со дня помолвки и до свадьбы эта девушка представлялась ему очень хорошенькой, но вскоре она стала вызывать у него отвращение. Анна оказалась злой и жадной, она была сплошной клубок мелочных придирок и огромных претензий. Крингеляйн получал в «Саксонии» твердое жалованье, которое увеличивалось ненамного каждые пять лет, а поскольку здоровьем он никогда не блистал, жена и ее родственники с первых же дней супружества заставили его жестоко экономить буквально на всем, заботясь о некоем туманном «обеспеченном будущем» Анны. Пианино, о котором он с детства страстно мечтал, так и осталось мечтой, маленькую таксу по кличке Фунтик тоже пришлось продать, когда повысился налог на содержание собак. На шее у Крингеляйна вечно краснел тонкий рубец, потому что его нежную болезненную кожу натирали изношенные до махров воротнички старых рубах. Иногда Крингеляйну приходило в голову, что жизнь его идет как-то не так, как-то неправильно, но почему – он не знал. Порой на спевках, когда его высокий, слегка вибрирующий, но приятный тенор взлетал выше голосов остальных хористов, он испытывал легкое радостно-окрыляющее чувство, словно и сам уносился куда-то вдаль. Порой он уходил вечером гулять по шоссе в сторону городка Микенау, сворачивал с дороги на обочину, перебирался через канаву и шел по меже среди полей; в хлебах слышался слабый шорох, когда же колосья касались его руки, он почему-то чувствовал необычайную радость. И когда в больнице ему дали наркоз, тоже началось что-то необычайное, что-то хорошее, но он забыл, что именно. Вот такими, в сущности, мелкими черточками бухгалтер Отто Крингеляйн отличался от множества себе подобных. Но эти мельчайшие черточки, а вместе с ними, возможно, и отравлявшие его организм токсины, послужили причиной того, что наш Морибундус явился сюда, в самый шикарный берлинский отель, и составил три письма, в которых черным по белому было написано о его неслыханно смелом, но весьма неубедительно аргументированном решении…
Когда Крингеляйн наконец неуверенно поднялся из-за стола и, держа в руке три запечатанных конверта, пошел к выходу в коридор, ему встретился доктор Оттерншлаг. Тот с любопытством поглядел на Крингеляйна, показав ему изуродованную сторону своего лица, отчего Морибундус не на шутку испугался.
– Ну как? Устроились? – вяло спросил Оттерншлаг. Он был в смокинге и смотрел уже не на Крингеляйна, а на острые носы своих лакированных туфель.
– Да, прекрасно устроился. Великолепно, – ответил Крингеляйн засмущавшись. – Благодарю вас. Покорнейше прошу принять мою благодарность. Ведь вы были так добры ко мне, что…
– Добр? Я? Отнюдь нет. Ах, вы о комнате… Чепуха. Я, видите ли, давно уже готовлюсь к отъезду, да лень мешает сняться с места. Этот отель – просто дыра. Если бы вы заняли мой номер, я сидел бы сейчас в скором поезде и катил в Милан или еще куда-нибудь. Совсем неплохо… Ну да все равно. В марте везде, в любом конце света отвратительная погода. Абсолютно безразлично, где ты в это время года находишься. С тем же успехом можно вообще никуда не уезжать.
– Должно быть, вы много путешествуете? – робко поинтересовался Крингеляйн. Любого из обитателей отеля он готов был считать золотым мешком или родовитым дворянином. – Позвольте представиться: Крингеляйн, – скромно добавил он с поклоном, исполненным провинциального изящества. – Вероятно, вы повидали свет?
«Сувенир из Фландрии» перекосила гримаса.
– Более или менее. Ничего особо интересного. Было, знаете ли, одно кругосветное путешествие. Индия… И еще кое-где побывал. – Оттерншлаг слегка усмехнулся, заметив жадный, голодный блеск в глазах за стеклами пенсне его собеседника.
– Я тоже намереваюсь совершить путешествие, – сказал Крингеляйн. – Наш генеральный директор господин Прайсинг каждый год путешествует. Вот совсем недавно он побывал в Санкт-Морице. В прошлом году на Пасху он со всем семейством отдыхал на Капри. Могу себе представить, как чудесно…
– У вас есть семья? – вдруг спросил Оттерншлаг и отложил в сторону газету. Секунд пять Крингеляйн колебался, потом ответил:
– Нет.
– Нет, – повторил Оттерншлаг, и в его устах это слово приобрело отзвук чего-то невозвратимого.
– Для начала я хотел бы посетить Париж. Говорят, это очень красивый город?
Оттерншлаг, в котором только что появился было проблеск тепла и участия, теперь, казалось, задремал. По нескольку раз в день на него внезапно накатывала такая вот слабость, и преодолеть ее он мог лишь одним тайным и предосудительным способом.
– В Париж лучше ехать в мае, – пробормотал он.
Крингеляйн быстро возразил:
– У меня не так много времени.
Внезапно доктор Оттерншлаг оставил Крингеляйна.
– Я должен подняться в номер. Надо прилечь, – сказал он, обращаясь не столько к собеседнику, сколько к себе самому, и Крингеляйн остался один со своими письмами в руках.
Газета, которую листал Оттерншлаг, лежала на полу, вся она была изрисована маленькими человеческими фигурками, и над каждой фигуркой был изображен крест. Крингеляйн тихой тенью выскользнул в коридор и смущенно направился к дверям ресторана, откуда негромко, но отчетливо доносились звуки протяжной, ритмично вибрирующей музыки, которые проникали сквозь все стены Гранд-отеля.
Занавес упал, – с глухим стуком тяжело ударился о сцену. Грузинская, только что с легкостью цветка порхавшая в окружении кордебалета, теперь, мучительно задыхаясь, медленно поплелась за кулисы. Почти теряя сознание, она вцепилась дрожащими пальцами в мускулистую руку какого-то рабочего сцены и с силой, как раненая, выдыхала воздух сквозь стиснутые зубы. Капли пота стекали с ее лба по толстому слою грима и собирались в морщинах возле запавших глаз. Аплодисменты слышались слабо, точно отдаленный плеск дождя, и вдруг шум приблизился – это означало, что занавес снова пошел вверх. Рабочий в противоположной кулисе с натугой вертел рукоять устройства, с помощью которого поднимался занавес. Словно бумажную маску, Грузинская надела на лицо улыбку и легко выбежала к рампе для поклонов.
Гайгерн, который весь вечер невыносимо скучал, просто из вежливости трижды лениво хлопнул в ладоши и начал пробираться со своего места в партере к одному из запруженных толпой выходов. В первых рядах партера и в райке кто-то из самых стойких поклонников кричал «браво» и аплодировал, но вся публика уже неумолимо устремилась в гардеробы. Со сцены, где стояла Грузинская, это выглядело как бегство, как легкая паника: бегущий прочь поток белых крахмальных манишек, черных фрачных спин, парчовых накидок – все текло в одном направлении. Она улыбнулась, высоко вскинула голову на тонком стебле шеи, шаг влево, шаг вправо, широко развела руки, поклонилась убегавшей публике. Занавес опустился, ударился о сцену. Балерины кордебалета не ушли со своих мест, дисциплинированно стояли в застывших позах – чувствовалась выучка.
– Занавес! Поднять занавес! – истерически крикнул Пименов, балетмейстер, который обычно руководил организацией успеха. Занавес поднимался очень медленно, рабочий у вертушки отчаянно крутил колесо. Несколько зрителей в партере, уже подойдя к самым дверям, остановились, улыбнулись со скучающими лицами, немного похлопали. Аплодировали кроме них только еще в одной ложе. Грузинская взмахнула рукой в сторону танцовщиц кордебалета, которые тем временем уже подбежали к ней слева и справа и замерли – белые нимфы в кисейной пене. Разнообразными жестами и поклонами Грузинская как бы передавала этим ничем не примечательным юным созданиям жалкие аплодисменты, предназначавшиеся ей, приме.
Несколько зрителей снова показались возле дверей – они уже надели пальто в гардеробе, но теперь вернулись и, посмеиваясь, наслаждались зрелищем провала. Дирижер Витте, старый немец, отчаянными жестами призвал музыкантов в оркестровой яме к повиновению, но те торопливо укладывали инструменты.
– Всем оставаться на местах! – трагическим шепотом приказал Витте. Как и Грузинскую, его била дрожь, лицо старика блестело от пота. – Оставаться на местах! Прошу вас, господа, не уходите! Может быть, сейчас будем бисировать «Весенний вальс».
– Напрасное беспокойство, – возразил фагот. – «Бисов» нынче не будет. На сегодня – все. Ну что, правду я говорю?
Действительно, аплодисменты стихли. Грузинская еще успела заметить в оркестровой яме огромный черный, широко разинутый рот хохочущего оркестранта, и тут стена занавеса упала, оградив ее от зрительного зала. Аплодисменты оборвались внезапно, и теперь по ту сторону занавеса воцарилось пугающее безмолвие, в тишине стало слышно, как шуршат по сцене шелковые туфельки белых кисейных нимф.
– Можно нам идти? – по-французски прошептала Люсиль Лафит, первая танцовщица кордебалета, в белую от пудры, вздрагивающую спину Грузинской.
– Да. Идите. Все идите. Идите к черту! – ответила Грузинская по-русски. Ей хотелось прокричать эти слова, но вместо крика из груди вырвалось то ли рыдание, то ли хриплый стон. Вспугнутая кисейная пена вихрем умчалась за кулисы. Огни рампы погасли, спустя несколько секунд Грузинская осталась на сцене одна и стояла, дрожа от холода в тусклом репетиционном освещении.
И вдруг в тишине раздался словно бы треск сухих ветвей или стук конских копыт – никакого сомнения, там, в опустевшем зрительном зале, кто-то аплодировал, кто-то в полном одиночестве бил в ладоши. Нет, никакого чуда не произошло: аплодировал импресарио Майерхайм, который в отчаянии пытался спасти спектакль этим дерзким вызовом. Он изо всей силы бил в свои звонкие ладоши, глядя на занавес с выражением фанатического восторга, бросая возмущенные взгляды на ложи ярусов, откуда слишком рано разбежались забывшие о своих обязанностях клакеры.
Барон Гайгерн первым в уходящей публике услышал одинокие аплодисменты и вернулся в зрительный зал – просто из любопытства, желая позабавиться. Живо стянув с рук перчатки, он энергично поддержал импресарио, и, когда еще не успевшие уйти клакеры и кое-кто из заинтересовавшихся зрителей вернулись из гардеробов в зал, Гайгерн топал ногами и аплодировал, как восхищенный студент. Несколько весело настроенных зрителей присоединились к нему. Началось невинное шутливое развлечение, и наконец в зале собралось человек шестьдесят, все они хлопали и вызывали Грузинскую.
– Занавес! Занавес! – срывающимся голосом закричал Пименов. Грузинская в волнении металась за кулисами.
– Михаэль! Где Михаэль? Михаэль должен выйти со мной! – кричала она смеясь, моргая ресницами с каплями пота и слез в густом синем гриме. Витте вытолкал из-за кулис танцовщика по имени Михаэль. Грузинская не глядя оперлась на его руку, которая была такой скользкой от пота, что трудно было держаться. Они вышли на середину сцены к суфлерской будке, раскланялись – две исполненные совершенной гармонии, подобранные под стать друг другу прекрасные человеческие особи. Как только занавес опустился, волнение Грузинской снова вырвалось на волю:
– Это ты все погубил! Ты во всем виноват! Ты провалил третий арабеск, с Пименовым никогда бы такого не случилось!
– Сжалься, Гру, помилуй, – прошептал Михаэль на своем смешном остзейском диалекте. Голос его прозвучал беспомощно. Витте быстро увел танцовщика в третью кулису, зажал ему рот сухой стариковской ладошкой и шепнул:
– Ради Бога, только не спорь! Сейчас лучше оставить ее в покое.
Теперь Грузинская выходила на аплодисменты одна. Всякий раз, когда занавес опускался, она давала волю гневу. Она осыпала всех страшной бранью, обзывала свиньями, собаками, паршивым сбродом, выругала Михаэля за пьянство, Пименова обвинила в еще более страшном пороке, пообещала уволить весь кордебалет, а дирижеру – огорченно молчавшему Витте – пригрозила, что покончит с собой из-за того, что он плохо выдержал темп. Все это время сердце у нее в груди билось, как усталая, нечаянно залетевшая в чужие края птица, слезы катились поверх нарисованной улыбки. Наконец осветитель поставил точку – опустил большой рубильник, и свет в зрительном зале погас. Нетерпеливый служитель накрывал ряды кресел серыми холщовыми дорожками. Занавес был опущен, рабочий, прежде крутивший вертушку подъемного устройства, ушел домой.
– Сколько, Сюзетта? – спросила Грузинская у пожилой женщины, которая набросила ей на плечи вылинявший, старомодный шерстяной халат и распахнула перед ней железную дверь за кулисами. – Семь? А я насчитала восемь. И семь выходов – тоже совсем неплохо. Но можно ли считать, что сегодня был успех?
Она раздраженно выслушала Сюзетту, которая уверяла, что сегодняшний вечер увенчался колоссальным успехом, почти таким же, какой мадам имела три года назад в Брюсселе. Помнит ли мадам? Мадам помнила. Как будто кто-то может забыть большой успех! Мадам сидела в тесной уборной, смотрела на электрическую лампочку в решетчатом проволочном колпаке над зеркалом и вспоминала. «Нет, сегодня было не так, как тогда, в Брюсселе», – подумала она, помрачнев, и почувствовала, что устала смертельно. Она раскинула мокрые от пота руки и ноги, как боксер, который после трудного раунда повалился на стул в углу ринга. Она сидела, а Сюзетта растирала ее махровым полотенцем, снимала с лица грим. Уборная представляла собой неуютное, слишком жарко натопленное помещение, грязноватое и тесное; здесь пахло старыми костюмами, терпкими туалетными эссенциями, гримом и сотнями измученных тел. Может быть, на несколько секунд Грузинская задремала, потому что она вдруг очутилась посреди выложенного каменными плитами вестибюля своей виллы на берегу озера Комо в Италии, но тут же снова вернулась к Сюзетте и снова почувствовала жгучую, гложущую неудовлетворенность сегодняшним вечером. Не было большого успеха, о нет. И что же это за жестокий и непостижимый мир, если такая балерина, как Грузинская, уже не имеет в нем успеха?
Никто не знал, сколько ей лет. В Берлине были старые русские аристократы – эмигранты, – они жили в меблированных комнатах в предместье Вильмерсдорф. Многие из них утверждали, что знают Грузинскую уже лет сорок, но это, конечно же, было преувеличением. Мировой ее славе было не меньше двадцати лет, никак не меньше, а двадцать лет успеха и славы – огромный, бесконечный срок. Старику Витте – а он был другом и верным спутником балерины с ее первых дней в театре – она иногда говорила:
– Витте, я такой человек, которому обязательно нужно тащить на себе непомерно тяжелую ношу, всегда, всю жизнь.
И Витте серьезно отвечал:
– Прошу вас, Елизавета Александровна, никогда не показывайте этого другим и вообще не говорите о тяжелом. В мире все стало таким тяжелым… Ваша миссия, Елизавета, если позволите так выразиться, – быть легкой. Вы уж, пожалуйста, оставайтесь такой, какая вы есть, иначе произойдет мировая катастрофа.
И Грузинская оставалась такой, какой была всегда. С восемнадцати лет ее вес был равен 96 фунтам, это помогло ей добиться успеха, этим же отчасти объяснялась и легкость ее танца. Партнеры Грузинской, привыкнув к необычайно легкой ноше, потом уже не могли танцевать ни с кем, кроме нее. Линия затылка, вся фигура, состоявшая, казалось, из одних суставов, сердцевидной формы личико ничуть не изменились с ее юных лет. Движения Грузинской напоминали взмах крыл благородной птицы. Даже ее улыбка и взгляд из-под тяжелых век сами по себе были высоким искусством. Вся энергия Грузинской была направлена к одной цели – оставаться такой же. И она не замечала, что как раз ее неизменность уже начала приедаться публике.
Может быть, публика ее любила бы такой, какой она была в жизни, такой, какой она сидела сейчас в своей уборной, – жалкая, нежная, усталая и немолодая женщина с грустными глазами, с маленьким измученным печальным и простым лицом. Если балет проходил без особого успеха, – а теперь такое иногда случалось, – Грузинская горбилась и мгновенно превращалась в старушку – семидесятилетнюю, столетнюю или еще старее.
В глубине комнаты Сюзетта жалобно запричитала по-французски, она стояла возле покрытого серым налетом умывальника, кран горячей воды не желал поворачиваться. Но в конце концов горячий компресс на лицо все же был положен, и балерина с наслаждением принимала живительное колкое тепло. В это время Сюзетта снимала с ее шеи жемчужное ожерелье – невообразимо прекрасное, прославившееся на весь мир украшение, память о временах великих князей.
– Можете положить в футляр, сегодня я больше его не надену, – сказала Грузинская, глядя из-под полуприкрытых век на розоватый блеск жемчужин.
– Не наденете жемчуг? Но, мадам, сегодня на банкете вам следует быть нарядной.
– Нет. Хватит. Довольно. Сделайте меня красивой без этого жемчуга, Сюзетта.
И с сосредоточенным выражением лица Грузинская предалась во власть эссенций, массажных щеток и гримировальных кисточек, которые так и замелькали в руках ее, как тень, блеклой верной помощницы. Грузинская собиралась на званый ужин, который давал в ее честь берлинский театральный клуб, и поэтому она серьезно и важно следила за тем, как Сюзетта разрисовывает ее лицо, нанося на него нечто подобное боевой раскраске древних инков, когда те шли на битву с врагом.
В коридоре, возле двери уборной, словно терпеливый страж или телохранитель, прохаживался взад и вперед Витте, он то и дело доставал из кармана жилета и нервно теребил свои старомодные карманные часы с крышкой. Лицо старого музыканта выражало озабоченность и огорчение. Спустя некоторое время к Витте присоединился балетмейстер Пименов, затем появился Михаэль, с блестящими от вазелина ресницами и густо напудренным лицом.








