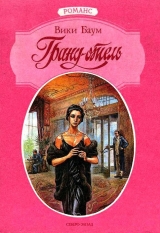
Текст книги "Гранд-отель"
Автор книги: Вики Баум
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Он с глубокой нежностью прикоснулся щекой к ее лицу, словно хотел отдать ей что-то от себя. В эту минуту он любил ее так сильно, так нежно, так сострадательно, что сам себе удивлялся. Он чувствовал себя чистым, порядочным и немного смешным из-за этой растроганности при виде бедной женщины, у которой отнял все ее тайны.
Отойдя от кровати, он несколько минут простоял перед зеркалом, нахмурившись, приоткрыв рот, глубоко задумавшись. Он взвешивал, нельзя ли все-таки оставить жемчуг у себя. Нет, это невозможно. Все же он дворянин, барон фон Гайгерн, пусть и несколько легкомысленный человек, попавший в дурную компанию, с долгами, конечно, но в остальном он все-таки человек порядочный. Если он уйдет из этой комнаты, унося в кармане жемчуг, то спустя час-другой обо всем узнает полиция, и с жизнью приличного человека будет кончено. Он станет самым обыкновенным вором, каких тысячи. Это совершенно не устраивало Гайгерна. То, что он стал любовником Грузинской, нарушило его планы, но факт оставался фактом: все теперь переменилось. Он взвешивал свои шансы, как привык взвешивать шансы спортсменов перед поединком боксеров или теннисным матчем. Предприятия, вроде похищения жемчуга, всегда были для него спортом, но во вчерашней борьбе ситуация сложилась неблагоприятным для него образом. Теперь жемчуг нельзя было украсть, его можно было только получить в подарок, если набраться терпения. «Обождем», – подумал Гайгерн и глубоко вздохнул. Как видно, его мысли отличались изрядной трезвостью и ясностью. Он не признался себе, что за ними скрывалось и нечто иное. Он не любил быть смешным, хотя бы и в собственных глазах, а сантиментов терпеть не мог. Взглянув в зеркало, Гайгерн скорчил рожу. «Одним словом, я не желаю красть драгоценности у женщины, с которой переспал, – подумал он. – Просто мне не хочется. Мне противно… Ну, все, точка».
«Неувяда, – вдруг подумал он с нежностью, – моя добрая Мона, мне гораздо больше хотелось бы подарить тебе что-нибудь, много разных вещей подарить, красивых, драгоценных, чтобы ты порадовалась, бедная моя». Он вытащил из кармана нити жемчуга – осторожно, бесшумно. Сейчас они совсем ему не нравились. Может быть, этот жемчуг все-таки не настоящий, хоть газеты и много о нем шумели? Может быть, он стоит не так дорого, как болтают? Во всяком случае, он расстается с ним без сожаления.
Грузинская начала просыпаться. Ее голова была окутана сном, точно плотными платками. «Это от веронала», – подумала она, не открывая глаз. В последнее время у нее появился страх перед пробуждением, страх удара – столкновения с жизнью, полной одних лишь неприятностей. Ей смутно подумалось, что в это утро ее ожидает что-то хорошее, какая-то радость, но она не сразу вспомнила, что же это. Она облизнула губы, поискала на них сонный и сухой вкус ночи. Сжала и разжала пальцы – так шевелится во сне собака, когда ей что-то снится. Тело Грузинской было усталым, разбитым, но глубоко удовлетворенным, словно после большого сценического успеха, после выступления со множеством бисов и вызовов, когда приходится выжимать из себя последние силы. Она почувствовала, что на ее закрытые глаза льется утренний свет, и на секунду ей почудилось, что она в Тремеццо, в своей розовой с серым спальне, где играет на стене отблеск моря и солнца. Она решилась открыть глаза.
Сначала она увидела чужое стеганое одеяло, прикрывавшее ее колени и вздымавшееся над ними, как гора, потом увидела гостиничные обои с красными тропическими плодами на тощих стебельках – узор, который отдавал бессмысленными и возбужденными взглядами множества видевших его глаз. Постылая жизнь на чемоданах намертво прилипает к таким обоям в гостиничных номерах. Угол комнаты, где стоял письменный стол, терялся в сумраке, циферблата часов Грузинская не смогла различить. Дверь балкона была распахнута, в нее вливалась прохлада. Рядом с туалетным столиком, напротив балконной двери, в полосе света Грузинская увидела черный силуэт высокого мужчины. Он стоял к ней спиной, широко расставив ноги, неподвижно и очень спокойно, опустив голову к чему-то, что, вероятно, держал в руках и чего Грузинской не было видно. «Да это же мне снится, – подумала Грузинская. Она все еще не проснулась по-настоящему и потому не испугалась. – Это ведь уже было со мной когда-то, – подумала она чуть позже. И наконец: – Ерылинков!» И вдруг сердце у нее застучало, как мотор, она сразу проснулась и все вспомнила.
Грузинская неслышно, но глубоко вздохнула, и вместе со вздохом к ней вернулись воспоминания ночи. Она подняла руку – рука была легкой; ей хотелось взмахнуть рукой и улететь. Она тайком нашарила под подушкой пудреницу и, сосредоточенно глядя в крохотное круглое зеркальце, принялась приводить себя в порядок. Тонкий запах пудры был приятен, она себе нравилась. Она чувствовала любовь к себе, чего не было уже много лет. Она обхватила руками свою грудь – привычное движение, но в это утро ей было особенно радостно почувствовать свое гладкое прохладное и довольное тело. «Бенвенуто, – сказала она мысленно и добавила по-русски: – Желанный». Вслух она ничего не произнесла, Гайгерн не мог ее услышать. Он стоял возле зеркала, высокий, широкоплечий, – «похож на одного из подручных палача на картине Синьорелли», восхищенно подумала Грузинская – и возился с какой-то вещью, которая находилась на туалетном столике. Грузинская села в постели и с улыбкой поглядела, чем же он так занят.
Он держал в руках маленький саквояжик, в котором лежал ее жемчужный гарнитур. Грузинская явственно услышала, как глухо щелкнул замок – хорошо знакомый ей негромкий щелчок. Это щелкнул замок синего бархатного футляра, в котором лежала нитка из 52 жемчужин средней величины. В первую секунду Грузинская не поняла, почему щелчок замка вызвал у нее смертельный испуг. Сердце замерло, потом ударило три раза, тяжело, гулко, и от каждого удара боль пронизала все ее тело – заболели и отвердели кончики пальцев. И губы. Но она все еще улыбалась, не сознавая, что улыбается, и улыбка застыла на ее лице, которое похолодело и побелело, как лист бумаги. «Так, значит, он вор», – отчетливо подумала Грузинская. Эта мысль, беззвучная и резкая, как удар ножом в сердце, поразила Грузинскую. Ей показалось, что она теряет сознание, ей хотелось потерять сознание, но, напротив, в ее мозгу за секунду пронеслось множество мыслей, режуще-острых, скрещивающихся, сталкивающихся со звоном, – мысли бились на шпагах.
Ошеломляющая смертельная обида, стыд, страх, ненависть, гнев и дикая боль. И сразу за тем – беспредельная слабость: не хочу видеть, не хочу знать, не хочу этой правды – хочу спасения, хочу милосердной лжи…
– Que faites-vous? [14]14
Что вы делаете? (фр.).
[Закрыть]– прошептала она, глядя на спину палача. Она думала, что крикнула, но с непослушных губ сорвался лишь шепот. – Что вы делаете?
Гайгерн испуганно обернулся к ней, и его испуг был красноречивей любого признания. Он держал в руке маленький квадратный футляр для кольца, саквояж стоял раскрытый, на стекле туалетного столика лежал жемчуг.
– Что ты там делаешь? – снова спросила Грузинская шепотом, и то, что на бледном неподвижном лице у нее застыла улыбка, выглядело достаточно жалко. И Гайгерн сразу понял эту женщину, и снова в нем всколыхнулась жалость, горячая жалость, от которой застучало в висках. К нему вернулось самообладание.
– Доброе утро, Мона, – сказал он весело. – А я тут нашел твои сокровища, пока ты спала.
– Как это – нашел мой жемчуг? – Голос у Грузинской звучал хрипло. «Солги, пожалуйста, солги!» – умоляли ее широко раскрытые глаза. Гайгерн подошел к ней и прикрыл ее глаза ладонью. «Бедное создание. Бедное создание – женщина».
– Я очень плохо себя вел, – сказал он. – Я рылся в твоих вещах. Искал пластырь или кусочек бинта, что-нибудь такое… Я вообразил, что в этом саквояже найдется что-нибудь подходящее. А там, оказывается, твои сокровища. Я – Алладин, очутившийся в пещере, где…
Даже глаза Грузинской утратили цвет, они были теперь точно из стали, но постепенно к ним начал возвращаться обычный иссиня-черный цвет. Гайгерн поднес к ее глазам пораненную, кровоточащую руку, как вещественное доказательство. Грузинская бессильно прижалась губами к его руке. Гайгерн погладил ее по волосам, привлек ее голову к своей груди. Он был способен обходиться с женщинами и жестоко, и подло, с теми женщинами, с которыми имел дело раньше. Но эта женщина – черт знает отчего – пробудила в нем все самое лучшее. Она была такой хрупкой, такой беззащитной, такой беспомощной – и вместе с тем такой сильной. Зная свою жизнь, в которой он постоянно балансировал по карнизу над пропастью, Гайгерн смог понять ее жизнь.
– Дурочка, – сказал он ласково. – Неужели ты подумала, что я нацелился на твои украшения?
– Нет, – солгала Грузинская. Две лжи создали мост, вновь соединивший любовников. – Кстати, я их больше не ношу, – добавила Грузинская со вздохом облегчения.
– Не носишь? Но почему же?
– Этого тебе не понять. У меня такая примета. Раньше жемчуг приносил мне счастье. Потом он стал приносить несчастье. А теперь, когда я перестала его носить, он снова принес мне счастье.
– В самом деле? – задумчиво протянул Гайгерн.
Он еще не преодолел неловкость и смущение. Жемчужины снова лежали в своих маленьких аккуратных футлярах. «Adieu! [15]15
Прощай! (фр.).
[Закрыть]До свидания!» – шутливо подумал Гайгерн. Потом сунул руки в карманы, где лежали его воровские орудия, где не было добычи. И на душе у него стало чертовски хорошо, легко и радостно. Он был счастлив, как дитя, и преисполнен чем-то новым. От радости он захохотал и весело завопил во все горло. Грузинская засмеялась. Гайгерн бросился к ней и обрушил на нее и свой вопль, и взгляд, и чувство. Она схватила его за руки, поцеловала их – смиренная благодарность этого жеста была и подлинной, и наигранной.
– Кровь идет, – сказала она, притрагиваясь к ссадине губами.
– У тебя губы мягкие, как у лошади, как у жеребенка, вороного жеребенка с отличной родословной.
Гайгерн опустился на колени и обхватил ее ноги у щиколоток, где под тонкой кожей играли сухожилия. Грузинская наклонилась к нему, и как раз в эту минуту вдруг со стороны письменного стола раздался трезвон – длинный звонок, короткий, опять длинный…
– Телефон.
– Телефон? – повторил Гайгерн.
Грузинская тяжело вздохнула. «Ничего не поделаешь» – было написано на ее лице, когда она медленно подняла трубку, будто та весила центнер. Звонила Сюзетта.
– Семь часов, – доложила компаньонка сипловатым со сна голосом. – Мадам пора вставать. Нам надо уложить вещи. Прикажете подать чай? Если мадам желает, чтобы я пришла ее массировать, то сейчас самое время. Господин Пименов просил, чтобы мадам позвонила ему, как только встанет.
Мадам задумалась:
– Через десять, нет, через пятнадцать минут, Сюзетта. Принесете мне чай, а массаж сократим.
Она положила трубку, но руку с нее не убрала, другую руку она протянула Гайгерну, который стоял рядом, покачиваясь с пятки на носок в своих мягких спортивных туфлях. Грузинская снова подняла трубку, на вызов отозвался портье в холле, голос у него был бодрый, хотя Зенф всю ночь не сомкнул глаз: дела у его жены в клинике шли, судя по всему, плохо.
– Назовите, пожалуйста, номер телефона, – четко попросил он.
– «В», Вильгельм, семь – ноль – десять! Попросить господина Пименова.
Пименов жил не в Гранд-отеле, а в дешевом пансионе, который содержала семья русских эмигрантов на пятом этаже доходного дома в районе Шарлоттенбург. По-видимому, там еще не проснулись. Грузинской пришлось ждать, и в эти минуты она ясно представила себе, как старик Пименов семенит по коридору в своем допотопном шелковом халате, увидела точно наяву его тонкие ноги, которые он ставил носками наружу, как в пятой позиции. Наконец Пименов откликнулся, послышался его слабый и неровный стариковский голос.
– Пименов, ты? Доброе утро, дорогой, доброе утро. Да, благодарю, спала хорошо. Нет, не слишком много, только два порошка приняла. Спасибо, все в полном порядке, сердце, голова, все в порядке. Что? Что случилось? У Михаэля мениск? Ах, Господи, да почему же ты вчера мне ничего не сказал? Какое несчастье! Ведь это надолго, очень надолго, уж я-то знаю… И что ты решил? Как? Почему ничего не предпринял? Надо немедленно дать телеграмму Чернову, слышишь? Немедленно! Пусть заменит Михаэля. Пусть Майерхайм все уладит. Где он, кстати? Сейчас же позвоню ему. Слишком рано? Позволь, дорогой мой, для нас не слишком рано, а импресарио и побеспокоить нельзя? Ничего, пускай привыкает. А что с декорациями? Их доставили на вокзал? Нет уж, пожалуйста, пусть работает первая смена. Когда она выходит на работу? В шесть… Если они не успеют отгрузить декорации, вы мне за это ответите, Пименов. Ни слова! Вы балетмейстер, декорации – ваша забота, а не моя. Да, не позднее, чем через полчаса. Полчаса я жду от вас доклада. К поезду поезжайте без меня.
На этот раз Грузинская вообще не положила трубку, нажала пальцем на рычаг. Позвонила Витте, который по утрам отличался крайней бестолковостью, а от хлопот перед отъездом, несмотря на то что много лет провел в турне и гастролях, становился просто больным. Витте все на свете путал и забывал. Потом Грузинская позвонила Михаэлю, тот жил в скромном маленьком отеле. Михаэль заскулил, как побитая собака, начал жаловаться на злосчастную судьбу, то есть на травму колена. Грузинская кричала, отдавала суровые приказания, распоряжалась, советовала. Она всегда злилась и негодовала, если кто-то из труппы заболевал. Она обзвонила трех докторов, нашла наконец врача, который согласился в семь часов утра поехать к Михаэлю, только чтобы прописать ему покой и согревающие компрессы с уксусом. Потом она позвонила Майерхайму, долго горячо спорила с ним по-французски и все же вызвала его для окончательного разговора в отель к половине девятого. Потом продиктовала по телефону телеграмму на имя Чернова и, на всякий случай, еще одну, на имя молодого и талантливого танцовщика, который сидел в Париже без ангажемента. Затем через портье Зенфа Грузинская уточнила расписание поездов: танцовщик должен был своевременно приехать из Парижа в Прагу, после этого она послала ему еще одну телеграмму.
– Пожалуйста, милый, открой в ванной горячую воду, – между разговорами бросила она Гайгерну и тут же обрушила в телефон пулеметную очередь распоряжений на английском языке: шофер Беркли должен был перегнать ее автомобиль в Прагу.
Гайгерн послушно пошел в ванную, открыл краны. Повесил ее купальный халат на трубу отопления, чтобы тот согрелся. Нашел в комнате губку, которой вытирал вчера вечером заплаканное лицо Грузинской, отнес в ванную. Грузинская все еще говорила по телефону. Он нашел ароматическую соль, высыпал в воду пригоршню. Ванна уже наполнилась. Ему хотелось сделать для Грузинской еще что-нибудь, но ничего больше не пришло в голову. Меж тем Грузинская, кажется, покончила с разговорами.
– И вот так каждый день, – сказала она. Эти слова должны были прозвучать жалобно, однако в них вместо жалобы слышалась бодрость, оживление и деловая хватка. – Всем я должна заниматься! А потом Михаэль скажет: вокруг Грузинской слишком много кривлянья. Кривлянье! Как будто мне все эти хлопоты в радость!
Гайгерн стоял перед нею и жадно ждал чего-то ласкового, какой-то близости; она протянула ему руки, но сама осталась при этом рассеянной. Мысли ее были заняты травмой Михаэля. И вот она снова услышала быстрое тиканье часов. Она живо схватила телефонную трубку и еще раз позвонила Сюзетте.
– Обождите еще десять минут, Сюзетта, – попросила Грузинская вежливо, чувствуя себя виноватой. Ее взгляд скользнул по столу, по чайной чашке, стоявшей там со вчерашнего вечера. Чашка была чисто вымыта, вид у нее был невинный и безобидный, золотой причудливый герб Гранд-отеля поблескивал на ее круглом боку «Какая безумная ночь, – подумала Грузинская. – Нет, подобные вещи недопустимы. И танцы, которые я вообразила сегодня ночью, танцевать нельзя. Это все – результат нервного перенапряжения. В Вене меня освистали бы, вздумай я станцевать такое вместо подстреленной голубки или танца мотыльков. Вена – это вам не Берлин! Там-то понимают, что такое настоящий балет!»
Пока эти мысли проносились в ее мозгу, она смотрела прямо в лицо Гайгерна, но ничего не видела. Гайгерну стало чуть больно – этой боли он раньше не знал, странная живая боль, внезапная, боль, от которой перехватило дыхание.
– Тимьян, неувяда! – тихо сказал он, отыскав эти слова в глубочайшем омуте ночи. В них был аромат – горьковатый и вместе с тем сладкий, ни с чем не сравнимый.
И в самом деле, услыхав эти слова, Грузинская вернулась к нему, в ее глазах появилось исступленное выражение страдания, хотя она улыбнулась.
– Сейчас нам придется расстаться, – нарочито громко, уверенным тоном сказала она, боясь, что иначе сорвется голос.
– Да, – ответил Гайгерн. В этот миг он полностью, окончательно, бесповоротно забыл о жемчуге. Он чувствовал лишь стесненность, скованность перед этой женщиной и бесконечное желание быть с нею добрым, добрым, добрым. Он растерянно повертел на пальце свой перстень с печаткой из лазурита, на которой был вырезан фамильный герб Гайгернов.
– Вот, это тебе, – он неловко, как мальчишка, протянул Грузинской перстень. – Чтобы ты меня не забыла.
«Разве я больше не увижу тебя?» – подумала Грузинская. При этой мысли в глазах у нее защипало, лицо Гайгерна расплылось. Эта мысль была из тех, которые она не осмеливалась высказать вслух. Она ждала.
«Позволь мне остаться с тобой. Я буду хорошим», – думал Гайгерн. Он упрямо сжал губы и не произнес ни слова.
– Сейчас сюда придет Сюзетта, – быстро сказала Грузинская.
– Ты едешь в Вену?
– Сначала в Прагу, там я пробуду три дня. Потом на две недели еду в Вену. Я остановлюсь в «Бристоле», – добавила Грузинская, помолчав.
Тишина. Тиканье часов. Гудки автомобилей на улице. Запах похорон.
– Ты не мог бы поехать со мной? Ты мне нужен, – наконец говорит Грузинская.
– Я… В Прагу я не могу поехать. У меня нет денег. Мне нужно достать денег.
– Я тебе дам, – говорит она быстро.
И так же быстро Гайгерн отвечает:
– Я не жиголо!
И вдруг они падают друг другу в объятия – что-то с силой бросает их друг к другу, они обнялись, они нерасторжимы в эту минуту, когда должны расстаться.
– Благодарю, – говорит и она, и он. – Благодарю, благодарю тебя – на трех языках: немецком, русском, французском, говорят запинаясь, плача, шепотом, навзрыд. – Благодарю тебя, благодарю, благодарю…
В эту минуту Сюзетта решительно забирает у недоумевающего официанта поднос с чайным сервизом. Семь часов двадцать восемь минут. Часы на письменном столе от перенапряжения остановились. «Вперед, вперед, вперед», – укоризненно тикают вторые часы.
– Значит, в Вене? – говорит Грузинская. Ресницы у нее мокры от слез. – Через три дня? Ты приедешь в Вену, а потом мы поедем в Тремеццо, ко мне, там будет прекрасно, чудесно. Устрою себе каникулы на полтора, нет, на два месяца. Мы будем жить – слышишь? – просто жить, ничего не будем делать, все бросим, бросим всю эту чепуху и будем просто жить, одуреем от безделья и счастья. А потом ты поедешь со мной в Южную Америку. Ты был когда-нибудь в Рио? Я… Ну все, хватит. Пора. Уходи. Уходи же! Спасибо.
– Самое позднее – через три дня, – говорит Гайгерн.
Грузинская вдруг снова принимает вид светской дамы.
– Постарайся пройти к себе незаметно. Иначе ты меня скомпрометируешь. – Она открывает обе двери в коридор. Гайгерн молча выпускает ее руку и ощущает при этом боль в своей руке. Снова показалась кровь из ссадины.
В коридоре пусто, множество дверей теряется в перспективе, на полу дремлют ботинки с высунутыми языками. Лифт едет вниз, на четвертом этаже кто-то быстро-быстро идет по коридору, наверное, боится опоздать на поезд. На лестнице открыто окно, сигарный дым вчерашнего вечера уплывает во двор. Гайгерн, мягко ступая по ананасам ковра своими спортивными туфлями, крадется к 69-му номеру и открывает дверь подобранным ключом. Настоящий ключ от номера для обеспечения алиби висит на гвоздике в холле, за стойкой портье.
Приняв ванну, Грузинская отдается во власть Сюзетты. Она чувствует себя сильной, гибкой, полной энергии. Ей безумно хочется танцевать, она с нетерпением ждет своего следующего выступления. Она чувствует, что будет иметь успех, в Вене у нее всегда был успех, она чувствует успех каждой клеткой своего тела, в руках и ногах, в гордо выпрямленной спине, в губах, которые то и дело невольно улыбаются. Одеваясь, она вертится, как волчок, который подгоняют хлыстиком. С необычайным подъемом берется она за работу, спорит с импресарио, вступает в тайную борьбу с интриганами из труппы, терпеливо обсуждает разные вещи с Пименовым и Витте.
В 10 часов бой приносит букет роз. «До встречи, любимые губы» – написано на листке с гербом отеля. Грузинская целует перстень с гербом Гайгернов. «Porte bonheur» [16]16
На счастье (фр.).
[Закрыть], – шепчет она ему, как доброму другу. Теперь у нее снова есть талисман, который приносит удачу. «Михаэль прав. Отдам жемчуг детям бедняков», – думает она. Сюзетта берется руками в нитяных перчатках за ручку саквояжика с жемчугом, выносит из номера вещи. Грузинская хладнокровно покидает номер, где так много пережито, номер с обоями, рисунок которых так сильно действовал ей на нервы. В Праге уже заказан для нее номер в «Империале», в Вене – в отеле «Бристоль» ее постоянный номер, 184-й, с окнами во двор, с ванной. И другие номера – в Париже и Рио-де-Жанейро, в Лондоне и Буэнос-Айресе, в Риме, – ее ждет бесконечная перспектива гостиничных номеров с двойными дверями, с горячей водой и неопределенным запахом неизвестности и чужого дома…
В десять минут десятого невыспавшаяся горничная лениво выметает пыль из 68-го номера, выбрасывает засохшие цветы, уносит чайную чашку и застилает постель свежим, еще чуть влажным после прачечной бельем – для нового постояльца…








